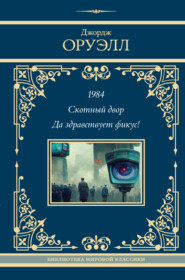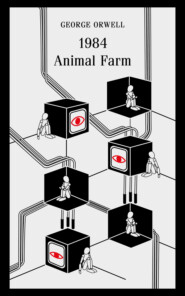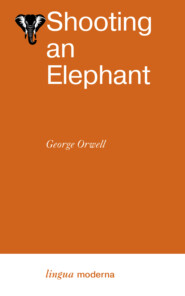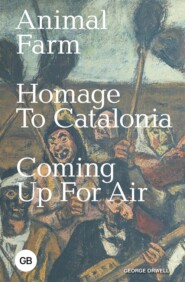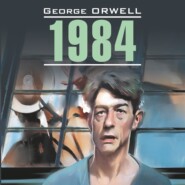По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Памяти Каталонии. Эссе (сборник)
Автор
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я уже провел три недели на передовой, когда ИЛП[18 - Independent Labour Party – Независимая лейбористская партия.] послала в Испанию группу из двадцати-тридцати человек. Они прибыли в Алькубьерре, и нас с Уильямсом отправили туда же с целью собрать англичан в одно подразделение. Новая «позиция» была в Монте-Оскуро, на несколько миль западнее предыдущей, вблизи Сарагосы.
«Позиция» располагалась высоко, на остром известняковом хребте, а блиндажи тянулись горизонтально по крутому склону, как гнезда береговых ласточек. Внутри глубоко вырытых блиндажей было темно, хоть глаз выколи, а потолки такие низкие, что даже на коленях толком не встать – не то что во весь рост. На вершинах слева от нас стояли еще два лагеря ПОУМ, один являлся предметом зависти всей передовой: там работали поварихами три женщины. Эти женщины не блистали красотой, и все же руководство сочло необходимым поместить этот лагерь подальше от мужчин с других «позиций». В пятистах ярдах справа от нас, у изгиба дороги на Алькубьерре, находился пост ПСУК. Именно там дорога меняла хозяев. Вечерами можно было видеть свет фар грузовиков, везущих нам продовольствие из Алькубьерре, и одновременно свет от фашистских машин, идущих из Сарагосы. Можно было видеть и саму Сарагосу в двенадцати милях к юго-западу – тонкую цепочку огоньков, похожих на святящиеся иллюминаторы парохода. Правительственные войска смотрели на нее отсюда с августа 1936 года, смотрят и теперь.
Нас было около тридцати человек, включая одного испанца (Рамона, шурина Уильямса), и еще дюжина испанских пулеметчиков. За исключением одного-двух неизбежных зануд, всем известно, что война притягивает разных подонков – англичане оказались хорошей командой и в физическом, и в умственном отношении. Пожалуй, лучшим из них был Боб Смилли – внук знаменитого шахтерского лидера, его кончина в Валенсии в более позднее время была тяжелой и бессмысленной. В пользу испанского характера говорит тот факт, что испанцы хорошо ладят с англичанами, несмотря на языковой барьер. Мы выяснили, что все испанцы знают два английских выражения. Одно их них: «о’кей, бэйби», а другое барселонские шлюхи говорят при общении с английскими матросами, боюсь, наборщикам не хватит духу его напечатать.
На линии фронта все по-прежнему было без перемен: только случайные выстрелы и, очень редко, треск фашистских минометов, услышав который все дружно бежали в высоко расположенную траншею, чтобы увидеть, где именно разорвутся снаряды. Теперь враг был немного ближе – на расстоянии трехсот-четырехсот метров. Ближайшее расположение фашистов было как раз напротив нашего, и амбразуры пулеметного гнезда постоянно искушали ополченцев, переводящих на них патроны. Фашисты редко стреляли из винтовок, зато, если кто-то из наших высовывался, целенаправленно били по нему пулеметным огнем. И все же прошло дней десять, а то и больше, прежде чем мы потеряли одного человека. Среди противостоящих нам войск были преимущественно испанцы, но дезертиры доносили, что там есть и несколько немецких сержантов. А еще недавно были и мавры – как, наверное, мучились от холода эти бедолаги! – на ничейной земле лежал убитый мавр, ставший одной из достопримечательностей этой местности. Так мы узнали об их присутствии на фашистской позиции. Слева, в миле или двух от нас, линия фронта прерывалась, там была густо поросшая лесом низина, не принадлежавшая ни нам, ни фашистам. И мы, и они устраивали там дневное патрулирование. Неплохое развлечение в духе бойскаутов, хотя лично я никогда не видел фашистский патруль ближе семисот метров. Впрочем, если долго ползти на животе, можно приблизиться к фашистскому лагерю почти вплотную и даже увидеть фермерский дом с монархистским флагом, где располагался неприятельский штаб. Иногда мы делали по нему несколько выстрелов и быстро уползали в укрытие, чтобы пулеметчики нас не нащупали. Надеюсь, нам удалось разбить несколько окон, однако штаб находился от нас в добрых восьмистах метрах, а с нашими винтовками не было уверенности, что мы на таком расстоянии попадем даже в дом.
Погода по большей части стояла холодная и ясная, иногда в середине дня показывалось солнце, но оно не грело. На склонах то тут, то там проклевывались зеленые побеги диких крокусов или ирисов; весна явно вступала в свои права, но делала это весьма неспешно. Ночи стали холоднее обычного. Выходя на дежурство в предрассветные часы, мы разгребали угли, сохранившиеся от вечернего костра, и вставали на них. Это было плохо для обуви, но хорошо для ног. Иногда великолепное зрелище рассвета в горах побуждало поскорее подняться даже в такое тяжелое время. Я не люблю горы, не люблю даже с живописной точки зрения. Но бывало, что утренняя заря, занимавшаяся позади нас среди горных хребтов, первые узкие золотые лучи, пронзавшие тьму, как мечи, нарастающий свет и наконец карминное море, разливавшееся повсюду, стоили того, чтобы ими любоваться, даже если ты не спал всю ночь, и ноги твои окоченели до колен, и в голове бродили мрачные мысли, что нет никакой надежды на еду, по крайней мере, еще три часа. За время этой войны я встречал восход солнца чаще, чем за всю мою предшествующую жизнь, и, надеюсь, за всю оставшуюся – тоже.
Мы испытывали недостаток в людях, что для всех означало долгие дежурства и приводило к нарастающей усталости. Мне тоже стало не по себе от постоянного недосыпа, чего нельзя избежать даже в военное затишье. Помимо дежурств и патрулирования, по ночам нас постоянно поднимали по тревоге, но даже без этого – разве можно хорошо спать в мерзкой земляной норе, где ноги сводит от холода? За первые три-четыре месяца пребывания на фронте я вряд ли насчитаю больше дюжины дней совсем без сна, но, с другой стороны, ночей, когда бы я спал нормальное время, тоже не больше. Впрочем, результат такого режима не так уж плох, как можно ожидать. Конечно, понемногу тупеешь, лазать по горам становится труднее, но в целом самочувствие хорошее и аппетит пробуждается зверский – еще какой зверский! Вся еда кажется баснословно вкусной – даже неизменная фасоль, которую в Испании все со временем начинают ненавидеть. Воду для нас (если эту жидкость можно назвать водой) привозили издалека на мулах или на маленьких измученных осликах. По непонятной причине арагонские крестьяне хорошо обращались с мулами и отвратительно – с осликами. Если ослик упирался и не шел, считалось обычным делом пнуть его в яички.
К нам перестали поступать свечи, и спички были на исходе. Испанцы научили нас, как из консервных банок с помощью оливкового масла, патронной обоймы и тряпья делать лампы. Когда у тебя было оливковое масло (что случалось не часто), сооруженная конструкция мерцала коптящим пламенем, в четыре раза более тусклым, чем свеча, и все же достаточным, чтобы разглядеть винтовку.
Надежды на настоящее сражение почти не осталось. Когда мы уходили из Монте-Посеро, я пересчитал оставшиеся патроны и выяснил, что почти за три недели выстрелил по врагу всего три раза. Считается, что на убийство одного человека нужна тысяча пуль; выходит, мне с такой скоростью потребуется двадцать лет, чтобы уложить моего первого фашиста. В Монте-Оскуро мы стояли ближе к неприятелю и стреляли чаще, но я нисколько не сомневаюсь, что ни в кого не попал. Откровенно говоря, на этом участке фронта и на этом этапе войны реальным оружием была не винтовка, а мегафон. При невозможности убить врага оставалось только его ругать. Этот метод ведения войны настолько необычен, что на нем стоит остановиться подробнее.
Расстояние между позициями позволяло докричаться друг до друга, и поэтому перекличка между траншеями была довольно интенсивная. «Fascistas – maricones!» — неслось из нашей. «Viva Espa?a! Viva Franco!»[19 - Да здравствует Испания! Да здравствует Франко! (исп.)] – отвечали фашисты, а узнав, что среди ополченцев есть англичане, прибавляли: «Англичане, катитесь домой! Нам здесь иностранцы не нужны». В правительственном лагере стали регулярно устраиваться сеансы пропагандистского ора с целью подорвать моральные устои противника. При каждом подходящем случае бойцы, обычно пулеметчики, выбирались для исполнения этого долга и обеспечивались мегафонами. Обычно они выкрикивали заранее составленные тексты, полные революционного задора, где говорилось, что солдаты, воюющие за фашистов, – наемники международного капитализма, идущие против собственного класса, и так далее. Солдат призывали перейти на нашу сторону. Все это повторялось изо дня в день, одни люди сменяли других, иногда агитация продолжалась и ночью. Несомненно, это давало некоторый результат, все соглашались, что тонкая струйка дезертиров из фашистского лагеря частично проистекала из этого источника. Представьте себе замерзающего на посту несчастного часового – возможно, социалиста или анархиста, призванного на военную службу против его воли, – несущийся из темноты призыв «Не иди против своего класса!» не может не произвести на него впечатления. Встанет вопрос: дезертировать или нет? Но подобные действия не вписываются в английскую концепцию ведения войны. Признаюсь, я сам был в шоке. Не драться с врагом, а переманивать на свою сторону – каково! Теперь я думаю, что это был вполне разумный маневр. В окопной войне, не имея артиллерии, трудно нанести неприятелю удар, не получив в ответ такой же. Если можно вывести какое-то число людей из военных действий, склонив их к дезертирству, тем лучше: дезертиры полезнее трупов – они дают нужную информацию. Но поначалу такой подход смутил нас, нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относятся к своей войне. Большим артистом в деле переклички оказался один из бойцов ПСУК. Вместо простого выкрикивания революционных лозунгов он начинал рассказывать фашистам, насколько лучше мы питаемся. Наш рацион при этом он заметно приукрашивал. «Хлеб с маслом!» – гремел в пустом пространстве его голос. «У нас хлеб с маслом не переводится. Такие аппетитные бутерброды с маслом!» Не сомневаюсь, что он, как и все мы, неделями, а то и месяцами не видел масла, но в эту холодную ночь не у одного фашиста слюнки потекли при мысли о хлебе с маслом. Потекли они и у меня, хотя я и знал, что он лжет.
Однажды в феврале мы увидели в небе фашистский аэроплан. Как положено, вытащили наружу пулемет, задрали дуло, а сами легли на спину, чтобы лучше видеть цель. На наше изолированное от других укрепление не стоило тратить бомбы, и потому редкие фашистские аэропланы обходили нас стороной, чтобы не попасть под пулеметный обстрел. Но в этот раз аэроплан пролетел прямо над нами на достаточной, недосягаемой для пулеметов высоте, и из него посыпались не бомбы, а белые блестящие листочки, крутящиеся на ветру. Несколько упало рядом с нами. Это были экземпляры фашистской газеты «Херальдо де Арагон», в которой сообщалось о сдаче Малаги.
Той ночью фашисты предприняли неудавшуюся атаку. Я, полумертвый от усталости, как раз валился спать, когда над головой засвистели пули и кто-то крикнул, заглянув в блиндаж: «Нас атакуют!» Я схватил винтовку и помчался на свой пост, находившийся на вершине укрепления рядом с пулеметом. Кромешную тьму разрывал адский шум. Думаю, в нас палили из пяти пулеметов, не меньше, и еще разорвалось несколько бомб, глупейшим образом брошенных фашистами за свои брустверы. Был полный мрак. В долине слева от нас я видел зеленоватые вспышки ружейных выстрелов, там небольшая группа фашистов, возможно, совершавших патрулирование, тоже примкнула к атаке. Вокруг в темноте со свистом пролетали пули. Несколько снарядов упали недалеко от нас, но никого не задели, и, что типично для этой войны, большинство из них не разорвалось. Однако мне стало не по себе, когда в нашем тылу сверху заработал еще один пулемет – впоследствии оказалось, что его доставили, чтобы нас поддержать, но тогда я решил, что мы в окружении. В результате наш пулемет заело, что происходило всегда, когда мы стреляли нашими испорченными патронами, а шомпол затерялся в темноте. Оставалось одно: неподвижно стоять и ждать, когда тебя пристрелят. Испанские пулеметчики считали ниже своего достоинства прятаться от пуль, более того, они сознательно открывались, и мне приходилось вести себя так же. Эта перестрелка была для меня интересным опытом. Строго говоря, я впервые оказался под огнем и, к своему стыду, здорово перепугался. Я заметил, что под сильным огнем такие ощущения переживаешь всегда – не столько оттого, что тебя могут ранить, сколько оттого, что не знаешь, куда именно тебя ранят. Из-за того, что ты постоянно думаешь, куда угодит пуля, твое тело обретает какую-то неприятную чувствительность.
Часа через два стрельба уменьшилась и вскоре совсем прекратилась. За это время мы потеряли одного бойца. Фашисты вытащили пару пулеметов на ничейную землю, но сохраняли достаточную дистанцию и не предпринимали попыток брать штурмом наши окопы. То, что происходило, даже нельзя было назвать атакой, они просто переводили патроны и шумно кричали, празднуя взятие Малаги. Главное, что извлек я из этого происшествия: надо недоверчиво относиться к военным новостям в прессе. Ведь через пару дней в газетах и по радио сообщили о грандиозной атаке с кавалерией и танками (это по отвесному-то горному склону!), которую отбили геройские англичане.
Мы не поверили фашистским листовкам, говорившим о падении Малаги, но на следующий день эти сведения пришли из более достоверных источников, а дня через два их признали официально. Мало-помалу стала известна вся постыдная история: город был сдан без единого выстрела, и ярость вошедших в город итальянцев обрушилась не на покинувших город солдат, а на несчастное мирное население – некоторых преследовали и обстреливали на протяжении сотни миль. Эта новость вызвала негодование на передовой. Неизвестно, что произошло на самом деле, но все в ополчении не сомневались, что тут не обошлось без предательства. Так я впервые услышал о возможных предательствах и внутренних разногласиях. Это посеяло в моем сознании первые смутные сомнения относительно этой войны, хотя до этого казалось абсолютно ясным, кто прав, а кто виноват.
Мы покинули Монте-Оскуро в середине февраля, откуда вместе с остальными частями ПОУМ отправились в распоряжение армии, окружившей Уэску. Пятьдесят миль нас везли в грузовиках по неприветливой равнине, где подрезанные виноградные лозы еще не пустили почки, а побеги озимого ячменя только пробивались сквозь комковатую почву. В четырех километрах от наших новых траншей сверкала и переливалась Уэска, словно маленький кукольный городок. Несколькими месяцами раньше, когда взяли Сиетамо, генерал, командующий правительственными войсками, весело пообещал: «Завтра мы будем пить кофе в Уэске». Но вышло так, что он ошибся. В многочисленных атаках было пролито море крови, но город так и не пал, а фраза «Завтра будем пить кофе в Уэске» стала у армейских притчей в языцех. Если когда-нибудь еще поеду в Испанию, обязательно выпью чашечку кофе в Уэске.
Глава 5
До конца марта к востоку от Уэски ничего не происходило – почти в буквальном смысле слова. От врага мы находились примерно в километре и двухстах метрах. Когда фашистов загнали в Уэску, республиканская армия, удерживающая эту часть линии фронта, не проявляла особого усердия в наступлении, образовав своего рода карман. Позднее ей пришлось-таки перейти в наступление – нелегкое дело под огнем противника, – но пока враг будто не существовал, нас больше заботило, как бы согреться и хорошо поесть. В этот период происходили очень интересные для меня вещи, и я расскажу о них чуть позже. Но сейчас, если я попытаюсь дать представление о внутренней политической ситуации в республиканской среде, это поможет точнее передать порядок событий.
Поначалу я игнорировал политическую сторону войны, и только потом она привлекла мое внимание. Если вам не интересны кошмары партийной политики, пожалуйста, пропустите этот кусок. Именно из таких соображений я стараюсь выделить политические размышления в отдельные главы. Но в то же время невозможно писать об испанской войне только с армейской точки зрения. Прежде всего это была политическая война. Ни одно событие в ней – во всяком случае, в течение первого года – не будет понятно, если не принимать во внимание внутрипартийную борьбу в правительственных кругах.
Приехав в Испанию, я какое-то время не то что не интересовался политической ситуацией, а вообще ничего о ней не знал. Идет война – вот все, что мне было известно, и я понятия не имел, что это за война. Если б меня спросили, с какой целью я вступил в ополчение, я бы ответил: «Бороться с фашизмом», а если б поинтересовались, за что именно я воюю, ответил бы: «За общее благо». Я принял версию изданий «Ньюс кроникл» и «Нью стейтсмен», где говорилось, что идет борьба за цивилизацию с маньяками-мятежниками во главе с полковником Блимпом[20 - Британский анимационный персонаж в 1930-е гг., символ глупости.], действующим по указке Гитлера. Революционная атмосфера Барселоны меня захватила, но я не предпринял никаких попыток разобраться в ситуации. Меня правда несколько раздражал калейдоскоп политических партий и профсоюзов со скучными названиями – ПСУК, ПОУМ, ФАИ, СНТ[21 - Confederaciоn Nacional del Trabajo – Национальная конфедерация труда. – Примеч. ред.], УГТ[22 - Union General de Trabajadores – Всеобщий союз трудящихся. – Примеч. ред.], ХСИ, ХСУ, АЛТ. На первый взгляд казалось, что Испания помешана на аббревиатурах. Я знал, что состою в объединении ПОУМ (в это ополчение я вступил, потому что прибыл в Барселону с рекомендациями от лейбористской партии), но даже не подозревал, что между политическими партиями республиканцев есть серьезные расхождения. В Монте-Посеро мои сподвижники сказали, указывая на «позицию» слева от нас: «Там социалисты». «А разве мы все не социалисты?» – озадаченно спросил я. Мне казалось большой глупостью, что люди, рискующие своей жизнью, принадлежат к разным партиям. «Почему бы не оставить этот политический треп и не сосредоточиться целиком на войне?» Эта общепризнанная антифашистская позиция усердно распространялась английскими газетами главным образом для того, чтобы люди не задумывались над подлинной природой этой борьбы. Но в Испании, особенно в Каталонии, такую позицию нельзя было поддерживать бесконечно долго. Каждый, пусть и против своего желания, в конце концов принимал какую-нибудь сторону. Ведь даже если тебе безразличны разные политические партии и их несовместимые линии, нельзя не понимать, что в их противостояние вовлечена и твоя судьба. Будучи ополченцем, ты воюешь против Франко и в то же время являешься пешкой в борьбе двух политических теорий. Когда я выискивал дрова на горном склоне, задаваясь вопросом, действительно ли идет война или все это измышления «Ньюс кроникл», или увертывался от пулеметных очередей коммунистов во время беспорядков в Барселоне, или бежал из Испании, преследуемый полицией, – все это происходило со мной, потому что я был ополченцем ПОУМ, а не ПСУК. Вот какова разница между двумя аббревиатурами!
Чтобы понять расстановку сил в республиканском лагере, надо вспомнить начало войны. Когда она вспыхнула 18 июля, каждый европейский антифашист почувствовал прилив надежды. Наконец демократия преградила путь фашизму. Ведь долгие годы так называемые демократические страны уступали фашизму одну позицию за другой. С их молчаливого согласия японцы творили что хотели в Маньчжурии. Пришедший к власти Гитлер тут же расправился со всеми политическими оппонентами. Муссолини бомбил абиссинцев, в то время как пятьдесят три страны (кажется, их было пятьдесят три) ханжески его поругивали. Но когда Франко попытался свергнуть умеренно левое правительство, испанский народ неожиданно восстал. Казалось – возможно, так и было – наступил поворотный момент.
Однако некоторые стороны не были учтены общественностью. Начать с того, что Франко нельзя однозначно сравнивать с Гитлером или Муссолини. Он поднял военный мятеж, поддержанный аристократией и церковью, целью которого было, особенно вначале, не утверждение фашизма, а реставрация феодализма. Так Франко восстановил против себя не только рабочий класс, но и некоторые слои либеральной буржуазии – то есть тех самых людей, которые поддерживают фашизм, когда он обретает более современную форму. Еще важнее то, что испанский рабочий класс оказывал сопротивление Франко не во имя «демократии» и статус-кво – как, возможно, было бы в Англии, – нет, это сопротивление сопровождалось – можно даже сказать, было – революционным бунтом. Крестьяне захватывали землю, профсоюзы взяли под свой контроль почти весь транспорт, церкви громили, а священников выбрасывали на улицу или убивали. «Дейли мейл», поддерживая католическую церковь, в то же время не гнушалась представить Франко патриотом, освобождающим свою страну от орды «красных злодеев».
В первые месяцы войны настоящим противником Франко было не столько правительство, сколько профсоюзы. На возникший мятеж организованные городские рабочие ответили всеобщей стачкой и потребовали – а потом с боем взяли – оружие из национальных арсеналов. Если б не их спонтанные и независимые действия, вполне возможно, что Франко не встретил бы никакого сопротивления. Полной уверенности в этом нет, но поразмышлять об этом стоит. Правительство не предприняло, по сути, никаких мер для предотвращения мятежа, хотя его можно было предвидеть, и когда грянул гром, оно действовало до такой степени вяло и нерешительно, что за один день пришлось сменить трех премьеров.[23 - Это случилось 19 июля 1936 г. (три премьера: Кисарес Кирога, Диего Мартинес Баррио и Хосе Хираль). Первые два отказались раздать оружие профсоюзам. – Примеч. авт.] Более того, единственный шаг, который мог переломить ситуацию, – вооружение рабочих, был предпринят неохотно и то после шумных народных протестов. Наконец оружие раздали, и в больших городах восточной Испании фашисты потерпели крупное поражение от объединенных сил – вооруженных рабочих и тех воинских частей, которые остались верны республике. Такой пыл в борьбе мог исходить только от людей, преследовавших революционные цели, они верили, что сражаются за нечто большее, чем статус-кво. Говорят, что в нескольких центрах сопротивления за один день на улицах погибли три тысячи человек. Мужчины и женщины, вооруженные одними только динамитными шашками, заполняли площади и брали приступом каменные здания, охраняемые обученными пулеметчиками. Пулеметные гнезда, расставленные фашистами в стратегических точках, вдребезги сносились такси на скорости шестьдесят миль в час. Даже если не знать о захватах земли крестьянами, о создании местных Советов и так далее, можно понять, что анархисты и социалисты, главная опора сопротивления, затеяли эти беспорядки не ради сохранения капиталистической демократии, которую они, особенно анархисты, считали централизованной партией по обману трудящихся.
Пока в руках рабочих было оружие, они не собирались сдаваться. (Подсчитано, что даже через год у анархо-синдикалистов Каталонии было 30 000 ружей.) Во многих местах крестьяне захватили поместья богатых, профашистски настроенных помещиков. Наряду с коллективизацией промышленности и транспорта, предпринимались попытки создать зачатки рабочего правительства в виде местных комитетов; рабочих патрулей, сменивших прежнюю полицию; рабочее ополчение на основе профсоюзов и так далее. Конечно, этот процесс был неоднородным, и в Каталонии он зашел дальше, чем где бы то ни было. Находились места, где местное управление почти не подверглось изменению, были и другие, работавшие совместно с революционными комитетами. Кое-где возникли независимые анархистские коммуны, некоторые просуществовали около года, а затем были насильственно упразднены правительством. В Каталонии в течение первых месяцев реальная власть находилась почти полностью в руках анархо-синдикалистов, которые контролировали большую часть промышленного производства. То, что началось тогда в Испании, было, по существу, не просто гражданской войной, а началом революции. Вот это зарубежная антифашистская пресса всячески замалчивала. Проблему сузили и определили как «фашизм против демократии», а революционный аспект происходящего сознательно скрывался. В Англии, где пресса более централизована, а читатель более доверчив, чем в других странах, существовали две версии испанской войны: одна принадлежит правому крылу и гласит: христианские патриоты против большевиков с обагренными кровью руками; другая – левому крылу: цивилизованные республиканцы против военного мятежа. Но главная проблема успешно утаивалась.
Этому было несколько причин. Прежде всего профашистская пресса распускала слухи о чудовищных злодеяниях республиканцев, а газетчики из лучших побуждений отрицали, что Испания становится «красной», считая, что тем самым помогают испанскому правительству. Но основная причина была не в этом: весь мир, кроме небольших революционных организаций, существующих во всех странах, был нацелен на предотвращение революции в Испании. В частности, коммунистическая партия, за которой стоял Советский Союз, резко высказалась против революции. Коммунисты утверждали, что на этом этапе революция обречена и стремиться надо не к государству рабочих, а к буржуазно-демократическому строю. Нет нужды объяснять, почему «либералы» из капиталистических стран заняли ту же позицию. Иностранный капитал инвестировал большие деньги в испанскую экономику. Например, в Барселонскую железнодорожную компанию англичане вложили десять миллионов, а тем временем профсоюзы конфисковали в Каталонии весь транспорт. Если бы революция продолжилась, никто не получил бы компенсацию или – очень небольшую, но, если бы верх взяла капиталистическая республика, инвестиции были бы спасены. А так как революцию в любом случае нужно подавить, проще притвориться, что она и не начиналась. Таким образом, подлинное значение событий скрывалось, каждый переход власти от профсоюзов к центральному правительству подавался как необходимый шаг в военной реорганизации. Ситуация становилась все более любопытной. За пределами Испании немногие понимали, что там вершится революция, а внутри страны, напротив, никто в этом не сомневался. Даже газеты ПСУК. Издания, контролируемые коммунистами, и те, что в разной степени поддерживали антиреволюционную политику, дружно говорили о «нашей славной революции». А тем временем коммунистическая пресса в зарубежных странах вопила, что в Испании нет никаких примет революции, нет ничего – ни захвата фабрик, ни создания рабочих комитетов и так далее, а если что и было, то это не имело «никакого политического значения». Как пишет «Дейли уоркер» от 6 августа 1936 года, те, кто говорит о том, что испанский народ сражается за социальную революцию или за что-то другое, кроме буржуазной демократии, – «отъявленные лгуны». А с другой стороны, Хуан Лопес, член правительства Валенсии, объявил в феврале 1937 года, что «испанский народ проливает кровь не за демократическую республику и ее конституцию, существующую только на бумаге… а за революцию». Так что получается, что в число «отъявленных лгунов» входили члены правительства, на чьей стороне нам предлагали воевать. Некоторые из зарубежных антифашистских газет опустились до жалкого вранья, сообщая, что на церкви нападают только в том случае, когда те являются оплотом фашистских сил. На самом деле церкви грабили повсеместно, прекрасно понимая, что испанская церковь – существенная часть капиталистического порядка. За шесть месяцев я видел в Испании только две не разграбленные церкви, и до июля 1937 года церкви не открывали и не разрешали проводить в них богослужения; это не касалось лишь одной-двух протестантских церквей в Мадриде.
Но все это было только началом революции, которая так и не свершилась. Даже когда рабочие, особенно в Каталонии, а возможно, и повсюду, обладали достаточной силой, чтобы свернуть или полностью заменить правительство, они этого не сделали. Понятно, что они и не могли этого сделать, когда Франко наступал им на пятки и его поддерживала часть среднего класса. Страна находилась на перепутье – могла развиваться как в направлении социализма, так и капитализма. Крестьяне захватили большую часть земли и, если перевес в войне не случился бы в пользу Франко, оставили бы ее себе; основное промышленное производство было коллективизировано и таким бы и сохранилось, если бы не восторжествовал капитализм. Все зависело от того, на чьей стороне будет победа. В начале войны можно было с полной определенностью сказать, что и Центральное правительство, и Генералитет Каталонии (полуавтономное каталонское правительство) представляли интересы рабочих. В правительство, возглавляемое Кабальеро, социалистом из левого крыла, входили министры, представлявшие УГТ (профсоюзы социалистов) и СНТ (профсоюзы синдикалистов, контролируемые анархистами). Генералитет Каталонии на какое-то время был практически заменен антифашистским Комитетом обороны[24 - Comitе Central de Milicias Antifascistas. Количество делегатов от каждой партии было пропорционально ее численности. Девять делегатов представляли профсоюзы, три – либеральные партии Каталонии и два – разные марксистские партии (ПОУМ, коммунистов и пр.). – Примеч. авт.], состоящим преимущественно из делегатов профсоюзов. Позже Комитет обороны был распущен, а Генералитет восстановлен и реформирован с тем, чтобы в него вошли представители профсоюзов и различных левых партий. С каждой последующей перестановкой правительство смещалось вправо. Сначала из Генералитета исключили ПОУМ; семь месяцев спустя на место Кабальеро поставили Негрина, социалиста из правого крыла; вскоре из правительства изгнали СНТ и УГТ; затем СНТ исключили из Генералитета. Таким образом, спустя год после начала войны и революции правительство уже целиком состояло из социалистов правого крыла, либералов и коммунистов.
Начавшийся крен в правую сторону датируется октябрем-ноябрем 1936 года, когда СССР стал поставлять правительству оружие и власть постепенно переходила от анархистов к коммунистам. Никто, кроме России и Мексики, не выразил желания помочь испанскому правительству, а Мексика по вполне понятным причинам не могла в большом количестве осуществлять поставки. В результате русские оказались в положении, когда могли диктовать условия. Мало сомнений в том, какими были эти условия: «Остановить революцию, или оружия больше не будет», мало сомнений и в том, что первый шаг против революционных элементов, исключение ПОУМ из Каталонского Генералитета, был сделан по приказу Советского Союза. Прямое давление всегда отрицалось русскими, но это не так уж и важно: коммунистические партии всех стран всегда руководствовались политикой Советского Союза, и именно коммунистическая партия выступила сначала против ПОУМ, а потом против анархистов и возглавляемого Кабальеро крыла социалистов, а в конечном счете и против революционной политики. Как только в испанские события вмешался СССР, победа коммунистов была обеспечена. Начать с того, что помощь России оружием и то, что коммунистическая партия, особенно с появлением интернациональных бригад, казалась способной выиграть войну, сильно повысило престиж коммунистов. Во-вторых, русское оружие распределялось через коммунистическую и дружественные ей партии, которые следили, чтобы политическим оппонентам перепадало как можно меньше оружия[25 - Вот почему на Арагонском фронте было так мало русского оружия, ведь там ополчение было преимущественно из анархистов. До апреля 1937 года я видел только одно русское оружие – за исключением самолетов, которые могли быть и не русскими, – один-единственный автомат. – Примеч. авт.]. В-третьих, отказавшись от революционных целей, коммунисты привлекли к себе тех, кого пугали экстремисты. Например, легко было восстановить богатых крестьян против провозглашенной анархистами политики коллективизации. Численность партии возрастала не по дням, а по часам – в основном за счет среднего класса: лавочников, армейских офицеров, зажиточных крестьян и так далее.
Война обретала трехстороннюю направленность. Война против Франко продолжалась, но у правительства одновременно была и другая цель – вернуть себе ту власть, которая оставалась у профсоюзов. Это делалось посредством мелких акций – политики булавочных уколов, как кто-то выразился, и в целом весьма умно. Не предпринималось никаких очевидных контрреволюционных действий, и до мая 1937 года не было никакой нужды прибегать к силе. Рабочих всегда можно было усмирить, прибегнув к настолько банальному аргументу, что его не обязательно упоминать: «Если вы не сделаете вот это, это и еще это, мы проиграем войну». И каждый раз оказывалось, что из военных соображений надо было пожертвовать тем, что в 1936 году завоевали для себя рабочие. Но с такими аргументами не спорили: последнее, что хотели революционные партии, – это проиграть войну. Социализм и анархизм стали лишенными смысла словами. Анархисты – единственная революционная партия, достаточно большая, с которой приходилось считаться, теряла позиции одну за другой. Процесс коллективизации был остановлен, местные комитеты прикрыты, рабочий патруль отменен, вновь были призваны довоенные полицейские силы, значительно усиленные и мощно вооруженные, а промышленные предприятия, находившиеся под контролем профсоюзов, отобраны (один из примеров – телефонный узел Барселоны, захваченный еще в майских боях). И что самое важное – рабочее ополчение, созданное профсоюзами, постепенно распалось и влилось в Народную армию – аполитичную, частично на буржуазной основе, с разным жалованьем, привилегированной кастой офицеров и так далее. При сложившихся обстоятельствах это имело решающее значение; в Каталонии такое случилось позже – там были сильные революционные партии. Единственной гарантией сохранения рабочими своих завоеваний было наличие у них военных подразделений. Развал ополчения происходил, как обычно, на фоне разговоров об усилении военной эффективности, никто не отрицал того, что нужна реорганизация армии. Можно было пойти по пути реорганизации ополчения, сделать его деятельность более результативной, оставив тем не менее под контролем профсоюзов, но изменения были задуманы с целью лишить анархистов собственной армии. Более того, демократический дух ополчения делал его рассадником революционных идей. Коммунисты это понимали и постоянно яростно нападали на ПОУМ и анархистские принципы равного жалованья для всех чинов. Шло повальное «обуржуазивание», сознательное разрушение эгалитарного духа первых месяцев революции. Все происходило так быстро, что люди, возвратившиеся в Испанию спустя несколько месяцев после первого приезда, не верили, что приехали в ту же страну: то, что недолгое время казалось государством рабочих, превращалось на глазах в обычную буржуазную республику с привычным разделением на богатых и бедных. К осени 1937 года так называемый социалист Негрин заявлял в своих публичных речах, что «мы уважаем частную собственность», а члены кортесов, покинувшие страну в начале войны из-за подозрений в фашистских симпатиях, возвращались в Испанию. Этот процесс легко понять, если вспомнить, что он ведет свое начало от временного союза, который фашизм в некоторых формах навязал буржуазии и рабочим. Этот союз, известный как Народный фронт, являлся, по сути, союзом врагов, и в нем с большой долей вероятности один из партнеров должен был проглотить другого. Но в испанской ситуации присутствовал один неожиданный момент, приведший к повсеместному непониманию в других странах: как случилось, что среди партий, поддерживающих правительство, коммунисты заняли вместо левой крайне правую позицию?
На самом деле это совсем не удивительно: ведь тактика коммунистической партии повсюду, особенно во Франции, дает ясно понять, что официальный коммунизм, пусть на какое-то время, должен рассматриваться как антиреволюционная сила. Политика Коминтерна подчинена (что простительно, учитывая международную обстановку) защите СССР, который связан системой политических альянсов. К примеру, союзник СССР – Франция, капиталистическая и империалистическая держава. Этот союз мало что дает России, если капитализм во Франции занимает слабую позицию, поэтому французская компартия должна занимать антиреволюционную позицию. Это означает не только то, что теперь французские коммунисты маршируют под триколором и поют «Марсельезу», а еще и нечто более важное – прекращение активной агитации во французских колониях. Прошло меньше трех лет с тех пор, как Торез, секретарь французской коммунистической партии, заявлял, что французских рабочих нельзя обманом втянуть в войну с немецкими товарищами[26 - Речь в Палате депутатов, март 1935-го. – Примеч. авт.], а теперь он стал самым громкоголосым патриотом во Франции. Разгадка поведения коммунистической партии в любой стране заключается в том, в каком военном лагере – реальном или потенциальном – находится эта страна по отношению к СССР. Например, Англия еще не определила свою позицию, поэтому ее коммунистическая партия по-прежнему враждебна к национальному правительству и, по-видимому, противится перевооружению. Однако если Великобритания вступит в союз или найдет военное понимание с СССР, у английского коммуниста, как и у французского, не будет другого выбора, кроме как стать настоящим патриотом и империалистом, и этому есть предостерегающие знаки. В Испании на коммунистический курс, несомненно, повлиял тот факт, что Франция, союзник России, не приемлет в качестве соседа охваченную революцией страну и будет землю носом рыть, чтоб не допустить освобождения Испанского Марокко. «Дейли мейл» со своими рассказами о финансируемой Москвой красной революции ошибается даже больше обычного. На самом деле коммунисты как никто препятствовали развитию революции в Испании. Позже, когда испанскую политику уже определяли правые силы, коммунисты продемонстрировали желание пойти дальше либералов в поимке революционных лидеров[27 - Более полно борьба между партиями, поддерживающими правительство, освещена в книге Франца Боркенау «Испанская арена» (Franz Borkenau. The Spanish Cockpit). Пока это лучшая книга об испанской войне. – Примеч. авт.].
Я попытался кратко обрисовать, как развивалась испанская революция в свой первый год, так как это может помочь разобраться в других ситуациях. Но я не хочу представить дело так, что в феврале у меня уже сложились те соображения, которые я изложил выше. Прежде всего события, которые пролили свет на многое, еще не произошли, и, кроме того, мои симпатии были несколько другими. Частично это связано с тем, что политическая сторона войны утомляет меня, и я, естественно, противостоял точке зрения, которую я слышал чаще всего, то есть точке зрения ПОУМ и ИЛП. Большинство англичан, среди которых я находился, состояли в ИЛП, только несколько из них – в СР, и почти все они разбирались в политике гораздо лучше меня. Во время затишья, когда в районе Уэски ничего не происходило, я неделями присутствовал при политических спорах, которые практически никогда не кончались. Дискуссии о разногласиях партийных линий велись в продуваемом вонючем сарае фермерского дома, где мы стояли на постое; в душных темных блиндажах; морозными ночами у бруствера. У испанцев было то же самое, и главной темой большинства газет стала внутрипартийная борьба. И только глухой или слабоумный не уловил бы, какую позицию занимает каждая партия.
Что касается политической теории, то тут имели значение только три партии: ПСУК, ПОУМ и СНТ-ФАИ – последние две можно в целом назвать анархистскими. Первой я назвал ПСУК как самую значительную; именно она в конце концов одержала победу, да и раньше была на подъеме.
Необходимо объяснить, что, говоря о позиции ПСУК, всегда подразумевают позицию коммунистической партии. Изначально ПСУК – социалистическая партия Каталонии – была создана в начале войны путем слияния нескольких марксистских групп, включая Коммунистическую партию Каталонии, однако она не находилась целиком под коммунистическим контролем и была принята в члены Третьего Интернационала. Нигде в Испании не было формального объединения социалистов и коммунистов, однако взгляды коммунистов и правого крыла социалистов можно расценивать как идентичные. Грубо говоря, ПСУК была политическим органом УГТ, социалистических профсоюзов. Членами этих профсоюзов состояли полтора миллиона испанцев. В профсоюзах было много рабочих секций, но с началом войны туда влился большой поток представителей среднего класса: в эти ранние «революционные» дни самые разные люди считали нужным вступить в УГТ или СНТ. Эти два профсоюзные объединения по сути совпадали, но из двух СНТ с большей определенностью была организацией рабочего класса. Поэтому ПСУК являлась частично партией рабочих, а частично партией мелкой буржуазии – лавочников, служащих и зажиточных крестьян.
Позиция ПСУК, распространяемая коммунистической и прокоммунистической прессой по всему миру, была приблизительно такой:
«В настоящее время нет ничего важнее победы в войне, без этой победы все остальное теряет смысл. Сейчас не тот момент, когда стоит затевать разговоры о революции. Мы не можем оттолкнуть крестьян, навязав им коллективизацию, и не можем отпугнуть средний класс, который борется на нашей стороне. И, более того, ради успеха дела мы должны покончить с революционным хаосом. Вместо местных комитетов нам нужны сильное центральное правительство и хорошо обученная, полностью оснащенная армия под единым командованием. Лучше ничего не делать, чем сохранять то, что осталось от рабочего контроля, и произносить трескучие революционные фразы – это не просто тормозящий момент, но даже контрреволюционный – он ведет к разобщению, а этим могут воспользоваться фашисты. На настоящем этапе мы сражаемся не за диктатуру пролетариата, а за парламентскую демократию. Тот, кто стремится перевести гражданскую войну в революционное русло, играет на руку фашистам и пусть не намеренно, но становится предателем».
Позиция ПОУМ кардинально расходилась со всем вышеизложенным, кроме, разумеется, необходимости победы в войне. ПОУМ относилась к тем диссидентским коммунистическим партиям, которые возникли за последние несколько лет во многих странах как результат противостояния сталинизму, выступающим за изменения, реальные или мнимые, в коммунистической политике. Частично ПОУМ состояла из бывших коммунистов, а частично из членов более ранней партии – Блока Рабочих и Крестьян. Из-за небольшой численности[28 - Приводится численность ПОУМ за разные месяцы: июль 1936-го – 10 000; декабрь 1936-го – 70 000; июнь 1937-го – 40 000. Эти цифры приводит ПОУМ, недоброжелатели разделили бы их на четыре. Единственное, что можно утверждать с уверенностью: все испанские политические партии склонны преувеличивать число своих членов. – Примеч. авт.] ее влияние в основном ограничивалось Каталонией, а авторитет создавался за счет высокого процента политически сознательных членов. В Каталонии ее опорным пунктом была Лерида. ПОУМ не являлась объединением профсоюзов. Ополчение ПОУМ формировалось преимущественно из состава СНТ, но фактические члены партии в большинстве случаев принадлежали к УГТ. Однако только на СНТ ПОУМ оказывала какое-то влияние. Что касается позиции ПОУМ, то о ней говорят следующие строки:
«Смешно говорить, что буржуазная демократия противостоит фашизму. Буржуазная демократия, как и фашизм, – всего лишь иное название капитализма, и сражение с фашизмом от лица «демократии» означает, что одна форма капитализма идет против другой, причем в любой момент они могут поменяться местами. Единственно реальная альтернатива фашизму – власть рабочих. Если поставить меньшую задачу, вы или отдадите победу Франко, или впустите фашизм через черный ход. В то же время рабочим нужно крепко держаться за свои завоевания, если они в чем-то уступят этому наполовину буржуазному правительству, их обязательно обманут. Рабочее ополчение и полицейские силы должны сохраняться в теперешнем виде, и каждая попытка их обуржуазить должна пресекаться. Если рабочие не будут контролировать вооруженные силы, тогда вооруженные силы будут контролировать рабочих. Война и революция неразделимы».
Позицию анархистов определить не так легко. Во всяком случае, широковещательное понятие «анархисты» включает в себя множество людей с весьма разными точками зрения. Крупное объединение союзов, образующих СНТ (Национальную конфедерацию труда), в которую входит около двух миллионов человек, имеет в виде политического органа ФАИ (Федерация анархистов Иберии), подлинно анархическую партию. Но даже членов ФАИ с отчетливым анархистским душком, как свой есть, может быть, почти у всех испанцев, нельзя назвать анархистами в полном смысле слова. Тем более что с начала войны они сместились в сторону социализма из-за обстоятельств, заставивших их участвовать в централизованной администрации и даже, нарушив свои принципы, войти в правительство. Тем не менее они кардинально отличались от коммунистов и, как и ПОУМ, стремились к власти рабочих, а не к парламентской демократии. Они принимали девиз ПОУМ: «Война и революция неразделимы», хотя не столь безапелляционно. Проще говоря, СНТ-ФАИ выступали за: 1. Непосредственный контроль рабочих за промышленным производством в определенной отрасли, например, в транспортной или в текстильной и так далее; 2. Управление посредством местных комитетов и сопротивление всем формам централизованного авторитаризма; 3. Бескомпромиссная враждебность по отношению к буржуазии и церкви. Последний пункт, хотя не четко обозначенный, был самым важным. Анархисты противопоставляли себя большинству так называемых революционеров в очень многих вещах, и хотя их принципы были довольно расплывчаты, но ненависть к привилегиям и несправедливости были неподдельными. С философской точки зрения коммунизм и анархизм – диаметрально противоположные категории. С практической – то есть избрания формы общества – разница в основном в акцентах, но они непреодолимы. Коммунисты ратуют за централизацию и эффективность, а анархисты за свободу и равенство. Анархизм пустил глубокие корни в Испании и, похоже, переживет коммунизм, когда русское влияние ослабеет. В первые два месяца войны именно анархисты сделали для спасения ситуации больше, чем остальные партии, а значительно позже анархистские ополченцы, несмотря на недисциплинированность, были, несомненно, лучшими бойцами среди испанских частей. Какое-то время, начиная с февраля 1937 года, у анархистов и ПОУМ было много точек соприкосновения для ведения совместных действий. Если бы анархисты, ПОУМ и левое крыло социалистов проявили здравый смысл и, с самого начала объединившись, проводили общую политику, течение войны могло бы быть другим. Но на раннем этапе, когда расстановка сил сложилась в пользу революционных партий, это было невозможно. Между анархистами и социалистами было давнее взаимное недоверие; ПОУМ как марксистская партия скептически относилась к анархизму; а с точки зрения классического анархиста «троцкизм» ПОУМ был нисколько не лучше «сталинизма» коммунистов. Тем не менее коммунисты эти партии рассматривали в одном ключе. Когда ПОУМ присоединилась к кровавому майскому сражению в Барселоне, это объяснялось во многом стремлением поддержать СНТ, а позже, когда ПОУМ запретили, только анархисты подняли голос в ее защиту.
Итак, грубо говоря, расстановка сил была такая: на одной стороне находились СНТ-ФАИ и ПОУМ, а также та часть социалистов, что выступала за рабочую власть; на другой – правое крыло социалистов, либералы и коммунисты, стоящие за централизованное правительство и милитаризованную армию.
Легко понять, почему в то время я разделял коммунистический взгляд на ситуацию, а не позицию ПОУМ. У коммунистов были четкие практические цели – несомненно лучшая политика с точки зрения здравого смысла, когда планируешь только на несколько месяцев вперед. Что касается повседневной политики ПОУМ, пропаганды и так далее – это все никуда не годилось, иначе партия могла бы привлечь гораздо больше народу. И в довершение всего коммунисты – так мне казалось – активно вели войну, в то время как мы и анархисты теряли время. Тогда все так думали. Коммунисты набирали силу и возрастали численно, привлекая, с одной стороны, средний класс своим несогласием с революционерами, а с другой – тем, что только они, казалось, были способны победить в войне. Русское оружие и великолепная оборона Мадрида под руководством коммунистов сделала последних героями Испании. Как кто-то сказал, каждый русский самолет над нашими головами – коммунистическая пропаганда. Революционный пуризм ПОУМ, хотя я видел его логичность, казался мне безрезультатным. Ведь главное – выиграть войну.
Тем временем между партиями шла ожесточенная борьба – в газетах, в памфлетах, в плакатах, в книгах – всюду. В то время я чаще других читал «La Batalla»[29 - La Batalla – бой (исп.).] и «Adelante»[30 - Adelante – вперед (исп.).], газеты ПОУМ, и их придирчивые нападки на «контрреволюционную» ПСУК казались мне слишком самоуверенными и занудными. Позднее, подробнее ознакомившись с прессой ПСУК и коммунистов, я понял, что ПОУМ по сравнению со своими оппонентами являла собой образец порядочности. Помимо прочего, у ПОУМ было меньше возможностей. В отличие от коммунистов у партии не было выхода за рубеж, и внутри Испании она находилась в невыгодном положении: цензура была в основном под контролем коммунистов, а это означало, что газеты ПОУМ, если в них находили крамолу, могли быть конфискованы или оштрафованы. Справедливости ради надо сказать, что хотя ПОУМ бесконечно проповедовала революцию и ее члены ad nauseam[31 - До тошноты (лат.).] цитировали Ленина, все же они не опускались до клеветы. И полемику вели по преимуществу в газетах. На больших цветных плакатах, предназначенных для широкой публики (плакаты важны в Испании, где большинство населения не умеет читать), они никогда не высмеивали своих оппонентов; эти плакаты были антифашистского или абстрактно революционного толка вроде песен ополченцев. Выпады коммунистов были совсем другими. Позднее я расскажу об этом подробнее. А сейчас я просто обозначу само направление коммунистических нападок.
На первый взгляд расхождения между коммунистами и ПОУМ были чисто тактического свойства. ПОУМ стояла за немедленную революцию, коммунисты были против. На каждой стороне были свои плюсы и минусы. Далее коммунисты утверждали, что пропаганда ПОУМ разделяет и ослабляет правительственные силы и таким образом ставит под угрозу победу в войне. И тут, хотя в целом с этим не согласен, было свое рациональное зерно. Но потом раскрылась особенность коммунистической тактики. Сначала осторожно, потом все более решительно стали раздаваться голоса, что ПОУМ не заблуждается, а осознанно раскалывает правительственные силы. ПОУМ объявлялась бандой замаскированных фашистов, играющих на руку Франко и Гитлеру и проводящих псевдореволюционную политику, чтобы помочь фашистам. ПОУМ – «троцкистская» организация и пятая колонна Франко. Это означало, что тысячи рабочих, включая восемь или десять тысяч солдат, мерзших в окопах на линии фронта, и сотни иностранцев, приехавших в Испанию, чтобы бороться с фашизмом, и часто жертвующих достатком и гражданством, – всего лишь предатели, нанятые врагом. А ведь эта версия посредством плакатов и так далее распространилась по всей Испании и раз за разом повторялась в коммунистической и прокоммунистической прессе всего мира. Если б я стал коллекционировать цитаты из подобных пасквилей, то мог бы составить из них несколько книг.
Оказалось, что все мы – троцкисты, фашисты, предатели, убийцы, трусы и шпионы. Должен сказать, в этом было мало приятного, особенно если подумать о некоторых людях, которые это заварили. Грустно видеть пятнадцатилетнего испанского мальчика, которого уносят на носилках с линии фронта, как он безучастно, с помертвевшим лицом смотрит из-под одеяла на окружающих, и знать, что холеные мужчины в Лондоне или Париже в своих памфлетах доказывают, что этот мальчик переодетый фашист. Одна из самых ужасных особенностей войны – военная пропаганда, этот визг, и ложь, и ненависть, исходящие неизменно от людей, которые сами не воюют. Ополченцы ПСУК, знакомые мне по фронту, коммунисты из интернациональной бригады, которых я время от времени встречал, никогда не называли меня троцкистом или предателем; такие ярлыки были на совести только у тыловых крыс – журналистов. Люди, сочинявшие обличительные и порочащие нас статьи, благополучно сидели дома, в лучшем случае в редакциях Валенсии, в сотнях миль от пуль и грязи. Но и помимо клеветнических приемов внутрипартийной борьбы, вся обыденность войны пышно героизировалась, а врага обливали грязью все те же люди, которые не участвовали в войне и пробежали бы сотню миль, чтобы избежать встречи с ней. Одним из самых грустных разочарований этой войны стало понимание того, что левая пресса такая же фальшивая и бесчестная, как и правая[32 - Приятным исключением явилась «Манчестер гардиан». При написании этой книги мне пришлось просмотреть кипы английских газет. Из всех наших крупных газет «Манчестер гардиан» – единственная, которая вызвала у меня большое уважение своей честностью. – Примеч. авт.]. Я отчетливо сознавал, что с нашей республиканской стороны эта война отличалась от обычных империалистических войн, хотя из военной пропаганды этого нельзя было понять. Война еще только началась, а правые и левые газеты тут же с головой нырнули в выгребную яму взаимных оскорблений. Нельзя забыть заголовок в «Дейли мейл»: «Красные распинают монахинь», а в «Дейли уоркер» говорилось, что Иностранный легион Франко «состоит из убийц, торговцев живым товаром, наркоманов и прочих отбросов из европейских стран». В октябре 1937 года «Нью стейтсмен» развлекал нас байками о фашистских баррикадах, сложенных из тел живых детей (крайне неудобный материал для подобной цели), а мистер Артур Брайант[33 - Артур Брайант (1899–1985) – британский историк и обозреватель еженедельника «Иллюстрированные лондонские новости».] оповестил всех, что среди испанских лоялистов «отпиливать ноги консервативно настроенным торговцам – обычное дело». Люди, которые такое пишут, никогда не воевали. Возможно, они считают себя воинами, когда пишут такое. На всех войнах происходит одно и то же: солдаты воюют, журналисты кричат, и ни один патриот не приближается к окопам – разве только с кратковременным пропагандистским заданием. Иногда меня утешает мысль, что самолет меняет условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим нечто невозможное: ура-патриот с дыркой от пули.
Если говорить о работе журналистов, то это, как и в любой другой войне, – бизнес. Но с одной разницей: обычно журналисты пускают отравленные стрелы во врагов, а в нашем случае коммунисты и ПОУМ писали друг о друге более язвительно, чем о фашистах. Тем не менее в то время я не мог относиться к этому серьезно. Межпартийная вражда раздражала и даже вызывала отвращение и все же казалась, скорее, домашней склокой. Я не верил, что она может что-то изменить и что между отдельными партиями существуют непримиримые противоречия. До меня дошло, что коммунисты и либералы не хотят дальнейшего развития революции, но то, что они хотят повернуть ее вспять, в голове не укладывалось.
И тому были причины. Все это время я находился на фронте, а там социальная и политическая атмосфера не изменилась. Я покинул Барселону в начале января и до конца апреля не был в отпуске, и все это время – и даже больше – в районе Арагона, находившегося под контролем анархистов и ПОУМ, все оставалось по-старому, во всяком случае, на первый взгляд. Сохранялась та же революционная атмосфера. Генерал и рядовой, крестьянин и ополченец держались на равных; все получали одно жалованье, носили одинаковую одежду, ели одну и ту же еду и называли друг друга «ты» и «товарищ». Не было хозяев, не было слуг, не было нищих и проституток, не было адвокатов и священников, не было лизоблюдства и подхалимства. Я вдыхал воздух равенства и по наивности думал, что во всей Испании происходит то же самое. Я не понимал, что по чистой случайности оказался среди самой революционной части испанского рабочего класса.
Поэтому когда мои политически подкованные товарищи говорили, что нельзя подходить к этой войне только как к боевому противостоянию, а основной конфликт – революция или фашизм, у меня такая альтернатива вызывала улыбку. В целом я разделял точку зрения коммунистов, сводившуюся к следующему: «Мы не можем говорить о революции, пока не победим в войне», а не позицию ПОУМ, гласившую: «Мы должны наступать, или нас отбросят назад». Когда со временем я решил, что ПОУМ стоит на правильном пути, во всяком случае, на более правильном, чем коммунисты, это решение пришло не на уровне теории. Теоретически коммунизм выглядел безукоризненно, но беда в том, что в жизни коммунисты вели себя так, что было трудно поверить в благостность их намерений. Часто повторяющийся лозунг: «Первым делом – война, революция – потом», в который безгранично верил рядовой ополченец ПСУК, не сомневавшийся, что с окончанием войны революция продолжится, был надувательством. Коммунисты были заняты не тем, чтобы отложить испанскую революцию до более подходящего времени, а тем, чтобы ее совсем похоронить. Со временем это стало еще очевиднее, власть уплывала из рук рабочих, а революционеров всех мастей все чаще бросали в тюрьму. Каждое действие совершалось якобы по причине военной необходимости – такое объяснение всегда сходило с рук, а на самом деле все делалось для того, чтобы лишить рабочих достигнутых привилегий, дабы по окончании войны они не смогли бы воспрепятствовать возрождению капитализма. Прошу обратить внимание, что все сказанное ни в коем случае не относится к рядовым членам партии, и меньше всего к тысячам коммунистов, геройски погибших в боях у Мадрида. Но не эти люди определяли политику партии. Что касается вышестоящих членов партии, нельзя поверить, чтобы они не ведали, что творят.
В конце концов, война стоила того, чтобы ее выиграть даже с утратой надежд на революцию. Но потом я стал сомневаться, приведет ли коммунистическая политика к победе. Мало кто задумывался над тем, что на разных этапах войны требуется своя политика. Анархисты, возможно, спасли положение в первые два месяца, но дальше их подвела неспособность к организованному сопротивлению; коммунисты, возможно, сделали то же самое в октябре-декабре, но для того, чтобы выиграть войну, требовалось нечто большее. В Англии военную политику коммунистов не подвергали сомнению, тех, кто пытался ее критиковать, почти не печатали, а планы коммунистов – покончить с революционным хаосом, ускорить производство и вооружить армию – выглядели реальными и действенными. Стоит обратить внимание и на свойственные им слабости.
Для того чтобы ограничить революционные тенденции и сделать войну как можно более обычной, приходилось отбрасывать благоприятные стратегические возможности. Я уже описывал, как мы были вооружены, а вернее, не вооружены на Арагонском фронте. Теперь уже мало сомнений в том, что оружие удерживалось намеренно, чтобы оно не попало в руки анархистов, которые впоследствии могли бы использовать его в революционных целях. В результате большое арагонское наступление, которое отбросило бы Франко от Бильбао и, возможно, от Мадрида, не случилось. Но это еще не все. Так как «испанская война» сузилась до «войны за демократию», стало невозможно апеллировать к помощи рабочего класса за границей. Если взглянуть в лицо фактам, придется признать, что рабочие всего мира настороженно относились к испанской войне. Десятки тысяч человек отправились воевать, но десятки миллионов отнеслись к событию равнодушно. Во время первого года войны британская публика пожертвовала на «помощь Испании» около четверти миллиона фунтов – меньше половины того, что ею тратится за неделю походов в кино. Однако рабочий класс в демократических странах мог реально помочь своим испанским товарищам такими действиями, как забастовки и бойкоты. Но ничего подобного не произошло. Лидеры лейбористов и коммунистов утверждали, что об этом и помыслить нельзя, а как можно было «помыслить», когда они повсюду вопили, что «красная» Испания вовсе не «красная». Начиная с 1914–1918 годов «война за демократию» имела зловещий оттенок. После этого в течение многих лет сами коммунисты учили активных рабочих всех стран, что «демократия» – мягкий синоним капитализма. А говорить сначала «демократия – надувательство», а потом «сражайтесь за демократию», согласитесь, не самая хорошая тактика. Если бы, опираясь на мощный престиж Советской России, они призвали бы рабочих помочь не «демократической», а «революционной» Испании, трудно поверить, что не было бы отклика.
Но важнее всего то, что при отсутствии революционной политики было трудно, если не совсем невозможно, нанести Франко удар с тыла. К лету 1937 года под контролем Франко находилось больше народу, чем под контролем правительства – гораздо больше, если считать колонии, – хотя число людей под ружьем было почти равным. Как известно, когда в тылу у войска враждебные силы, невозможно держать армию в полевых условиях без дополнительной поддержки – военных частей, которые охраняли бы коммуникации, подавляли саботаж и так далее. Очевидно, что в тылу у Франко не было никакого народного движения. Трудно представить, чтобы люди на его территории – такие как городские рабочие и бедные крестьяне – симпатизировали Франко или хотели его победы, но престиж правительства с каждым колебанием падал вправо. Почему сложилась тупиковая ситуация в Марокко? Почему там не начались беспорядки? Франко установил в Марокко железную диктатуру, и все-таки мавры предпочли его, а не правительство Народного фронта. Вся правда в том, что никаких попыток поднять в Марокко восстание не было: ведь это внесло бы в войну революционную ноту. Чтобы убедить мавров в добрых намерениях правительства, следовало прежде всего предоставить Марокко свободу. Можно представить, как это порадовало бы Францию! Поэтому удобнее всего было отступить в тщетной надежде успокоить французских и британских капиталистов. Цель коммунистической политики заключалась в том, чтобы превратить эту войну в обычную – не революционную, и в этой войне преимущество было на стороне врага. Ведь такого рода война могла быть выиграна только с помощью технических средств, то есть в конечном счете неограниченных поставок оружия. А СССР, главный правительственный поставщик, будучи географически удаленным от Испании, находился в невыгодном положении по сравнению с Италией и Германией. Возможно, лозунг ПОУМ и анархистов: «Война и революция неразделимы» – был не таким утопическим, каким казался.
Я объяснил, почему считаю коммунистическую антиреволюционную политику ошибочной, но по мере развития военных действий есть надежда, что я окажусь не прав. Тысячу раз на это надеюсь! Хочу, чтобы эта война была выиграна любой ценой. Сейчас мы еще не знаем, что произойдет. Правительство может снова качнуть влево, мавры могут поднять восстание по собственной инициативе, Англия может подкупить Италию, война может быть выиграна обыкновенным военным превосходством – ничего не известно. Я не отказываюсь от своего мнения, а прав я или нет – покажет время.
Но в феврале 1937 года все представлялось мне в ином свете. Я устал от бездействия на Арагонском фронте и особенно от сознания, что не вношу свою лепту в борьбу. Мне вспоминался плакат на призывном пункте в Барселоне, вопрошающий с осуждением: «Что ты сделал для демократии?» Что мог я на это ответить? Только: «Поедал ежедневный рацион». Вступив в ополчение, я дал себе обещание убить одного фашиста – в конце концов, если каждый убьет одного из них, фашистов скоро не останется. Но я до сих пор никого не убил, и шансов на это почти не было. И, конечно, я хотел оказаться в Мадриде. Все в армии, несмотря на разные политические взгляды, хотели попасть в Мадрид. Возможно, тогда пришлось бы перейти в интернациональную бригаду: ведь у ПОУМ в Мадриде было мало воинских частей, и анархистов там осталось не так уж много.
Пока, конечно, нельзя было оставлять прифронтовую полосу, но я всех предупредил: когда нас отведут на отдых, я постараюсь перейти в интернациональную бригаду, то есть окажусь под контролем коммунистов. Некоторые ополченцы пытались меня отговорить, но никто не вставлял палки в колеса. Для справедливости надо сказать, что в ПОУМ не преследовались инакомыслящие: если ты не был за фашистов, то мог придерживаться других политических убеждений. Находясь в ополчении, я резко критиковал позицию ПОУМ, но у меня не было из-за этого никаких неприятностей. Никто даже не настаивал на том, чтобы я вступил в партию, хотя, думаю, большинство ополченцев состояли в партии. Я так и не стал политическим членом ПОУМ, о чем впоследствии, когда ее запретили, сожалел.
Глава 6
«Позиция» располагалась высоко, на остром известняковом хребте, а блиндажи тянулись горизонтально по крутому склону, как гнезда береговых ласточек. Внутри глубоко вырытых блиндажей было темно, хоть глаз выколи, а потолки такие низкие, что даже на коленях толком не встать – не то что во весь рост. На вершинах слева от нас стояли еще два лагеря ПОУМ, один являлся предметом зависти всей передовой: там работали поварихами три женщины. Эти женщины не блистали красотой, и все же руководство сочло необходимым поместить этот лагерь подальше от мужчин с других «позиций». В пятистах ярдах справа от нас, у изгиба дороги на Алькубьерре, находился пост ПСУК. Именно там дорога меняла хозяев. Вечерами можно было видеть свет фар грузовиков, везущих нам продовольствие из Алькубьерре, и одновременно свет от фашистских машин, идущих из Сарагосы. Можно было видеть и саму Сарагосу в двенадцати милях к юго-западу – тонкую цепочку огоньков, похожих на святящиеся иллюминаторы парохода. Правительственные войска смотрели на нее отсюда с августа 1936 года, смотрят и теперь.
Нас было около тридцати человек, включая одного испанца (Рамона, шурина Уильямса), и еще дюжина испанских пулеметчиков. За исключением одного-двух неизбежных зануд, всем известно, что война притягивает разных подонков – англичане оказались хорошей командой и в физическом, и в умственном отношении. Пожалуй, лучшим из них был Боб Смилли – внук знаменитого шахтерского лидера, его кончина в Валенсии в более позднее время была тяжелой и бессмысленной. В пользу испанского характера говорит тот факт, что испанцы хорошо ладят с англичанами, несмотря на языковой барьер. Мы выяснили, что все испанцы знают два английских выражения. Одно их них: «о’кей, бэйби», а другое барселонские шлюхи говорят при общении с английскими матросами, боюсь, наборщикам не хватит духу его напечатать.
На линии фронта все по-прежнему было без перемен: только случайные выстрелы и, очень редко, треск фашистских минометов, услышав который все дружно бежали в высоко расположенную траншею, чтобы увидеть, где именно разорвутся снаряды. Теперь враг был немного ближе – на расстоянии трехсот-четырехсот метров. Ближайшее расположение фашистов было как раз напротив нашего, и амбразуры пулеметного гнезда постоянно искушали ополченцев, переводящих на них патроны. Фашисты редко стреляли из винтовок, зато, если кто-то из наших высовывался, целенаправленно били по нему пулеметным огнем. И все же прошло дней десять, а то и больше, прежде чем мы потеряли одного человека. Среди противостоящих нам войск были преимущественно испанцы, но дезертиры доносили, что там есть и несколько немецких сержантов. А еще недавно были и мавры – как, наверное, мучились от холода эти бедолаги! – на ничейной земле лежал убитый мавр, ставший одной из достопримечательностей этой местности. Так мы узнали об их присутствии на фашистской позиции. Слева, в миле или двух от нас, линия фронта прерывалась, там была густо поросшая лесом низина, не принадлежавшая ни нам, ни фашистам. И мы, и они устраивали там дневное патрулирование. Неплохое развлечение в духе бойскаутов, хотя лично я никогда не видел фашистский патруль ближе семисот метров. Впрочем, если долго ползти на животе, можно приблизиться к фашистскому лагерю почти вплотную и даже увидеть фермерский дом с монархистским флагом, где располагался неприятельский штаб. Иногда мы делали по нему несколько выстрелов и быстро уползали в укрытие, чтобы пулеметчики нас не нащупали. Надеюсь, нам удалось разбить несколько окон, однако штаб находился от нас в добрых восьмистах метрах, а с нашими винтовками не было уверенности, что мы на таком расстоянии попадем даже в дом.
Погода по большей части стояла холодная и ясная, иногда в середине дня показывалось солнце, но оно не грело. На склонах то тут, то там проклевывались зеленые побеги диких крокусов или ирисов; весна явно вступала в свои права, но делала это весьма неспешно. Ночи стали холоднее обычного. Выходя на дежурство в предрассветные часы, мы разгребали угли, сохранившиеся от вечернего костра, и вставали на них. Это было плохо для обуви, но хорошо для ног. Иногда великолепное зрелище рассвета в горах побуждало поскорее подняться даже в такое тяжелое время. Я не люблю горы, не люблю даже с живописной точки зрения. Но бывало, что утренняя заря, занимавшаяся позади нас среди горных хребтов, первые узкие золотые лучи, пронзавшие тьму, как мечи, нарастающий свет и наконец карминное море, разливавшееся повсюду, стоили того, чтобы ими любоваться, даже если ты не спал всю ночь, и ноги твои окоченели до колен, и в голове бродили мрачные мысли, что нет никакой надежды на еду, по крайней мере, еще три часа. За время этой войны я встречал восход солнца чаще, чем за всю мою предшествующую жизнь, и, надеюсь, за всю оставшуюся – тоже.
Мы испытывали недостаток в людях, что для всех означало долгие дежурства и приводило к нарастающей усталости. Мне тоже стало не по себе от постоянного недосыпа, чего нельзя избежать даже в военное затишье. Помимо дежурств и патрулирования, по ночам нас постоянно поднимали по тревоге, но даже без этого – разве можно хорошо спать в мерзкой земляной норе, где ноги сводит от холода? За первые три-четыре месяца пребывания на фронте я вряд ли насчитаю больше дюжины дней совсем без сна, но, с другой стороны, ночей, когда бы я спал нормальное время, тоже не больше. Впрочем, результат такого режима не так уж плох, как можно ожидать. Конечно, понемногу тупеешь, лазать по горам становится труднее, но в целом самочувствие хорошее и аппетит пробуждается зверский – еще какой зверский! Вся еда кажется баснословно вкусной – даже неизменная фасоль, которую в Испании все со временем начинают ненавидеть. Воду для нас (если эту жидкость можно назвать водой) привозили издалека на мулах или на маленьких измученных осликах. По непонятной причине арагонские крестьяне хорошо обращались с мулами и отвратительно – с осликами. Если ослик упирался и не шел, считалось обычным делом пнуть его в яички.
К нам перестали поступать свечи, и спички были на исходе. Испанцы научили нас, как из консервных банок с помощью оливкового масла, патронной обоймы и тряпья делать лампы. Когда у тебя было оливковое масло (что случалось не часто), сооруженная конструкция мерцала коптящим пламенем, в четыре раза более тусклым, чем свеча, и все же достаточным, чтобы разглядеть винтовку.
Надежды на настоящее сражение почти не осталось. Когда мы уходили из Монте-Посеро, я пересчитал оставшиеся патроны и выяснил, что почти за три недели выстрелил по врагу всего три раза. Считается, что на убийство одного человека нужна тысяча пуль; выходит, мне с такой скоростью потребуется двадцать лет, чтобы уложить моего первого фашиста. В Монте-Оскуро мы стояли ближе к неприятелю и стреляли чаще, но я нисколько не сомневаюсь, что ни в кого не попал. Откровенно говоря, на этом участке фронта и на этом этапе войны реальным оружием была не винтовка, а мегафон. При невозможности убить врага оставалось только его ругать. Этот метод ведения войны настолько необычен, что на нем стоит остановиться подробнее.
Расстояние между позициями позволяло докричаться друг до друга, и поэтому перекличка между траншеями была довольно интенсивная. «Fascistas – maricones!» — неслось из нашей. «Viva Espa?a! Viva Franco!»[19 - Да здравствует Испания! Да здравствует Франко! (исп.)] – отвечали фашисты, а узнав, что среди ополченцев есть англичане, прибавляли: «Англичане, катитесь домой! Нам здесь иностранцы не нужны». В правительственном лагере стали регулярно устраиваться сеансы пропагандистского ора с целью подорвать моральные устои противника. При каждом подходящем случае бойцы, обычно пулеметчики, выбирались для исполнения этого долга и обеспечивались мегафонами. Обычно они выкрикивали заранее составленные тексты, полные революционного задора, где говорилось, что солдаты, воюющие за фашистов, – наемники международного капитализма, идущие против собственного класса, и так далее. Солдат призывали перейти на нашу сторону. Все это повторялось изо дня в день, одни люди сменяли других, иногда агитация продолжалась и ночью. Несомненно, это давало некоторый результат, все соглашались, что тонкая струйка дезертиров из фашистского лагеря частично проистекала из этого источника. Представьте себе замерзающего на посту несчастного часового – возможно, социалиста или анархиста, призванного на военную службу против его воли, – несущийся из темноты призыв «Не иди против своего класса!» не может не произвести на него впечатления. Встанет вопрос: дезертировать или нет? Но подобные действия не вписываются в английскую концепцию ведения войны. Признаюсь, я сам был в шоке. Не драться с врагом, а переманивать на свою сторону – каково! Теперь я думаю, что это был вполне разумный маневр. В окопной войне, не имея артиллерии, трудно нанести неприятелю удар, не получив в ответ такой же. Если можно вывести какое-то число людей из военных действий, склонив их к дезертирству, тем лучше: дезертиры полезнее трупов – они дают нужную информацию. Но поначалу такой подход смутил нас, нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относятся к своей войне. Большим артистом в деле переклички оказался один из бойцов ПСУК. Вместо простого выкрикивания революционных лозунгов он начинал рассказывать фашистам, насколько лучше мы питаемся. Наш рацион при этом он заметно приукрашивал. «Хлеб с маслом!» – гремел в пустом пространстве его голос. «У нас хлеб с маслом не переводится. Такие аппетитные бутерброды с маслом!» Не сомневаюсь, что он, как и все мы, неделями, а то и месяцами не видел масла, но в эту холодную ночь не у одного фашиста слюнки потекли при мысли о хлебе с маслом. Потекли они и у меня, хотя я и знал, что он лжет.
Однажды в феврале мы увидели в небе фашистский аэроплан. Как положено, вытащили наружу пулемет, задрали дуло, а сами легли на спину, чтобы лучше видеть цель. На наше изолированное от других укрепление не стоило тратить бомбы, и потому редкие фашистские аэропланы обходили нас стороной, чтобы не попасть под пулеметный обстрел. Но в этот раз аэроплан пролетел прямо над нами на достаточной, недосягаемой для пулеметов высоте, и из него посыпались не бомбы, а белые блестящие листочки, крутящиеся на ветру. Несколько упало рядом с нами. Это были экземпляры фашистской газеты «Херальдо де Арагон», в которой сообщалось о сдаче Малаги.
Той ночью фашисты предприняли неудавшуюся атаку. Я, полумертвый от усталости, как раз валился спать, когда над головой засвистели пули и кто-то крикнул, заглянув в блиндаж: «Нас атакуют!» Я схватил винтовку и помчался на свой пост, находившийся на вершине укрепления рядом с пулеметом. Кромешную тьму разрывал адский шум. Думаю, в нас палили из пяти пулеметов, не меньше, и еще разорвалось несколько бомб, глупейшим образом брошенных фашистами за свои брустверы. Был полный мрак. В долине слева от нас я видел зеленоватые вспышки ружейных выстрелов, там небольшая группа фашистов, возможно, совершавших патрулирование, тоже примкнула к атаке. Вокруг в темноте со свистом пролетали пули. Несколько снарядов упали недалеко от нас, но никого не задели, и, что типично для этой войны, большинство из них не разорвалось. Однако мне стало не по себе, когда в нашем тылу сверху заработал еще один пулемет – впоследствии оказалось, что его доставили, чтобы нас поддержать, но тогда я решил, что мы в окружении. В результате наш пулемет заело, что происходило всегда, когда мы стреляли нашими испорченными патронами, а шомпол затерялся в темноте. Оставалось одно: неподвижно стоять и ждать, когда тебя пристрелят. Испанские пулеметчики считали ниже своего достоинства прятаться от пуль, более того, они сознательно открывались, и мне приходилось вести себя так же. Эта перестрелка была для меня интересным опытом. Строго говоря, я впервые оказался под огнем и, к своему стыду, здорово перепугался. Я заметил, что под сильным огнем такие ощущения переживаешь всегда – не столько оттого, что тебя могут ранить, сколько оттого, что не знаешь, куда именно тебя ранят. Из-за того, что ты постоянно думаешь, куда угодит пуля, твое тело обретает какую-то неприятную чувствительность.
Часа через два стрельба уменьшилась и вскоре совсем прекратилась. За это время мы потеряли одного бойца. Фашисты вытащили пару пулеметов на ничейную землю, но сохраняли достаточную дистанцию и не предпринимали попыток брать штурмом наши окопы. То, что происходило, даже нельзя было назвать атакой, они просто переводили патроны и шумно кричали, празднуя взятие Малаги. Главное, что извлек я из этого происшествия: надо недоверчиво относиться к военным новостям в прессе. Ведь через пару дней в газетах и по радио сообщили о грандиозной атаке с кавалерией и танками (это по отвесному-то горному склону!), которую отбили геройские англичане.
Мы не поверили фашистским листовкам, говорившим о падении Малаги, но на следующий день эти сведения пришли из более достоверных источников, а дня через два их признали официально. Мало-помалу стала известна вся постыдная история: город был сдан без единого выстрела, и ярость вошедших в город итальянцев обрушилась не на покинувших город солдат, а на несчастное мирное население – некоторых преследовали и обстреливали на протяжении сотни миль. Эта новость вызвала негодование на передовой. Неизвестно, что произошло на самом деле, но все в ополчении не сомневались, что тут не обошлось без предательства. Так я впервые услышал о возможных предательствах и внутренних разногласиях. Это посеяло в моем сознании первые смутные сомнения относительно этой войны, хотя до этого казалось абсолютно ясным, кто прав, а кто виноват.
Мы покинули Монте-Оскуро в середине февраля, откуда вместе с остальными частями ПОУМ отправились в распоряжение армии, окружившей Уэску. Пятьдесят миль нас везли в грузовиках по неприветливой равнине, где подрезанные виноградные лозы еще не пустили почки, а побеги озимого ячменя только пробивались сквозь комковатую почву. В четырех километрах от наших новых траншей сверкала и переливалась Уэска, словно маленький кукольный городок. Несколькими месяцами раньше, когда взяли Сиетамо, генерал, командующий правительственными войсками, весело пообещал: «Завтра мы будем пить кофе в Уэске». Но вышло так, что он ошибся. В многочисленных атаках было пролито море крови, но город так и не пал, а фраза «Завтра будем пить кофе в Уэске» стала у армейских притчей в языцех. Если когда-нибудь еще поеду в Испанию, обязательно выпью чашечку кофе в Уэске.
Глава 5
До конца марта к востоку от Уэски ничего не происходило – почти в буквальном смысле слова. От врага мы находились примерно в километре и двухстах метрах. Когда фашистов загнали в Уэску, республиканская армия, удерживающая эту часть линии фронта, не проявляла особого усердия в наступлении, образовав своего рода карман. Позднее ей пришлось-таки перейти в наступление – нелегкое дело под огнем противника, – но пока враг будто не существовал, нас больше заботило, как бы согреться и хорошо поесть. В этот период происходили очень интересные для меня вещи, и я расскажу о них чуть позже. Но сейчас, если я попытаюсь дать представление о внутренней политической ситуации в республиканской среде, это поможет точнее передать порядок событий.
Поначалу я игнорировал политическую сторону войны, и только потом она привлекла мое внимание. Если вам не интересны кошмары партийной политики, пожалуйста, пропустите этот кусок. Именно из таких соображений я стараюсь выделить политические размышления в отдельные главы. Но в то же время невозможно писать об испанской войне только с армейской точки зрения. Прежде всего это была политическая война. Ни одно событие в ней – во всяком случае, в течение первого года – не будет понятно, если не принимать во внимание внутрипартийную борьбу в правительственных кругах.
Приехав в Испанию, я какое-то время не то что не интересовался политической ситуацией, а вообще ничего о ней не знал. Идет война – вот все, что мне было известно, и я понятия не имел, что это за война. Если б меня спросили, с какой целью я вступил в ополчение, я бы ответил: «Бороться с фашизмом», а если б поинтересовались, за что именно я воюю, ответил бы: «За общее благо». Я принял версию изданий «Ньюс кроникл» и «Нью стейтсмен», где говорилось, что идет борьба за цивилизацию с маньяками-мятежниками во главе с полковником Блимпом[20 - Британский анимационный персонаж в 1930-е гг., символ глупости.], действующим по указке Гитлера. Революционная атмосфера Барселоны меня захватила, но я не предпринял никаких попыток разобраться в ситуации. Меня правда несколько раздражал калейдоскоп политических партий и профсоюзов со скучными названиями – ПСУК, ПОУМ, ФАИ, СНТ[21 - Confederaciоn Nacional del Trabajo – Национальная конфедерация труда. – Примеч. ред.], УГТ[22 - Union General de Trabajadores – Всеобщий союз трудящихся. – Примеч. ред.], ХСИ, ХСУ, АЛТ. На первый взгляд казалось, что Испания помешана на аббревиатурах. Я знал, что состою в объединении ПОУМ (в это ополчение я вступил, потому что прибыл в Барселону с рекомендациями от лейбористской партии), но даже не подозревал, что между политическими партиями республиканцев есть серьезные расхождения. В Монте-Посеро мои сподвижники сказали, указывая на «позицию» слева от нас: «Там социалисты». «А разве мы все не социалисты?» – озадаченно спросил я. Мне казалось большой глупостью, что люди, рискующие своей жизнью, принадлежат к разным партиям. «Почему бы не оставить этот политический треп и не сосредоточиться целиком на войне?» Эта общепризнанная антифашистская позиция усердно распространялась английскими газетами главным образом для того, чтобы люди не задумывались над подлинной природой этой борьбы. Но в Испании, особенно в Каталонии, такую позицию нельзя было поддерживать бесконечно долго. Каждый, пусть и против своего желания, в конце концов принимал какую-нибудь сторону. Ведь даже если тебе безразличны разные политические партии и их несовместимые линии, нельзя не понимать, что в их противостояние вовлечена и твоя судьба. Будучи ополченцем, ты воюешь против Франко и в то же время являешься пешкой в борьбе двух политических теорий. Когда я выискивал дрова на горном склоне, задаваясь вопросом, действительно ли идет война или все это измышления «Ньюс кроникл», или увертывался от пулеметных очередей коммунистов во время беспорядков в Барселоне, или бежал из Испании, преследуемый полицией, – все это происходило со мной, потому что я был ополченцем ПОУМ, а не ПСУК. Вот какова разница между двумя аббревиатурами!
Чтобы понять расстановку сил в республиканском лагере, надо вспомнить начало войны. Когда она вспыхнула 18 июля, каждый европейский антифашист почувствовал прилив надежды. Наконец демократия преградила путь фашизму. Ведь долгие годы так называемые демократические страны уступали фашизму одну позицию за другой. С их молчаливого согласия японцы творили что хотели в Маньчжурии. Пришедший к власти Гитлер тут же расправился со всеми политическими оппонентами. Муссолини бомбил абиссинцев, в то время как пятьдесят три страны (кажется, их было пятьдесят три) ханжески его поругивали. Но когда Франко попытался свергнуть умеренно левое правительство, испанский народ неожиданно восстал. Казалось – возможно, так и было – наступил поворотный момент.
Однако некоторые стороны не были учтены общественностью. Начать с того, что Франко нельзя однозначно сравнивать с Гитлером или Муссолини. Он поднял военный мятеж, поддержанный аристократией и церковью, целью которого было, особенно вначале, не утверждение фашизма, а реставрация феодализма. Так Франко восстановил против себя не только рабочий класс, но и некоторые слои либеральной буржуазии – то есть тех самых людей, которые поддерживают фашизм, когда он обретает более современную форму. Еще важнее то, что испанский рабочий класс оказывал сопротивление Франко не во имя «демократии» и статус-кво – как, возможно, было бы в Англии, – нет, это сопротивление сопровождалось – можно даже сказать, было – революционным бунтом. Крестьяне захватывали землю, профсоюзы взяли под свой контроль почти весь транспорт, церкви громили, а священников выбрасывали на улицу или убивали. «Дейли мейл», поддерживая католическую церковь, в то же время не гнушалась представить Франко патриотом, освобождающим свою страну от орды «красных злодеев».
В первые месяцы войны настоящим противником Франко было не столько правительство, сколько профсоюзы. На возникший мятеж организованные городские рабочие ответили всеобщей стачкой и потребовали – а потом с боем взяли – оружие из национальных арсеналов. Если б не их спонтанные и независимые действия, вполне возможно, что Франко не встретил бы никакого сопротивления. Полной уверенности в этом нет, но поразмышлять об этом стоит. Правительство не предприняло, по сути, никаких мер для предотвращения мятежа, хотя его можно было предвидеть, и когда грянул гром, оно действовало до такой степени вяло и нерешительно, что за один день пришлось сменить трех премьеров.[23 - Это случилось 19 июля 1936 г. (три премьера: Кисарес Кирога, Диего Мартинес Баррио и Хосе Хираль). Первые два отказались раздать оружие профсоюзам. – Примеч. авт.] Более того, единственный шаг, который мог переломить ситуацию, – вооружение рабочих, был предпринят неохотно и то после шумных народных протестов. Наконец оружие раздали, и в больших городах восточной Испании фашисты потерпели крупное поражение от объединенных сил – вооруженных рабочих и тех воинских частей, которые остались верны республике. Такой пыл в борьбе мог исходить только от людей, преследовавших революционные цели, они верили, что сражаются за нечто большее, чем статус-кво. Говорят, что в нескольких центрах сопротивления за один день на улицах погибли три тысячи человек. Мужчины и женщины, вооруженные одними только динамитными шашками, заполняли площади и брали приступом каменные здания, охраняемые обученными пулеметчиками. Пулеметные гнезда, расставленные фашистами в стратегических точках, вдребезги сносились такси на скорости шестьдесят миль в час. Даже если не знать о захватах земли крестьянами, о создании местных Советов и так далее, можно понять, что анархисты и социалисты, главная опора сопротивления, затеяли эти беспорядки не ради сохранения капиталистической демократии, которую они, особенно анархисты, считали централизованной партией по обману трудящихся.
Пока в руках рабочих было оружие, они не собирались сдаваться. (Подсчитано, что даже через год у анархо-синдикалистов Каталонии было 30 000 ружей.) Во многих местах крестьяне захватили поместья богатых, профашистски настроенных помещиков. Наряду с коллективизацией промышленности и транспорта, предпринимались попытки создать зачатки рабочего правительства в виде местных комитетов; рабочих патрулей, сменивших прежнюю полицию; рабочее ополчение на основе профсоюзов и так далее. Конечно, этот процесс был неоднородным, и в Каталонии он зашел дальше, чем где бы то ни было. Находились места, где местное управление почти не подверглось изменению, были и другие, работавшие совместно с революционными комитетами. Кое-где возникли независимые анархистские коммуны, некоторые просуществовали около года, а затем были насильственно упразднены правительством. В Каталонии в течение первых месяцев реальная власть находилась почти полностью в руках анархо-синдикалистов, которые контролировали большую часть промышленного производства. То, что началось тогда в Испании, было, по существу, не просто гражданской войной, а началом революции. Вот это зарубежная антифашистская пресса всячески замалчивала. Проблему сузили и определили как «фашизм против демократии», а революционный аспект происходящего сознательно скрывался. В Англии, где пресса более централизована, а читатель более доверчив, чем в других странах, существовали две версии испанской войны: одна принадлежит правому крылу и гласит: христианские патриоты против большевиков с обагренными кровью руками; другая – левому крылу: цивилизованные республиканцы против военного мятежа. Но главная проблема успешно утаивалась.
Этому было несколько причин. Прежде всего профашистская пресса распускала слухи о чудовищных злодеяниях республиканцев, а газетчики из лучших побуждений отрицали, что Испания становится «красной», считая, что тем самым помогают испанскому правительству. Но основная причина была не в этом: весь мир, кроме небольших революционных организаций, существующих во всех странах, был нацелен на предотвращение революции в Испании. В частности, коммунистическая партия, за которой стоял Советский Союз, резко высказалась против революции. Коммунисты утверждали, что на этом этапе революция обречена и стремиться надо не к государству рабочих, а к буржуазно-демократическому строю. Нет нужды объяснять, почему «либералы» из капиталистических стран заняли ту же позицию. Иностранный капитал инвестировал большие деньги в испанскую экономику. Например, в Барселонскую железнодорожную компанию англичане вложили десять миллионов, а тем временем профсоюзы конфисковали в Каталонии весь транспорт. Если бы революция продолжилась, никто не получил бы компенсацию или – очень небольшую, но, если бы верх взяла капиталистическая республика, инвестиции были бы спасены. А так как революцию в любом случае нужно подавить, проще притвориться, что она и не начиналась. Таким образом, подлинное значение событий скрывалось, каждый переход власти от профсоюзов к центральному правительству подавался как необходимый шаг в военной реорганизации. Ситуация становилась все более любопытной. За пределами Испании немногие понимали, что там вершится революция, а внутри страны, напротив, никто в этом не сомневался. Даже газеты ПСУК. Издания, контролируемые коммунистами, и те, что в разной степени поддерживали антиреволюционную политику, дружно говорили о «нашей славной революции». А тем временем коммунистическая пресса в зарубежных странах вопила, что в Испании нет никаких примет революции, нет ничего – ни захвата фабрик, ни создания рабочих комитетов и так далее, а если что и было, то это не имело «никакого политического значения». Как пишет «Дейли уоркер» от 6 августа 1936 года, те, кто говорит о том, что испанский народ сражается за социальную революцию или за что-то другое, кроме буржуазной демократии, – «отъявленные лгуны». А с другой стороны, Хуан Лопес, член правительства Валенсии, объявил в феврале 1937 года, что «испанский народ проливает кровь не за демократическую республику и ее конституцию, существующую только на бумаге… а за революцию». Так что получается, что в число «отъявленных лгунов» входили члены правительства, на чьей стороне нам предлагали воевать. Некоторые из зарубежных антифашистских газет опустились до жалкого вранья, сообщая, что на церкви нападают только в том случае, когда те являются оплотом фашистских сил. На самом деле церкви грабили повсеместно, прекрасно понимая, что испанская церковь – существенная часть капиталистического порядка. За шесть месяцев я видел в Испании только две не разграбленные церкви, и до июля 1937 года церкви не открывали и не разрешали проводить в них богослужения; это не касалось лишь одной-двух протестантских церквей в Мадриде.
Но все это было только началом революции, которая так и не свершилась. Даже когда рабочие, особенно в Каталонии, а возможно, и повсюду, обладали достаточной силой, чтобы свернуть или полностью заменить правительство, они этого не сделали. Понятно, что они и не могли этого сделать, когда Франко наступал им на пятки и его поддерживала часть среднего класса. Страна находилась на перепутье – могла развиваться как в направлении социализма, так и капитализма. Крестьяне захватили большую часть земли и, если перевес в войне не случился бы в пользу Франко, оставили бы ее себе; основное промышленное производство было коллективизировано и таким бы и сохранилось, если бы не восторжествовал капитализм. Все зависело от того, на чьей стороне будет победа. В начале войны можно было с полной определенностью сказать, что и Центральное правительство, и Генералитет Каталонии (полуавтономное каталонское правительство) представляли интересы рабочих. В правительство, возглавляемое Кабальеро, социалистом из левого крыла, входили министры, представлявшие УГТ (профсоюзы социалистов) и СНТ (профсоюзы синдикалистов, контролируемые анархистами). Генералитет Каталонии на какое-то время был практически заменен антифашистским Комитетом обороны[24 - Comitе Central de Milicias Antifascistas. Количество делегатов от каждой партии было пропорционально ее численности. Девять делегатов представляли профсоюзы, три – либеральные партии Каталонии и два – разные марксистские партии (ПОУМ, коммунистов и пр.). – Примеч. авт.], состоящим преимущественно из делегатов профсоюзов. Позже Комитет обороны был распущен, а Генералитет восстановлен и реформирован с тем, чтобы в него вошли представители профсоюзов и различных левых партий. С каждой последующей перестановкой правительство смещалось вправо. Сначала из Генералитета исключили ПОУМ; семь месяцев спустя на место Кабальеро поставили Негрина, социалиста из правого крыла; вскоре из правительства изгнали СНТ и УГТ; затем СНТ исключили из Генералитета. Таким образом, спустя год после начала войны и революции правительство уже целиком состояло из социалистов правого крыла, либералов и коммунистов.
Начавшийся крен в правую сторону датируется октябрем-ноябрем 1936 года, когда СССР стал поставлять правительству оружие и власть постепенно переходила от анархистов к коммунистам. Никто, кроме России и Мексики, не выразил желания помочь испанскому правительству, а Мексика по вполне понятным причинам не могла в большом количестве осуществлять поставки. В результате русские оказались в положении, когда могли диктовать условия. Мало сомнений в том, какими были эти условия: «Остановить революцию, или оружия больше не будет», мало сомнений и в том, что первый шаг против революционных элементов, исключение ПОУМ из Каталонского Генералитета, был сделан по приказу Советского Союза. Прямое давление всегда отрицалось русскими, но это не так уж и важно: коммунистические партии всех стран всегда руководствовались политикой Советского Союза, и именно коммунистическая партия выступила сначала против ПОУМ, а потом против анархистов и возглавляемого Кабальеро крыла социалистов, а в конечном счете и против революционной политики. Как только в испанские события вмешался СССР, победа коммунистов была обеспечена. Начать с того, что помощь России оружием и то, что коммунистическая партия, особенно с появлением интернациональных бригад, казалась способной выиграть войну, сильно повысило престиж коммунистов. Во-вторых, русское оружие распределялось через коммунистическую и дружественные ей партии, которые следили, чтобы политическим оппонентам перепадало как можно меньше оружия[25 - Вот почему на Арагонском фронте было так мало русского оружия, ведь там ополчение было преимущественно из анархистов. До апреля 1937 года я видел только одно русское оружие – за исключением самолетов, которые могли быть и не русскими, – один-единственный автомат. – Примеч. авт.]. В-третьих, отказавшись от революционных целей, коммунисты привлекли к себе тех, кого пугали экстремисты. Например, легко было восстановить богатых крестьян против провозглашенной анархистами политики коллективизации. Численность партии возрастала не по дням, а по часам – в основном за счет среднего класса: лавочников, армейских офицеров, зажиточных крестьян и так далее.
Война обретала трехстороннюю направленность. Война против Франко продолжалась, но у правительства одновременно была и другая цель – вернуть себе ту власть, которая оставалась у профсоюзов. Это делалось посредством мелких акций – политики булавочных уколов, как кто-то выразился, и в целом весьма умно. Не предпринималось никаких очевидных контрреволюционных действий, и до мая 1937 года не было никакой нужды прибегать к силе. Рабочих всегда можно было усмирить, прибегнув к настолько банальному аргументу, что его не обязательно упоминать: «Если вы не сделаете вот это, это и еще это, мы проиграем войну». И каждый раз оказывалось, что из военных соображений надо было пожертвовать тем, что в 1936 году завоевали для себя рабочие. Но с такими аргументами не спорили: последнее, что хотели революционные партии, – это проиграть войну. Социализм и анархизм стали лишенными смысла словами. Анархисты – единственная революционная партия, достаточно большая, с которой приходилось считаться, теряла позиции одну за другой. Процесс коллективизации был остановлен, местные комитеты прикрыты, рабочий патруль отменен, вновь были призваны довоенные полицейские силы, значительно усиленные и мощно вооруженные, а промышленные предприятия, находившиеся под контролем профсоюзов, отобраны (один из примеров – телефонный узел Барселоны, захваченный еще в майских боях). И что самое важное – рабочее ополчение, созданное профсоюзами, постепенно распалось и влилось в Народную армию – аполитичную, частично на буржуазной основе, с разным жалованьем, привилегированной кастой офицеров и так далее. При сложившихся обстоятельствах это имело решающее значение; в Каталонии такое случилось позже – там были сильные революционные партии. Единственной гарантией сохранения рабочими своих завоеваний было наличие у них военных подразделений. Развал ополчения происходил, как обычно, на фоне разговоров об усилении военной эффективности, никто не отрицал того, что нужна реорганизация армии. Можно было пойти по пути реорганизации ополчения, сделать его деятельность более результативной, оставив тем не менее под контролем профсоюзов, но изменения были задуманы с целью лишить анархистов собственной армии. Более того, демократический дух ополчения делал его рассадником революционных идей. Коммунисты это понимали и постоянно яростно нападали на ПОУМ и анархистские принципы равного жалованья для всех чинов. Шло повальное «обуржуазивание», сознательное разрушение эгалитарного духа первых месяцев революции. Все происходило так быстро, что люди, возвратившиеся в Испанию спустя несколько месяцев после первого приезда, не верили, что приехали в ту же страну: то, что недолгое время казалось государством рабочих, превращалось на глазах в обычную буржуазную республику с привычным разделением на богатых и бедных. К осени 1937 года так называемый социалист Негрин заявлял в своих публичных речах, что «мы уважаем частную собственность», а члены кортесов, покинувшие страну в начале войны из-за подозрений в фашистских симпатиях, возвращались в Испанию. Этот процесс легко понять, если вспомнить, что он ведет свое начало от временного союза, который фашизм в некоторых формах навязал буржуазии и рабочим. Этот союз, известный как Народный фронт, являлся, по сути, союзом врагов, и в нем с большой долей вероятности один из партнеров должен был проглотить другого. Но в испанской ситуации присутствовал один неожиданный момент, приведший к повсеместному непониманию в других странах: как случилось, что среди партий, поддерживающих правительство, коммунисты заняли вместо левой крайне правую позицию?
На самом деле это совсем не удивительно: ведь тактика коммунистической партии повсюду, особенно во Франции, дает ясно понять, что официальный коммунизм, пусть на какое-то время, должен рассматриваться как антиреволюционная сила. Политика Коминтерна подчинена (что простительно, учитывая международную обстановку) защите СССР, который связан системой политических альянсов. К примеру, союзник СССР – Франция, капиталистическая и империалистическая держава. Этот союз мало что дает России, если капитализм во Франции занимает слабую позицию, поэтому французская компартия должна занимать антиреволюционную позицию. Это означает не только то, что теперь французские коммунисты маршируют под триколором и поют «Марсельезу», а еще и нечто более важное – прекращение активной агитации во французских колониях. Прошло меньше трех лет с тех пор, как Торез, секретарь французской коммунистической партии, заявлял, что французских рабочих нельзя обманом втянуть в войну с немецкими товарищами[26 - Речь в Палате депутатов, март 1935-го. – Примеч. авт.], а теперь он стал самым громкоголосым патриотом во Франции. Разгадка поведения коммунистической партии в любой стране заключается в том, в каком военном лагере – реальном или потенциальном – находится эта страна по отношению к СССР. Например, Англия еще не определила свою позицию, поэтому ее коммунистическая партия по-прежнему враждебна к национальному правительству и, по-видимому, противится перевооружению. Однако если Великобритания вступит в союз или найдет военное понимание с СССР, у английского коммуниста, как и у французского, не будет другого выбора, кроме как стать настоящим патриотом и империалистом, и этому есть предостерегающие знаки. В Испании на коммунистический курс, несомненно, повлиял тот факт, что Франция, союзник России, не приемлет в качестве соседа охваченную революцией страну и будет землю носом рыть, чтоб не допустить освобождения Испанского Марокко. «Дейли мейл» со своими рассказами о финансируемой Москвой красной революции ошибается даже больше обычного. На самом деле коммунисты как никто препятствовали развитию революции в Испании. Позже, когда испанскую политику уже определяли правые силы, коммунисты продемонстрировали желание пойти дальше либералов в поимке революционных лидеров[27 - Более полно борьба между партиями, поддерживающими правительство, освещена в книге Франца Боркенау «Испанская арена» (Franz Borkenau. The Spanish Cockpit). Пока это лучшая книга об испанской войне. – Примеч. авт.].
Я попытался кратко обрисовать, как развивалась испанская революция в свой первый год, так как это может помочь разобраться в других ситуациях. Но я не хочу представить дело так, что в феврале у меня уже сложились те соображения, которые я изложил выше. Прежде всего события, которые пролили свет на многое, еще не произошли, и, кроме того, мои симпатии были несколько другими. Частично это связано с тем, что политическая сторона войны утомляет меня, и я, естественно, противостоял точке зрения, которую я слышал чаще всего, то есть точке зрения ПОУМ и ИЛП. Большинство англичан, среди которых я находился, состояли в ИЛП, только несколько из них – в СР, и почти все они разбирались в политике гораздо лучше меня. Во время затишья, когда в районе Уэски ничего не происходило, я неделями присутствовал при политических спорах, которые практически никогда не кончались. Дискуссии о разногласиях партийных линий велись в продуваемом вонючем сарае фермерского дома, где мы стояли на постое; в душных темных блиндажах; морозными ночами у бруствера. У испанцев было то же самое, и главной темой большинства газет стала внутрипартийная борьба. И только глухой или слабоумный не уловил бы, какую позицию занимает каждая партия.
Что касается политической теории, то тут имели значение только три партии: ПСУК, ПОУМ и СНТ-ФАИ – последние две можно в целом назвать анархистскими. Первой я назвал ПСУК как самую значительную; именно она в конце концов одержала победу, да и раньше была на подъеме.
Необходимо объяснить, что, говоря о позиции ПСУК, всегда подразумевают позицию коммунистической партии. Изначально ПСУК – социалистическая партия Каталонии – была создана в начале войны путем слияния нескольких марксистских групп, включая Коммунистическую партию Каталонии, однако она не находилась целиком под коммунистическим контролем и была принята в члены Третьего Интернационала. Нигде в Испании не было формального объединения социалистов и коммунистов, однако взгляды коммунистов и правого крыла социалистов можно расценивать как идентичные. Грубо говоря, ПСУК была политическим органом УГТ, социалистических профсоюзов. Членами этих профсоюзов состояли полтора миллиона испанцев. В профсоюзах было много рабочих секций, но с началом войны туда влился большой поток представителей среднего класса: в эти ранние «революционные» дни самые разные люди считали нужным вступить в УГТ или СНТ. Эти два профсоюзные объединения по сути совпадали, но из двух СНТ с большей определенностью была организацией рабочего класса. Поэтому ПСУК являлась частично партией рабочих, а частично партией мелкой буржуазии – лавочников, служащих и зажиточных крестьян.
Позиция ПСУК, распространяемая коммунистической и прокоммунистической прессой по всему миру, была приблизительно такой:
«В настоящее время нет ничего важнее победы в войне, без этой победы все остальное теряет смысл. Сейчас не тот момент, когда стоит затевать разговоры о революции. Мы не можем оттолкнуть крестьян, навязав им коллективизацию, и не можем отпугнуть средний класс, который борется на нашей стороне. И, более того, ради успеха дела мы должны покончить с революционным хаосом. Вместо местных комитетов нам нужны сильное центральное правительство и хорошо обученная, полностью оснащенная армия под единым командованием. Лучше ничего не делать, чем сохранять то, что осталось от рабочего контроля, и произносить трескучие революционные фразы – это не просто тормозящий момент, но даже контрреволюционный – он ведет к разобщению, а этим могут воспользоваться фашисты. На настоящем этапе мы сражаемся не за диктатуру пролетариата, а за парламентскую демократию. Тот, кто стремится перевести гражданскую войну в революционное русло, играет на руку фашистам и пусть не намеренно, но становится предателем».
Позиция ПОУМ кардинально расходилась со всем вышеизложенным, кроме, разумеется, необходимости победы в войне. ПОУМ относилась к тем диссидентским коммунистическим партиям, которые возникли за последние несколько лет во многих странах как результат противостояния сталинизму, выступающим за изменения, реальные или мнимые, в коммунистической политике. Частично ПОУМ состояла из бывших коммунистов, а частично из членов более ранней партии – Блока Рабочих и Крестьян. Из-за небольшой численности[28 - Приводится численность ПОУМ за разные месяцы: июль 1936-го – 10 000; декабрь 1936-го – 70 000; июнь 1937-го – 40 000. Эти цифры приводит ПОУМ, недоброжелатели разделили бы их на четыре. Единственное, что можно утверждать с уверенностью: все испанские политические партии склонны преувеличивать число своих членов. – Примеч. авт.] ее влияние в основном ограничивалось Каталонией, а авторитет создавался за счет высокого процента политически сознательных членов. В Каталонии ее опорным пунктом была Лерида. ПОУМ не являлась объединением профсоюзов. Ополчение ПОУМ формировалось преимущественно из состава СНТ, но фактические члены партии в большинстве случаев принадлежали к УГТ. Однако только на СНТ ПОУМ оказывала какое-то влияние. Что касается позиции ПОУМ, то о ней говорят следующие строки:
«Смешно говорить, что буржуазная демократия противостоит фашизму. Буржуазная демократия, как и фашизм, – всего лишь иное название капитализма, и сражение с фашизмом от лица «демократии» означает, что одна форма капитализма идет против другой, причем в любой момент они могут поменяться местами. Единственно реальная альтернатива фашизму – власть рабочих. Если поставить меньшую задачу, вы или отдадите победу Франко, или впустите фашизм через черный ход. В то же время рабочим нужно крепко держаться за свои завоевания, если они в чем-то уступят этому наполовину буржуазному правительству, их обязательно обманут. Рабочее ополчение и полицейские силы должны сохраняться в теперешнем виде, и каждая попытка их обуржуазить должна пресекаться. Если рабочие не будут контролировать вооруженные силы, тогда вооруженные силы будут контролировать рабочих. Война и революция неразделимы».
Позицию анархистов определить не так легко. Во всяком случае, широковещательное понятие «анархисты» включает в себя множество людей с весьма разными точками зрения. Крупное объединение союзов, образующих СНТ (Национальную конфедерацию труда), в которую входит около двух миллионов человек, имеет в виде политического органа ФАИ (Федерация анархистов Иберии), подлинно анархическую партию. Но даже членов ФАИ с отчетливым анархистским душком, как свой есть, может быть, почти у всех испанцев, нельзя назвать анархистами в полном смысле слова. Тем более что с начала войны они сместились в сторону социализма из-за обстоятельств, заставивших их участвовать в централизованной администрации и даже, нарушив свои принципы, войти в правительство. Тем не менее они кардинально отличались от коммунистов и, как и ПОУМ, стремились к власти рабочих, а не к парламентской демократии. Они принимали девиз ПОУМ: «Война и революция неразделимы», хотя не столь безапелляционно. Проще говоря, СНТ-ФАИ выступали за: 1. Непосредственный контроль рабочих за промышленным производством в определенной отрасли, например, в транспортной или в текстильной и так далее; 2. Управление посредством местных комитетов и сопротивление всем формам централизованного авторитаризма; 3. Бескомпромиссная враждебность по отношению к буржуазии и церкви. Последний пункт, хотя не четко обозначенный, был самым важным. Анархисты противопоставляли себя большинству так называемых революционеров в очень многих вещах, и хотя их принципы были довольно расплывчаты, но ненависть к привилегиям и несправедливости были неподдельными. С философской точки зрения коммунизм и анархизм – диаметрально противоположные категории. С практической – то есть избрания формы общества – разница в основном в акцентах, но они непреодолимы. Коммунисты ратуют за централизацию и эффективность, а анархисты за свободу и равенство. Анархизм пустил глубокие корни в Испании и, похоже, переживет коммунизм, когда русское влияние ослабеет. В первые два месяца войны именно анархисты сделали для спасения ситуации больше, чем остальные партии, а значительно позже анархистские ополченцы, несмотря на недисциплинированность, были, несомненно, лучшими бойцами среди испанских частей. Какое-то время, начиная с февраля 1937 года, у анархистов и ПОУМ было много точек соприкосновения для ведения совместных действий. Если бы анархисты, ПОУМ и левое крыло социалистов проявили здравый смысл и, с самого начала объединившись, проводили общую политику, течение войны могло бы быть другим. Но на раннем этапе, когда расстановка сил сложилась в пользу революционных партий, это было невозможно. Между анархистами и социалистами было давнее взаимное недоверие; ПОУМ как марксистская партия скептически относилась к анархизму; а с точки зрения классического анархиста «троцкизм» ПОУМ был нисколько не лучше «сталинизма» коммунистов. Тем не менее коммунисты эти партии рассматривали в одном ключе. Когда ПОУМ присоединилась к кровавому майскому сражению в Барселоне, это объяснялось во многом стремлением поддержать СНТ, а позже, когда ПОУМ запретили, только анархисты подняли голос в ее защиту.
Итак, грубо говоря, расстановка сил была такая: на одной стороне находились СНТ-ФАИ и ПОУМ, а также та часть социалистов, что выступала за рабочую власть; на другой – правое крыло социалистов, либералы и коммунисты, стоящие за централизованное правительство и милитаризованную армию.
Легко понять, почему в то время я разделял коммунистический взгляд на ситуацию, а не позицию ПОУМ. У коммунистов были четкие практические цели – несомненно лучшая политика с точки зрения здравого смысла, когда планируешь только на несколько месяцев вперед. Что касается повседневной политики ПОУМ, пропаганды и так далее – это все никуда не годилось, иначе партия могла бы привлечь гораздо больше народу. И в довершение всего коммунисты – так мне казалось – активно вели войну, в то время как мы и анархисты теряли время. Тогда все так думали. Коммунисты набирали силу и возрастали численно, привлекая, с одной стороны, средний класс своим несогласием с революционерами, а с другой – тем, что только они, казалось, были способны победить в войне. Русское оружие и великолепная оборона Мадрида под руководством коммунистов сделала последних героями Испании. Как кто-то сказал, каждый русский самолет над нашими головами – коммунистическая пропаганда. Революционный пуризм ПОУМ, хотя я видел его логичность, казался мне безрезультатным. Ведь главное – выиграть войну.
Тем временем между партиями шла ожесточенная борьба – в газетах, в памфлетах, в плакатах, в книгах – всюду. В то время я чаще других читал «La Batalla»[29 - La Batalla – бой (исп.).] и «Adelante»[30 - Adelante – вперед (исп.).], газеты ПОУМ, и их придирчивые нападки на «контрреволюционную» ПСУК казались мне слишком самоуверенными и занудными. Позднее, подробнее ознакомившись с прессой ПСУК и коммунистов, я понял, что ПОУМ по сравнению со своими оппонентами являла собой образец порядочности. Помимо прочего, у ПОУМ было меньше возможностей. В отличие от коммунистов у партии не было выхода за рубеж, и внутри Испании она находилась в невыгодном положении: цензура была в основном под контролем коммунистов, а это означало, что газеты ПОУМ, если в них находили крамолу, могли быть конфискованы или оштрафованы. Справедливости ради надо сказать, что хотя ПОУМ бесконечно проповедовала революцию и ее члены ad nauseam[31 - До тошноты (лат.).] цитировали Ленина, все же они не опускались до клеветы. И полемику вели по преимуществу в газетах. На больших цветных плакатах, предназначенных для широкой публики (плакаты важны в Испании, где большинство населения не умеет читать), они никогда не высмеивали своих оппонентов; эти плакаты были антифашистского или абстрактно революционного толка вроде песен ополченцев. Выпады коммунистов были совсем другими. Позднее я расскажу об этом подробнее. А сейчас я просто обозначу само направление коммунистических нападок.
На первый взгляд расхождения между коммунистами и ПОУМ были чисто тактического свойства. ПОУМ стояла за немедленную революцию, коммунисты были против. На каждой стороне были свои плюсы и минусы. Далее коммунисты утверждали, что пропаганда ПОУМ разделяет и ослабляет правительственные силы и таким образом ставит под угрозу победу в войне. И тут, хотя в целом с этим не согласен, было свое рациональное зерно. Но потом раскрылась особенность коммунистической тактики. Сначала осторожно, потом все более решительно стали раздаваться голоса, что ПОУМ не заблуждается, а осознанно раскалывает правительственные силы. ПОУМ объявлялась бандой замаскированных фашистов, играющих на руку Франко и Гитлеру и проводящих псевдореволюционную политику, чтобы помочь фашистам. ПОУМ – «троцкистская» организация и пятая колонна Франко. Это означало, что тысячи рабочих, включая восемь или десять тысяч солдат, мерзших в окопах на линии фронта, и сотни иностранцев, приехавших в Испанию, чтобы бороться с фашизмом, и часто жертвующих достатком и гражданством, – всего лишь предатели, нанятые врагом. А ведь эта версия посредством плакатов и так далее распространилась по всей Испании и раз за разом повторялась в коммунистической и прокоммунистической прессе всего мира. Если б я стал коллекционировать цитаты из подобных пасквилей, то мог бы составить из них несколько книг.
Оказалось, что все мы – троцкисты, фашисты, предатели, убийцы, трусы и шпионы. Должен сказать, в этом было мало приятного, особенно если подумать о некоторых людях, которые это заварили. Грустно видеть пятнадцатилетнего испанского мальчика, которого уносят на носилках с линии фронта, как он безучастно, с помертвевшим лицом смотрит из-под одеяла на окружающих, и знать, что холеные мужчины в Лондоне или Париже в своих памфлетах доказывают, что этот мальчик переодетый фашист. Одна из самых ужасных особенностей войны – военная пропаганда, этот визг, и ложь, и ненависть, исходящие неизменно от людей, которые сами не воюют. Ополченцы ПСУК, знакомые мне по фронту, коммунисты из интернациональной бригады, которых я время от времени встречал, никогда не называли меня троцкистом или предателем; такие ярлыки были на совести только у тыловых крыс – журналистов. Люди, сочинявшие обличительные и порочащие нас статьи, благополучно сидели дома, в лучшем случае в редакциях Валенсии, в сотнях миль от пуль и грязи. Но и помимо клеветнических приемов внутрипартийной борьбы, вся обыденность войны пышно героизировалась, а врага обливали грязью все те же люди, которые не участвовали в войне и пробежали бы сотню миль, чтобы избежать встречи с ней. Одним из самых грустных разочарований этой войны стало понимание того, что левая пресса такая же фальшивая и бесчестная, как и правая[32 - Приятным исключением явилась «Манчестер гардиан». При написании этой книги мне пришлось просмотреть кипы английских газет. Из всех наших крупных газет «Манчестер гардиан» – единственная, которая вызвала у меня большое уважение своей честностью. – Примеч. авт.]. Я отчетливо сознавал, что с нашей республиканской стороны эта война отличалась от обычных империалистических войн, хотя из военной пропаганды этого нельзя было понять. Война еще только началась, а правые и левые газеты тут же с головой нырнули в выгребную яму взаимных оскорблений. Нельзя забыть заголовок в «Дейли мейл»: «Красные распинают монахинь», а в «Дейли уоркер» говорилось, что Иностранный легион Франко «состоит из убийц, торговцев живым товаром, наркоманов и прочих отбросов из европейских стран». В октябре 1937 года «Нью стейтсмен» развлекал нас байками о фашистских баррикадах, сложенных из тел живых детей (крайне неудобный материал для подобной цели), а мистер Артур Брайант[33 - Артур Брайант (1899–1985) – британский историк и обозреватель еженедельника «Иллюстрированные лондонские новости».] оповестил всех, что среди испанских лоялистов «отпиливать ноги консервативно настроенным торговцам – обычное дело». Люди, которые такое пишут, никогда не воевали. Возможно, они считают себя воинами, когда пишут такое. На всех войнах происходит одно и то же: солдаты воюют, журналисты кричат, и ни один патриот не приближается к окопам – разве только с кратковременным пропагандистским заданием. Иногда меня утешает мысль, что самолет меняет условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим нечто невозможное: ура-патриот с дыркой от пули.
Если говорить о работе журналистов, то это, как и в любой другой войне, – бизнес. Но с одной разницей: обычно журналисты пускают отравленные стрелы во врагов, а в нашем случае коммунисты и ПОУМ писали друг о друге более язвительно, чем о фашистах. Тем не менее в то время я не мог относиться к этому серьезно. Межпартийная вражда раздражала и даже вызывала отвращение и все же казалась, скорее, домашней склокой. Я не верил, что она может что-то изменить и что между отдельными партиями существуют непримиримые противоречия. До меня дошло, что коммунисты и либералы не хотят дальнейшего развития революции, но то, что они хотят повернуть ее вспять, в голове не укладывалось.
И тому были причины. Все это время я находился на фронте, а там социальная и политическая атмосфера не изменилась. Я покинул Барселону в начале января и до конца апреля не был в отпуске, и все это время – и даже больше – в районе Арагона, находившегося под контролем анархистов и ПОУМ, все оставалось по-старому, во всяком случае, на первый взгляд. Сохранялась та же революционная атмосфера. Генерал и рядовой, крестьянин и ополченец держались на равных; все получали одно жалованье, носили одинаковую одежду, ели одну и ту же еду и называли друг друга «ты» и «товарищ». Не было хозяев, не было слуг, не было нищих и проституток, не было адвокатов и священников, не было лизоблюдства и подхалимства. Я вдыхал воздух равенства и по наивности думал, что во всей Испании происходит то же самое. Я не понимал, что по чистой случайности оказался среди самой революционной части испанского рабочего класса.
Поэтому когда мои политически подкованные товарищи говорили, что нельзя подходить к этой войне только как к боевому противостоянию, а основной конфликт – революция или фашизм, у меня такая альтернатива вызывала улыбку. В целом я разделял точку зрения коммунистов, сводившуюся к следующему: «Мы не можем говорить о революции, пока не победим в войне», а не позицию ПОУМ, гласившую: «Мы должны наступать, или нас отбросят назад». Когда со временем я решил, что ПОУМ стоит на правильном пути, во всяком случае, на более правильном, чем коммунисты, это решение пришло не на уровне теории. Теоретически коммунизм выглядел безукоризненно, но беда в том, что в жизни коммунисты вели себя так, что было трудно поверить в благостность их намерений. Часто повторяющийся лозунг: «Первым делом – война, революция – потом», в который безгранично верил рядовой ополченец ПСУК, не сомневавшийся, что с окончанием войны революция продолжится, был надувательством. Коммунисты были заняты не тем, чтобы отложить испанскую революцию до более подходящего времени, а тем, чтобы ее совсем похоронить. Со временем это стало еще очевиднее, власть уплывала из рук рабочих, а революционеров всех мастей все чаще бросали в тюрьму. Каждое действие совершалось якобы по причине военной необходимости – такое объяснение всегда сходило с рук, а на самом деле все делалось для того, чтобы лишить рабочих достигнутых привилегий, дабы по окончании войны они не смогли бы воспрепятствовать возрождению капитализма. Прошу обратить внимание, что все сказанное ни в коем случае не относится к рядовым членам партии, и меньше всего к тысячам коммунистов, геройски погибших в боях у Мадрида. Но не эти люди определяли политику партии. Что касается вышестоящих членов партии, нельзя поверить, чтобы они не ведали, что творят.
В конце концов, война стоила того, чтобы ее выиграть даже с утратой надежд на революцию. Но потом я стал сомневаться, приведет ли коммунистическая политика к победе. Мало кто задумывался над тем, что на разных этапах войны требуется своя политика. Анархисты, возможно, спасли положение в первые два месяца, но дальше их подвела неспособность к организованному сопротивлению; коммунисты, возможно, сделали то же самое в октябре-декабре, но для того, чтобы выиграть войну, требовалось нечто большее. В Англии военную политику коммунистов не подвергали сомнению, тех, кто пытался ее критиковать, почти не печатали, а планы коммунистов – покончить с революционным хаосом, ускорить производство и вооружить армию – выглядели реальными и действенными. Стоит обратить внимание и на свойственные им слабости.
Для того чтобы ограничить революционные тенденции и сделать войну как можно более обычной, приходилось отбрасывать благоприятные стратегические возможности. Я уже описывал, как мы были вооружены, а вернее, не вооружены на Арагонском фронте. Теперь уже мало сомнений в том, что оружие удерживалось намеренно, чтобы оно не попало в руки анархистов, которые впоследствии могли бы использовать его в революционных целях. В результате большое арагонское наступление, которое отбросило бы Франко от Бильбао и, возможно, от Мадрида, не случилось. Но это еще не все. Так как «испанская война» сузилась до «войны за демократию», стало невозможно апеллировать к помощи рабочего класса за границей. Если взглянуть в лицо фактам, придется признать, что рабочие всего мира настороженно относились к испанской войне. Десятки тысяч человек отправились воевать, но десятки миллионов отнеслись к событию равнодушно. Во время первого года войны британская публика пожертвовала на «помощь Испании» около четверти миллиона фунтов – меньше половины того, что ею тратится за неделю походов в кино. Однако рабочий класс в демократических странах мог реально помочь своим испанским товарищам такими действиями, как забастовки и бойкоты. Но ничего подобного не произошло. Лидеры лейбористов и коммунистов утверждали, что об этом и помыслить нельзя, а как можно было «помыслить», когда они повсюду вопили, что «красная» Испания вовсе не «красная». Начиная с 1914–1918 годов «война за демократию» имела зловещий оттенок. После этого в течение многих лет сами коммунисты учили активных рабочих всех стран, что «демократия» – мягкий синоним капитализма. А говорить сначала «демократия – надувательство», а потом «сражайтесь за демократию», согласитесь, не самая хорошая тактика. Если бы, опираясь на мощный престиж Советской России, они призвали бы рабочих помочь не «демократической», а «революционной» Испании, трудно поверить, что не было бы отклика.
Но важнее всего то, что при отсутствии революционной политики было трудно, если не совсем невозможно, нанести Франко удар с тыла. К лету 1937 года под контролем Франко находилось больше народу, чем под контролем правительства – гораздо больше, если считать колонии, – хотя число людей под ружьем было почти равным. Как известно, когда в тылу у войска враждебные силы, невозможно держать армию в полевых условиях без дополнительной поддержки – военных частей, которые охраняли бы коммуникации, подавляли саботаж и так далее. Очевидно, что в тылу у Франко не было никакого народного движения. Трудно представить, чтобы люди на его территории – такие как городские рабочие и бедные крестьяне – симпатизировали Франко или хотели его победы, но престиж правительства с каждым колебанием падал вправо. Почему сложилась тупиковая ситуация в Марокко? Почему там не начались беспорядки? Франко установил в Марокко железную диктатуру, и все-таки мавры предпочли его, а не правительство Народного фронта. Вся правда в том, что никаких попыток поднять в Марокко восстание не было: ведь это внесло бы в войну революционную ноту. Чтобы убедить мавров в добрых намерениях правительства, следовало прежде всего предоставить Марокко свободу. Можно представить, как это порадовало бы Францию! Поэтому удобнее всего было отступить в тщетной надежде успокоить французских и британских капиталистов. Цель коммунистической политики заключалась в том, чтобы превратить эту войну в обычную – не революционную, и в этой войне преимущество было на стороне врага. Ведь такого рода война могла быть выиграна только с помощью технических средств, то есть в конечном счете неограниченных поставок оружия. А СССР, главный правительственный поставщик, будучи географически удаленным от Испании, находился в невыгодном положении по сравнению с Италией и Германией. Возможно, лозунг ПОУМ и анархистов: «Война и революция неразделимы» – был не таким утопическим, каким казался.
Я объяснил, почему считаю коммунистическую антиреволюционную политику ошибочной, но по мере развития военных действий есть надежда, что я окажусь не прав. Тысячу раз на это надеюсь! Хочу, чтобы эта война была выиграна любой ценой. Сейчас мы еще не знаем, что произойдет. Правительство может снова качнуть влево, мавры могут поднять восстание по собственной инициативе, Англия может подкупить Италию, война может быть выиграна обыкновенным военным превосходством – ничего не известно. Я не отказываюсь от своего мнения, а прав я или нет – покажет время.
Но в феврале 1937 года все представлялось мне в ином свете. Я устал от бездействия на Арагонском фронте и особенно от сознания, что не вношу свою лепту в борьбу. Мне вспоминался плакат на призывном пункте в Барселоне, вопрошающий с осуждением: «Что ты сделал для демократии?» Что мог я на это ответить? Только: «Поедал ежедневный рацион». Вступив в ополчение, я дал себе обещание убить одного фашиста – в конце концов, если каждый убьет одного из них, фашистов скоро не останется. Но я до сих пор никого не убил, и шансов на это почти не было. И, конечно, я хотел оказаться в Мадриде. Все в армии, несмотря на разные политические взгляды, хотели попасть в Мадрид. Возможно, тогда пришлось бы перейти в интернациональную бригаду: ведь у ПОУМ в Мадриде было мало воинских частей, и анархистов там осталось не так уж много.
Пока, конечно, нельзя было оставлять прифронтовую полосу, но я всех предупредил: когда нас отведут на отдых, я постараюсь перейти в интернациональную бригаду, то есть окажусь под контролем коммунистов. Некоторые ополченцы пытались меня отговорить, но никто не вставлял палки в колеса. Для справедливости надо сказать, что в ПОУМ не преследовались инакомыслящие: если ты не был за фашистов, то мог придерживаться других политических убеждений. Находясь в ополчении, я резко критиковал позицию ПОУМ, но у меня не было из-за этого никаких неприятностей. Никто даже не настаивал на том, чтобы я вступил в партию, хотя, думаю, большинство ополченцев состояли в партии. Я так и не стал политическим членом ПОУМ, о чем впоследствии, когда ее запретили, сожалел.
Глава 6