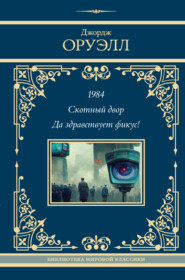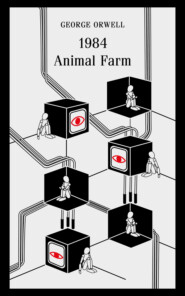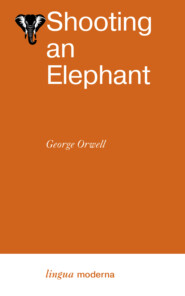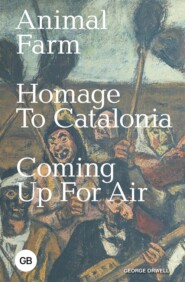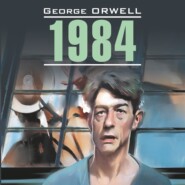По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984. Скотный двор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он подумал, что уже мертв. Ему показалось, что только сейчас, когда он обрел способность формулировать мысли, он пересек черту. Последствия любого действия заключены в самом этом действии. Он написал:
Мыслефелония не влечет за собой смерть: мыслефелония ЕСТЬ смерть.
Теперь, когда он признал в себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь и может выдать. Какой-нибудь востроносый ревнитель в министерстве (скорее всего, женщина: хотя бы та маленькая, рыжеватая или темноволосая из Художественного отдела) мог задуматься, почему Уинстон писал в обеденный перерыв, почему писал старомодной ручкой, что он писал, – и обмолвиться об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванную и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачная бумага, и потому хорошо подходило для такой задачи.
Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было бессмысленно, но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пылинку и поместил на угол обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки.
III
Уинстону снилась мать.
Она исчезла, насколько он знал, когда ему было лет десять-одиннадцать. Мать была высокой, величавой женщиной с роскошными светлыми волосами, довольно молчаливой, медленной в движениях. Отца он припоминал менее отчетливо – темноволосый худощавый человек, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону особенно запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Должно быть, их обоих проглотила система во время одной из первых больших чисток пятидесятых.
Во сне мать сидела где-то в глубине гораздо ниже него, держа на руках его младшую сестренку. Сестренку он почти не помнил – она была крохотным хилым младенцем, тихим и с большими внимательными глазами. Обе они смотрели снизу на Уинстона. Они находились в какой-то подземной норе – вроде дна колодца или очень глубокой могилы, – и эта нора, и без того глубокая, продолжала расти вниз. Они словно сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В салоне еще оставался воздух, и они еще могли видеть его, а он – их, но они продолжали погружаться все глубже и глубже в зеленую воду – и в следующий миг вода скрыла их навсегда. Он стоял на свету и на воздухе, а их затягивала смерть, и они были там, внизу, потому что он был здесь, наверху. Он это знал, и они это знали, и это знание он видел на их лицах. Но ни на лицах, ни в сердцах у них не было упрека – только осознание того, что они должны были умереть, чтобы он мог дальше жить, потому что таков неизбежный порядок вещей.
Он не мог вспомнить, что же с ними случилось, но понял во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесли в жертву ради него. Это был один из тех снов, когда за внешней причудливостью продолжается обычный мыслительный процесс и возникает понимание событий и идей, сохраняющее новизну и значимость после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в значении, теперь уже немыслимом. Ему открылось, что трагедия – это достояние былых времен, когда существовала частная жизнь, любовь и дружба, а родные люди стояли друг за друга без лишних вопросов. Воспоминание о матери разрывало ему сердце потому, что она умерла с любовью к нему, а он был еще слишком юн и эгоистичен, чтобы ответить тем же, а еще она каким-то образом – каким именно, он не помнил, – принесла себя в жертву личной и несокрушимой идее верности. Он осознал, что сегодня такое уже невозможно. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет ни уважения к чувствам, ни глубокого и сложного горя. Все это он словно бы увидел в больших глазах матери и сестры, смотревших на него сквозь зеленую воду снизу, с глубины в сотни саженей, и продолжавших погружаться.
Неожиданно он очутился на короткой упругой траве летним вечером, когда косые лучи солнца золотят землю. Простиравшаяся перед ним местность так часто ему снилась, что он не мог быть уверенным, видел он ее когда-то наяву или нет. Мысленно он называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, с протоптанной тропинкой и кочками кротовых нор. По дальнему краю луга неровной стеной тянулись вязы, легкий ветер едва шевелил их кроны, и густая листва колыхалась, словно женские волосы. А где-то неподалеку, вне зоны видимости, лениво журчал чистый ручей, и плотва плескалась в заводях под ивами.
Через луг шла девушка с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя всю одежду и небрежно отбросила в сторону. Тело у нее было белым и атласным, но не пробудило в нем желания – он едва взглянул на него. Что захватило его в тот миг, так это сам жест, которым она отбросила одежду. Такая изящная беспечность словно перечеркнула целую цивилизацию и мировоззрение, как будто и Большого Брата, и Партию, и Мыслеполицию ниспровергли одним великолепным взмахом руки. Этот жест также был достоянием былого. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах.
Телеэкран издавал раздирающий уши свист, державшийся тридцать секунд на одной ноте. На часах 07.15 – время подъема для конторских служащих. Уинстон выдернул себя из постели – нагишом, поскольку член внешней партии получал всего три тысячи купонов на одежду в год, а пижамный костюм стоил шестьсот – и схватил со стула поношенную майку и шорты. До физзарядки оставалось три минуты. И тут его согнул жестокий приступ кашля, как почти всегда после пробуждения. Кашель норовил вывернуть легкие наизнанку, так что Уинстон повалился на спину и начал отчаянно ловить ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Жилы у него вздулись от натуги, а варикозная язва зачесалась.
– Группа от тридцати до сорока! – пролаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Примите, пожалуйста, исходное положение. От тридцати до сорока!
Уинстон встал по стойке «смирно» перед телеэкраном, на котором уже возникла моложавая женщина: худощавая, но мускулистая, в тунике и спортивных туфлях.
– Сгибание рук и потягивание! – отчеканила она. – Считайте за мной. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Ну-ка, товарищи, поживее! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!..
Жестокий приступ кашля едва не вытеснил из сознания Уинстона ощущения от сновидения, но ритмичные движения зарядки помогли их восстановить. Механически выбрасывая руки взад-вперед и удерживая на лице выражение сурового удовлетворения, какое полагалось на физзарядке, он старался прорваться к смутным воспоминаниям раннего детства. Неимоверно трудная задача. Время до конца пятидесятых терялось в тумане. Когда не можешь обратиться к внешним ориентирам, размываются даже события собственной жизни. Ты вспоминаешь крупные происшествия, которых, вполне возможно, и вовсе не было, вспоминаешь мелкую подробность какого-то отдельного случая, но не можешь восстановить общую атмосферу, а еще есть долгие периоды пустоты, о которых ты не помнишь ничего вовсе. Все тогда было другим. Даже названия стран и их очертания на карте. Первая летная полоса, к примеру, называлась тогда по-другому – Англия или Британия, а вот Лондон (Уинстон в этом почти не сомневался) всегда был Лондоном.
Уинстон не мог с уверенностью припомнить время, когда бы его страна не воевала. Кажется, на его детские годы пришелся длительный мирный период, поскольку одно из ранних воспоминаний было связано с авианалетом, очевидно, заставшим всех врасплох. Возможно, как раз тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет стерся из памяти, но он помнил, как отец крепко держал его за руку, пока они спешно спускались все ниже и ниже в какое-то подземное убежище, кружа по винтовой лестнице, звеневшей под ногами. В итоге он так вымотался, что начал хныкать, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать тоже спускалась, но заметно отстала, двигаясь в своей медлительной манере, словно во сне. Она несла его сестренку, а может, то был просто сверток покрывал – он не помнил точно, родилась ли уже сестренка. Наконец они вошли в шумное, многолюдное помещение, и он понял, что это станция метро.
Люди сидели по всей площади каменного пола и теснились на металлических нарах. Уинстон с родителями устроились на полу, а рядом на нарах сидели старик со старухой. Седой как лунь старик был одет в приличный темный костюм и черную матерчатую кепку, сдвинутую на затылок; лицо у него отливало густо-красным, а в голубых глазах стояли слезы. От него несло джином. Казалось, джин сочится из всех его пор, точно пот, и слезы его – тоже чистый джин. Несмотря на легкий хмель, старик терзался от горя, глубокого и нестерпимого. Уинстон понял своим детским умом, что случилось что-то ужасное, что-то такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. Ему даже показалось, что он знает, в чем дело. У старика убили кого-то, кого он любил, – может, маленькую внучку. Старик ежеминутно повторял:
– Не надо нам было им доверять. Говорил же я, мать, говорил? Вот что бывает, когда доверяешь им. Я это всегда говорил. Не надо было доверять этим скотам.
Но что это были за скоты, которым нельзя доверять, Уинстон вспомнить не мог.
Примерно с тех пор война практически не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Несколько месяцев в его детстве шли беспорядочные бои на улицах Лондона, и кое-что из этого Уинстон отчетливо помнил. Но проследить историю тех лет и установить, кто с кем сражался в тот или иной период, было совершенно невозможно. Никакие письменные свидетельства, равно как и устные, не упоминали ни о какой иной расстановке сил, кроме сегодняшней. Сегодня, к примеру, в 1984 году (если сегодня 1984-й), Океания воевала с Евразией, будучи в союзе с Остазией. Ни в официальных, ни в частных заявлениях никто не признавал, что отношения этих трех сил когда-то могли быть другими. Но Уинстон хорошо помнил, что еще четыре года назад Океания воевала с Остазией, будучи в союзе с Евразией. Память его была источником субъективным, на который он мог полагаться, лишь постольку-поскольку его сознание не вполне подчинялось системе. Официально расстановка сил никогда не менялась. Океания ведет войну с Евразией, стало быть, Океания всегда вела войну с Евразией. Враг текущего момента всегда является абсолютным злом, из чего следует, что никакое соглашение с ним – ни в прошлом, ни в будущем – невозможно.
Страшнее всего, думал он в стотысячный раз, отводя плечи назад до ломоты (они вращали корпусом, держа руки на бедрах – это считалось полезным для мышц спины), страшнее всего, что все это может быть правдой. Если Партии под силу запустить руку в прошлое и заявить о том или ином событии, что его никогда не было, – разве это не страшнее любых пыток или смерти?
Партия утверждала, что Океания никогда не была в союзе с Евразией. Он же, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией как минимум четыре года назад. Но чем это знание подкреплялось? Только его личным сознанием, которое в любом случае скоро уничтожат. Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку – тогда ложь войдет в историю и станет правдой.
Мыслефелония не влечет за собой смерть: мыслефелония ЕСТЬ смерть.
Теперь, когда он признал в себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь и может выдать. Какой-нибудь востроносый ревнитель в министерстве (скорее всего, женщина: хотя бы та маленькая, рыжеватая или темноволосая из Художественного отдела) мог задуматься, почему Уинстон писал в обеденный перерыв, почему писал старомодной ручкой, что он писал, – и обмолвиться об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванную и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачная бумага, и потому хорошо подходило для такой задачи.
Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было бессмысленно, но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пылинку и поместил на угол обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки.
III
Уинстону снилась мать.
Она исчезла, насколько он знал, когда ему было лет десять-одиннадцать. Мать была высокой, величавой женщиной с роскошными светлыми волосами, довольно молчаливой, медленной в движениях. Отца он припоминал менее отчетливо – темноволосый худощавый человек, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону особенно запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Должно быть, их обоих проглотила система во время одной из первых больших чисток пятидесятых.
Во сне мать сидела где-то в глубине гораздо ниже него, держа на руках его младшую сестренку. Сестренку он почти не помнил – она была крохотным хилым младенцем, тихим и с большими внимательными глазами. Обе они смотрели снизу на Уинстона. Они находились в какой-то подземной норе – вроде дна колодца или очень глубокой могилы, – и эта нора, и без того глубокая, продолжала расти вниз. Они словно сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В салоне еще оставался воздух, и они еще могли видеть его, а он – их, но они продолжали погружаться все глубже и глубже в зеленую воду – и в следующий миг вода скрыла их навсегда. Он стоял на свету и на воздухе, а их затягивала смерть, и они были там, внизу, потому что он был здесь, наверху. Он это знал, и они это знали, и это знание он видел на их лицах. Но ни на лицах, ни в сердцах у них не было упрека – только осознание того, что они должны были умереть, чтобы он мог дальше жить, потому что таков неизбежный порядок вещей.
Он не мог вспомнить, что же с ними случилось, но понял во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесли в жертву ради него. Это был один из тех снов, когда за внешней причудливостью продолжается обычный мыслительный процесс и возникает понимание событий и идей, сохраняющее новизну и значимость после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в значении, теперь уже немыслимом. Ему открылось, что трагедия – это достояние былых времен, когда существовала частная жизнь, любовь и дружба, а родные люди стояли друг за друга без лишних вопросов. Воспоминание о матери разрывало ему сердце потому, что она умерла с любовью к нему, а он был еще слишком юн и эгоистичен, чтобы ответить тем же, а еще она каким-то образом – каким именно, он не помнил, – принесла себя в жертву личной и несокрушимой идее верности. Он осознал, что сегодня такое уже невозможно. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет ни уважения к чувствам, ни глубокого и сложного горя. Все это он словно бы увидел в больших глазах матери и сестры, смотревших на него сквозь зеленую воду снизу, с глубины в сотни саженей, и продолжавших погружаться.
Неожиданно он очутился на короткой упругой траве летним вечером, когда косые лучи солнца золотят землю. Простиравшаяся перед ним местность так часто ему снилась, что он не мог быть уверенным, видел он ее когда-то наяву или нет. Мысленно он называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, с протоптанной тропинкой и кочками кротовых нор. По дальнему краю луга неровной стеной тянулись вязы, легкий ветер едва шевелил их кроны, и густая листва колыхалась, словно женские волосы. А где-то неподалеку, вне зоны видимости, лениво журчал чистый ручей, и плотва плескалась в заводях под ивами.
Через луг шла девушка с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя всю одежду и небрежно отбросила в сторону. Тело у нее было белым и атласным, но не пробудило в нем желания – он едва взглянул на него. Что захватило его в тот миг, так это сам жест, которым она отбросила одежду. Такая изящная беспечность словно перечеркнула целую цивилизацию и мировоззрение, как будто и Большого Брата, и Партию, и Мыслеполицию ниспровергли одним великолепным взмахом руки. Этот жест также был достоянием былого. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах.
Телеэкран издавал раздирающий уши свист, державшийся тридцать секунд на одной ноте. На часах 07.15 – время подъема для конторских служащих. Уинстон выдернул себя из постели – нагишом, поскольку член внешней партии получал всего три тысячи купонов на одежду в год, а пижамный костюм стоил шестьсот – и схватил со стула поношенную майку и шорты. До физзарядки оставалось три минуты. И тут его согнул жестокий приступ кашля, как почти всегда после пробуждения. Кашель норовил вывернуть легкие наизнанку, так что Уинстон повалился на спину и начал отчаянно ловить ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Жилы у него вздулись от натуги, а варикозная язва зачесалась.
– Группа от тридцати до сорока! – пролаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Примите, пожалуйста, исходное положение. От тридцати до сорока!
Уинстон встал по стойке «смирно» перед телеэкраном, на котором уже возникла моложавая женщина: худощавая, но мускулистая, в тунике и спортивных туфлях.
– Сгибание рук и потягивание! – отчеканила она. – Считайте за мной. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Ну-ка, товарищи, поживее! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!..
Жестокий приступ кашля едва не вытеснил из сознания Уинстона ощущения от сновидения, но ритмичные движения зарядки помогли их восстановить. Механически выбрасывая руки взад-вперед и удерживая на лице выражение сурового удовлетворения, какое полагалось на физзарядке, он старался прорваться к смутным воспоминаниям раннего детства. Неимоверно трудная задача. Время до конца пятидесятых терялось в тумане. Когда не можешь обратиться к внешним ориентирам, размываются даже события собственной жизни. Ты вспоминаешь крупные происшествия, которых, вполне возможно, и вовсе не было, вспоминаешь мелкую подробность какого-то отдельного случая, но не можешь восстановить общую атмосферу, а еще есть долгие периоды пустоты, о которых ты не помнишь ничего вовсе. Все тогда было другим. Даже названия стран и их очертания на карте. Первая летная полоса, к примеру, называлась тогда по-другому – Англия или Британия, а вот Лондон (Уинстон в этом почти не сомневался) всегда был Лондоном.
Уинстон не мог с уверенностью припомнить время, когда бы его страна не воевала. Кажется, на его детские годы пришелся длительный мирный период, поскольку одно из ранних воспоминаний было связано с авианалетом, очевидно, заставшим всех врасплох. Возможно, как раз тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет стерся из памяти, но он помнил, как отец крепко держал его за руку, пока они спешно спускались все ниже и ниже в какое-то подземное убежище, кружа по винтовой лестнице, звеневшей под ногами. В итоге он так вымотался, что начал хныкать, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать тоже спускалась, но заметно отстала, двигаясь в своей медлительной манере, словно во сне. Она несла его сестренку, а может, то был просто сверток покрывал – он не помнил точно, родилась ли уже сестренка. Наконец они вошли в шумное, многолюдное помещение, и он понял, что это станция метро.
Люди сидели по всей площади каменного пола и теснились на металлических нарах. Уинстон с родителями устроились на полу, а рядом на нарах сидели старик со старухой. Седой как лунь старик был одет в приличный темный костюм и черную матерчатую кепку, сдвинутую на затылок; лицо у него отливало густо-красным, а в голубых глазах стояли слезы. От него несло джином. Казалось, джин сочится из всех его пор, точно пот, и слезы его – тоже чистый джин. Несмотря на легкий хмель, старик терзался от горя, глубокого и нестерпимого. Уинстон понял своим детским умом, что случилось что-то ужасное, что-то такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. Ему даже показалось, что он знает, в чем дело. У старика убили кого-то, кого он любил, – может, маленькую внучку. Старик ежеминутно повторял:
– Не надо нам было им доверять. Говорил же я, мать, говорил? Вот что бывает, когда доверяешь им. Я это всегда говорил. Не надо было доверять этим скотам.
Но что это были за скоты, которым нельзя доверять, Уинстон вспомнить не мог.
Примерно с тех пор война практически не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Несколько месяцев в его детстве шли беспорядочные бои на улицах Лондона, и кое-что из этого Уинстон отчетливо помнил. Но проследить историю тех лет и установить, кто с кем сражался в тот или иной период, было совершенно невозможно. Никакие письменные свидетельства, равно как и устные, не упоминали ни о какой иной расстановке сил, кроме сегодняшней. Сегодня, к примеру, в 1984 году (если сегодня 1984-й), Океания воевала с Евразией, будучи в союзе с Остазией. Ни в официальных, ни в частных заявлениях никто не признавал, что отношения этих трех сил когда-то могли быть другими. Но Уинстон хорошо помнил, что еще четыре года назад Океания воевала с Остазией, будучи в союзе с Евразией. Память его была источником субъективным, на который он мог полагаться, лишь постольку-поскольку его сознание не вполне подчинялось системе. Официально расстановка сил никогда не менялась. Океания ведет войну с Евразией, стало быть, Океания всегда вела войну с Евразией. Враг текущего момента всегда является абсолютным злом, из чего следует, что никакое соглашение с ним – ни в прошлом, ни в будущем – невозможно.
Страшнее всего, думал он в стотысячный раз, отводя плечи назад до ломоты (они вращали корпусом, держа руки на бедрах – это считалось полезным для мышц спины), страшнее всего, что все это может быть правдой. Если Партии под силу запустить руку в прошлое и заявить о том или ином событии, что его никогда не было, – разве это не страшнее любых пыток или смерти?
Партия утверждала, что Океания никогда не была в союзе с Евразией. Он же, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией как минимум четыре года назад. Но чем это знание подкреплялось? Только его личным сознанием, которое в любом случае скоро уничтожат. Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку – тогда ложь войдет в историю и станет правдой.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: