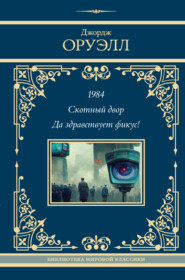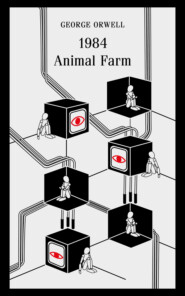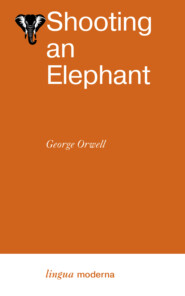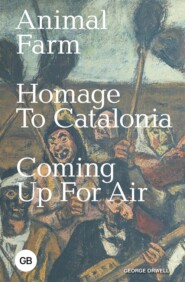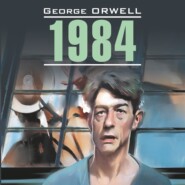По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984. Скотный двор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1984. Скотный двор
Джордж Оруэлл
Всемирная литература
Роман «1984» об опасности тоталитаризма стал одной из самых известных антиутопий XX века, которая стоит в одном ряду с «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли и «451° по Фаренгейту» Брэдбери.
Что будет, если в правящих кругах распространятся идеи фашизма и диктатуры? Каким станет общественный уклад, если власть потребует неуклонного подчинения? К какой катастрофе приведет подобный режим?
Повесть-притча «Скотный двор» полна острого сарказма и политической сатиры. Обитатели фермы олицетворяют самые ужасные людские пороки, а сама ферма становится символом тоталитарного общества. Как будут существовать в таком обществе его обитатели – животные, которых поведут на бойню?
Джордж Оруэлл
1984; Скотный двор
George Orwell
1984 ANIMAL FARM
Перевод с английского
© Шепелев Д.А., перевод на русский язык, 2021
© Беспалова Л.Г., перевод на русский язык, 2021
© Таск С.Э., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Почему я пишу
С очень раннего возраста, лет с пяти-шести, я знал, что стану писателем, когда вырасту. В промежутке между семнадцатью и двадцатью четырьмя я пытался оставить эту идею, отдавая себе, однако, отчет в том, что тем самым я бросаю вызов своей природе и что раньше или позже мне придется угомониться и писать книги.
Я был вторым ребенком из трех, с разрывом в пять годков с обеих сторон, и до восьми лет отца почти не видел. По этой и другим причинам я чувствовал себя одиноким, и у меня быстро развились дурные манеры, сделавшие меня непопулярным в школе. Как всякий маленький отшельник, я выдумывал истории, вел разговоры с воображаемыми персонажами, и, кажется, с самого начала мои литературные амбиции перепутались с ощущением обособленности и недооцененности. Я легко владел словом, умел смотреть в лицо неприятным фактам и чувствовал, что создаю свой личный мир, где смогу взять реванш за неудачи в обычной жизни. Тем не менее объем серьезных – по намерениям – вещей, написанных мной в период детства и отрочества, не насчитывал и полдюжины страниц. Мое первое стихотворение мама записала с моих слов, когда мне было четыре или пять лет. Деталей не помню, кроме того что оно было посвящено тигру с «зубами как стулья» – неплохо сказано, если бы еще это не было плагиатом блейковского «Тигр, о тигр». В одиннадцать, когда разразилась война 1914 года, я написал патриотическое стихотворение, которое напечатала местная газета, как и другое, двумя годами позже, на смерть Китченера [1 - Гораций Герберт Китченер (1850–1916) – британский военный деятель.]. Став постарше, я периодически писал плохие и, как правило, незаконченные «стихи о природе» в георгианском стиле. Еще я пару раз попробовал себя в жанре короткого рассказа – чудовищный провал. Вот, собственно, итог моей серьезной писанины в те годы.
Но в каком-то смысле я тогда втянулся в литературную деятельность. Были вещи на заказ, я их делал быстро, легко и без особого удовольствия. Помимо школьных заданий, я писал vers d’occasion [2 - Стихи по случаю (фр.).], полушутливые стихотворения, которые, как мне сейчас кажется, выдавал с поразительной скоростью, – в четырнадцать лет я сочинил за неделю целую пьесу в стихах в подражание Аристофану, – и помогал издавать школьные журналы, как печатные, так и рукописные. Эти журналы являли собой самые жалкие карикатуры, какие только можно себе представить, и я с ними расправлялся с куда большей легкостью, чем нынче с дешевой журналистикой. Но параллельно со всем этим, на протяжении пятнадцати с лишним лет, я занимался литературным упражнением совсем иного рода, создавая непрерывную «историю» о себе, что-то вроде дневника, существующего лишь в моей голове. Я полагаю, нечто подобное происходит со всеми детьми и подростками. Будучи ребенком, я воображал себя, к примеру, Робин Гудом, героем захватывающих приключений, однако довольно скоро мои «истории» резко утратили нарциссизм и становились все больше описанием того, что я делаю и вижу. В голове моей складывалась картина: «Он толкнул дверь и вошел в комнату. Желтый луч света, пробивающийся сквозь муслиновые занавески, прилег на стол, где рядом с чернильницей лежал полуоткрытый спичечный коробок. Держа правую руку в кармане, он подошел к окну. На улице кот со спиной, похожей на черепаховый панцирь, гонялся за мертвым листом» и т. д., и т. п. Эта привычка сохранялась лет до двадцати пяти, пока я всерьез не занялся литературой. Притом что я должен был искать и искал точные слова, похоже, я обращался к описаниям, сам того не желая, под воздействием какого-то внешнего толчка. Подозреваю, что мои «истории» отражали стили писателей, которыми я увлекался в разные годы, но, насколько я помню, их всегда отличала дотошная описательность.
В шестнадцать я вдруг открыл для себя красоту самих слов, то есть их звучания и ассоциаций. Строчки из «Потерянного рая»:
С трудом, упорно Сатана летел,
Одолевал упорно и с трудом [3 - Перевод Аркадия Штейнберга.],
которые сегодня не кажутся мне такими уж замечательными, тогда вызывали у меня мурашки, а написание «hee» вместо «he» лишь увеличивало восторг. Про то, как надо описывать вещи, я уже все знал. Поэтому понятно, какого сорта книги я хотел писать, если в то время написание книг вообще входило в мои планы. Я намеревался сочинять толстенные натуралистические романы с несчастливым концом, с подробнейшими описаниями и ошеломительными сравнениями, с витиеватыми пассажами, где слова отчасти используются ради самого звучания. И кстати, мой первый роман «Бирманские дни», написанный в тридцать лет, но задуманный гораздо раньше, в сущности, является именно такой книгой.
Я даю всю предысторию, так как, мне кажется, невозможно понять мотивы писателя, не имея представления о его развитии на раннем этапе. Тематику определит само время – особенно если речь идет о таком бурном революционном времени, как наше, – но еще до того, как он начнет писать, у него должно сложиться эмоциональное отношение к миру, от которого уже до конца не уйти. Ему, разумеется, предстоит обуздывать свой темперамент, и он не должен застрять на какой-то незрелой стадии или в каком-то не том состоянии, но совсем избавиться от ранних влияний – значит убить в себе творческий импульс. Оставляя в стороне необходимость зарабатывания на жизнь, я вижу четыре сильных мотива для писательства, во всяком случае для сочинения прозы. В каждом писателе они существуют в разных пропорциях, которые со временем могут меняться в зависимости от атмосферы, в которой он живет. Вот они:
(1) Чистый эгоизм. Желание выглядеть умным или отомстить взрослым за то, что унижали тебя в детстве, желание, чтобы о тебе говорили и чтобы помнили после смерти, и т. д., и т. д. Было бы лицемерием не считать это мотивом; еще какой мотив. Писатели в этом солидарны с учеными, художниками, политиками, законниками, солдатами, успешными бизнесменами – короче, высший слой человеческой расы. Большая масса людей не отличается повышенным эгоизмом. После тридцати они утрачивают личные амбиции – а частенько и ощущение себя как личностей – и начинают жить главным образом для других, если не задыхаются под гнетом повседневности. Но есть также меньшинство одаренных честолюбцев, твердо решивших прожить свою жизнь до конца, и писатели принадлежат к этой категории. Серьезные писатели, я бы сказал, в целом тщеславнее и эгоцентричнее, чем журналисты, хотя не столь корыстны.
(2) Эстетический энтузиазм. Восприятие красоты в окружающем мире или, наоборот, в словах и их правильной расстановке. Удовольствие от воздействия звука на звук, от упругости хорошей прозы или ритма хорошего рассказа. Желание поделиться ценным опытом, дабы он не пропал даром. Эстетический мотив очень слабо развит у большого числа писателей, но даже памфлетист или автор учебников порой вставляет излюбленное словечко или фразу без утилитарной надобности или питает слабость к типографскому шрифту, ширине полей и т. п. Если взять выше железнодорожного справочника, ни одна книга не вполне свободна от эстетических соображений.
(3) Исторический импульс. Желание увидеть все как есть, раскопать подлинные факты и сохранить для потомства.
(4) Политические цели – употребляя слово «политический» в самом широком смысле. Желание подтолкнуть мир в определенном направлении, изменить взгляды людей на общество, за которое они должны бороться. Опять же, никакая книга по-настоящему не свободна от политической ангажированности.
Можно проследить за тем, как эти различные импульсы сталкиваются и как они колеблются в зависимости от конкретного человека и периода времени. По своей природе – понимая «природу» как состояние при вступлении в пору взрослости – я человек, у которого первые три мотива перевешивают четвертый. В мирное время я бы сочинял орнаментальные или просто описательные книжки, даже не догадываясь о своей политической приверженности. А так я был вынужден стать чуть ли не памфлетистом. Пять лет, отданных неподобающей профессии (вест-индская имперская полиция в Бирме), затем бедность и комплекс неудачника. Это усилило мое врожденное неприятие власти и впервые заставило осознать существование рабочего класса, а служба в Бирме открыла мне глаза на природу империализма; однако этого опыта было недостаточно для того, чтобы сформировать внятную политическую ориентацию. Потом был Гитлер, Гражданская война в Испании и проч. Закончился тридцать пятый год, а я все еще не имел твердой позиции. Помню последние три строфы написанного в то время стишка, где выражена тогдашняя дилемма:
Я личинка, не ставшая бабочкой,
Я евнух, лишенный гарема.
Между пастырем и комиссаром
Я мечусь, как второй Юджин Аром [4 - Юджин Аром (1704–1759) – английский филолог и учитель, получивший печальную славу убийцы близкого друга, за что и был повешен.].
Комиссар по руке мне гадает,
Из радио музыка льется,
Ну а пастырь мне «остин» сулит,
Мол, пусть паренек порулит.
Я жил во дворце в своих снах
И во дворце просыпался.
Этот век – для моих ли ты глаз?
А для Смита? Для Джонса? Для вас? [5 - Стихотворение 1936 года «Я б мог быть счастливым викарием».]
Война в Испании и другие события 1936–1937 годов перевесили чашу весов, и отныне моя позиция была мне ясна. Каждая серьезная строчка, написанная мной после тридцать шестого, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю. Мне кажется глупостью в такое время, как наше, считать, что можно избежать этих тем. Все так или иначе их касаются. Вопрос лишь в том, на чьей ты стороне и как подходишь к теме. И чем осмысленнее твоя политическая позиция, тем выше шансы, что, занимаясь политикой, ты не будешь приносить в жертву свои эстетические и интеллектуальные принципы.
Больше всего в последние десять лет мне хотелось превратить политическое высказывание в искусство. Для меня всегда отправная точка – чувство солидарности и несправедливости. Когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Сейчас я создам произведение искусства». Я пишу, потому что хочу разоблачить какую-то ложь или привлечь внимание к какому-то факту, и моя изначальная забота – быть услышанным. Но я не могу написать книгу или хотя бы большую статью в журнал без эстетической задачи. Любой, кто даст себе труд вникнуть в мои сочинения, увидит, что, даже когда это откровенная пропаганда, там много такого, что профессиональный политик сочтет не относящимся к делу. Я не могу, да и не хочу совсем отказаться от того, как я глядел на мир ребенком. Пока жив и здоров, буду следить за прозаическим стилем, любить все, чем богата земля, и получать удовольствие от добротных предметов и бесполезной информации. Против природы не попрешь. Главное – совместить мои врожденные пристрастия и антипатии с публичными, неиндивидуальными действиями, к которым нас вынуждает само время.
Это непросто. Встают проблемы конструирования и языка, и по-новому встает вопрос правдивости. Позвольте мне дать лишь один пример возникшей неуклюжести. Моя книга «Памяти Каталонии» о гражданской войне в Испании, конечно же, откровенно политическая, но она написана с некоторой отстраненностью и соблюдением формы. Я очень старался рассказать всю правду, при этом не идя против моего литературного инстинкта. В ней, помимо прочего, есть большая глава, изобилующая газетными цитатами и тому подобным и защищающая троцкистов, которых обвиняли в сотрудничестве с Франко. Ясно, что такая глава через год-другой перестанет быть интересной обычному читателю и погубит всю книгу. Критик, чье мнение я уважаю, прочел мне лекцию по этому поводу: «Зачем ты ее включил? Ты превратил потенциально хорошую книгу в журналистский опус». Он был прав, но я не мог поступить иначе. Я располагал информацией, оказавшейся в Англии для многих недоступной: оговоры невиновных людей. У меня это вызвало ярость, без которой книга просто не была бы написана.
Проблема в том или ином виде возникает опять и опять. Вопрос языка достаточно тонкий и потребовал бы слишком долгого обсуждения. Скажу лишь, что в последние годы я стараюсь писать не так ярко, построже. Как бы там ни было, по-моему, к тому моменту, когда ты освоил некий стиль письма, можно считать, что он уже устарел. «Скотский уголок» [6 - Под этим названием роман Оруэлла вышел по-русски в издательстве «Книжная палата» в 1989 году. Другие варианты перевода: «Скотный двор», «Звероферма».] – первая книга, где я осознанно постарался соединить политическую и художественную задачи в единое целое. После этого я не писал романов семь лет, но вскоре, надеюсь, кое-что получится. Наверняка это будет провал, всякая книга обречена на провал, но по крайней мере я себе ясно представляю, что хочу написать.
Просмотрев последнюю пару страниц, я вижу, что дело выглядит так, будто мои мотивы как писателя направлены исключительно на общественное восприятие. Мне не хотелось бы оставить у вас такое впечатление. Все писатели тщеславны, эгоистичны и ленивы, а в основе всего лежит загадка. Написание книги – ужасная, изнурительная борьба вроде затяжной мучительной болезни. Не стоит за такое браться, если ты не одержим демоном, столь же неотвязным, сколь и непостижимым. Насколько можно судить, демон этот, проще говоря, инстинкт, заставляющий ребенка требовать к себе внимания. Но правда и то, что невозможно написать что-то стоящее, если ты постоянно не пытаешься спрятать подальше свою персону. Хорошая проза – это оконное стекло. Я не могу с уверенностью сказать, какой из моих мотивов сильнее, но знаю, какие из них достойны, чтобы за ними следовать. Оглядываясь на сделанное, я вижу, что, когда у меня не было политической задачи, я неизбежно писал нечто безжизненное, расплачиваясь витиеватыми пассажами, пустыми фразами и виньетками, – короче, подлогом.
Джордж Оруэлл
«Гангрел», № 4, лето, 1946
1984
Часть первая
I
Был апрельский день, ясный и холодный, и часы отбивали тринадцать. Уинстон Смит вжал подбородок в грудь, пытаясь укрыться от злого ветра, и проскользнул за стеклянные двери жилого комплекса «Победа», впустив за собой завиток зернистой пыли.
В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. На дальней стене висел цветной плакат, непомерно большой для помещения. Плакат изображал огромное лицо, шириной более метра: мужчина лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубовато-привлекательный. Уинстон направился к лестнице. Про лифт нечего было и мечтать. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас в дневное время электричество отключали. Действовал режим экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры было семь лестничных пролетов, и Уинстон с варикозной язвой над правой лодыжкой в свои тридцать девять лет поднимался медленно, то и дело останавливаясь. На каждом этаже со стены напротив лифта на него пялился тот же плакат. Его специально так разместили, что, где ни стой, глаза усача все равно будут смотреть на тебя. Надпись внизу гласила: «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ».
В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Звук раздавался справа от входа – из вделанной в стену продолговатой металлической пластины, похожей на помутневшее зеркало. Уинстон повернул на ней ручку, и голос стал тише, хотя слова остались различимы. Звук телеэкрана (так называлось устройство) можно было убавить, но не убрать совсем. Уинстон подошел к окну: невысокая, щуплая фигурка, еще более тщедушная в синем комбинезоне, отличавшем членов Партии. Волосы у него были совсем светлыми, на лице играл природный румянец, а кожа загрубела от хозяйственного мыла, тупых бритвенных лезвий и зимних холодов, только недавно отступивших.
Внешний мир даже сквозь закрытое окно отдавал холодом. Внизу, на улице, маленькие смерчи кружили пыль и бумажный мусор. И хотя светило солнце, а небо отливало резкой синевой, все казалось каким-то бесцветным, кроме повсюду развешанных плакатов. Усач взирал с каждого приметного угла – и с фасада дома прямо напротив. «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись, а темные глаза смотрели в лицо Уинстону. Ниже, на уровне улицы, еще один плакат трепетал на ветру оторванным краем, открывая и закрывая единственное слово: «АНГСОЦ». В отдалении скользил между крышами вертолет: завис на миг, точно трупная муха, и взмыл прочь по кривой. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули – ерунда. Не то что Мыслеполиция.
За спиной Уинстона голос с телеэкрана продолжал бубнить о чугуне и перевыполнении Девятой Трехлетки. Телеэкран одновременно передавал и принимал информацию. Он улавливал любой звук громче тихого шепота, который издавал Уинстон. Более того, пока тот находился в поле зрения металлической пластины, его могли не только слышать, но и видеть. Конечно, никогда нельзя было сказать с уверенностью, следят за тобой в данный момент или нет. Никто не знал, как часто или по какой системе Мыслеполиция подключается к его каналу. Разумнее было считать, что следят за всеми и всегда. Так или иначе, к твоему телеэкрану могли подключиться в любой момент. Приходилось так жить – и ты жил, свыкаясь на уровне инстинкта с ощущением, что каждый звук в твоей квартире слышат, а движение – видят, особенно при свете.
Джордж Оруэлл
Всемирная литература
Роман «1984» об опасности тоталитаризма стал одной из самых известных антиутопий XX века, которая стоит в одном ряду с «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли и «451° по Фаренгейту» Брэдбери.
Что будет, если в правящих кругах распространятся идеи фашизма и диктатуры? Каким станет общественный уклад, если власть потребует неуклонного подчинения? К какой катастрофе приведет подобный режим?
Повесть-притча «Скотный двор» полна острого сарказма и политической сатиры. Обитатели фермы олицетворяют самые ужасные людские пороки, а сама ферма становится символом тоталитарного общества. Как будут существовать в таком обществе его обитатели – животные, которых поведут на бойню?
Джордж Оруэлл
1984; Скотный двор
George Orwell
1984 ANIMAL FARM
Перевод с английского
© Шепелев Д.А., перевод на русский язык, 2021
© Беспалова Л.Г., перевод на русский язык, 2021
© Таск С.Э., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Почему я пишу
С очень раннего возраста, лет с пяти-шести, я знал, что стану писателем, когда вырасту. В промежутке между семнадцатью и двадцатью четырьмя я пытался оставить эту идею, отдавая себе, однако, отчет в том, что тем самым я бросаю вызов своей природе и что раньше или позже мне придется угомониться и писать книги.
Я был вторым ребенком из трех, с разрывом в пять годков с обеих сторон, и до восьми лет отца почти не видел. По этой и другим причинам я чувствовал себя одиноким, и у меня быстро развились дурные манеры, сделавшие меня непопулярным в школе. Как всякий маленький отшельник, я выдумывал истории, вел разговоры с воображаемыми персонажами, и, кажется, с самого начала мои литературные амбиции перепутались с ощущением обособленности и недооцененности. Я легко владел словом, умел смотреть в лицо неприятным фактам и чувствовал, что создаю свой личный мир, где смогу взять реванш за неудачи в обычной жизни. Тем не менее объем серьезных – по намерениям – вещей, написанных мной в период детства и отрочества, не насчитывал и полдюжины страниц. Мое первое стихотворение мама записала с моих слов, когда мне было четыре или пять лет. Деталей не помню, кроме того что оно было посвящено тигру с «зубами как стулья» – неплохо сказано, если бы еще это не было плагиатом блейковского «Тигр, о тигр». В одиннадцать, когда разразилась война 1914 года, я написал патриотическое стихотворение, которое напечатала местная газета, как и другое, двумя годами позже, на смерть Китченера [1 - Гораций Герберт Китченер (1850–1916) – британский военный деятель.]. Став постарше, я периодически писал плохие и, как правило, незаконченные «стихи о природе» в георгианском стиле. Еще я пару раз попробовал себя в жанре короткого рассказа – чудовищный провал. Вот, собственно, итог моей серьезной писанины в те годы.
Но в каком-то смысле я тогда втянулся в литературную деятельность. Были вещи на заказ, я их делал быстро, легко и без особого удовольствия. Помимо школьных заданий, я писал vers d’occasion [2 - Стихи по случаю (фр.).], полушутливые стихотворения, которые, как мне сейчас кажется, выдавал с поразительной скоростью, – в четырнадцать лет я сочинил за неделю целую пьесу в стихах в подражание Аристофану, – и помогал издавать школьные журналы, как печатные, так и рукописные. Эти журналы являли собой самые жалкие карикатуры, какие только можно себе представить, и я с ними расправлялся с куда большей легкостью, чем нынче с дешевой журналистикой. Но параллельно со всем этим, на протяжении пятнадцати с лишним лет, я занимался литературным упражнением совсем иного рода, создавая непрерывную «историю» о себе, что-то вроде дневника, существующего лишь в моей голове. Я полагаю, нечто подобное происходит со всеми детьми и подростками. Будучи ребенком, я воображал себя, к примеру, Робин Гудом, героем захватывающих приключений, однако довольно скоро мои «истории» резко утратили нарциссизм и становились все больше описанием того, что я делаю и вижу. В голове моей складывалась картина: «Он толкнул дверь и вошел в комнату. Желтый луч света, пробивающийся сквозь муслиновые занавески, прилег на стол, где рядом с чернильницей лежал полуоткрытый спичечный коробок. Держа правую руку в кармане, он подошел к окну. На улице кот со спиной, похожей на черепаховый панцирь, гонялся за мертвым листом» и т. д., и т. п. Эта привычка сохранялась лет до двадцати пяти, пока я всерьез не занялся литературой. Притом что я должен был искать и искал точные слова, похоже, я обращался к описаниям, сам того не желая, под воздействием какого-то внешнего толчка. Подозреваю, что мои «истории» отражали стили писателей, которыми я увлекался в разные годы, но, насколько я помню, их всегда отличала дотошная описательность.
В шестнадцать я вдруг открыл для себя красоту самих слов, то есть их звучания и ассоциаций. Строчки из «Потерянного рая»:
С трудом, упорно Сатана летел,
Одолевал упорно и с трудом [3 - Перевод Аркадия Штейнберга.],
которые сегодня не кажутся мне такими уж замечательными, тогда вызывали у меня мурашки, а написание «hee» вместо «he» лишь увеличивало восторг. Про то, как надо описывать вещи, я уже все знал. Поэтому понятно, какого сорта книги я хотел писать, если в то время написание книг вообще входило в мои планы. Я намеревался сочинять толстенные натуралистические романы с несчастливым концом, с подробнейшими описаниями и ошеломительными сравнениями, с витиеватыми пассажами, где слова отчасти используются ради самого звучания. И кстати, мой первый роман «Бирманские дни», написанный в тридцать лет, но задуманный гораздо раньше, в сущности, является именно такой книгой.
Я даю всю предысторию, так как, мне кажется, невозможно понять мотивы писателя, не имея представления о его развитии на раннем этапе. Тематику определит само время – особенно если речь идет о таком бурном революционном времени, как наше, – но еще до того, как он начнет писать, у него должно сложиться эмоциональное отношение к миру, от которого уже до конца не уйти. Ему, разумеется, предстоит обуздывать свой темперамент, и он не должен застрять на какой-то незрелой стадии или в каком-то не том состоянии, но совсем избавиться от ранних влияний – значит убить в себе творческий импульс. Оставляя в стороне необходимость зарабатывания на жизнь, я вижу четыре сильных мотива для писательства, во всяком случае для сочинения прозы. В каждом писателе они существуют в разных пропорциях, которые со временем могут меняться в зависимости от атмосферы, в которой он живет. Вот они:
(1) Чистый эгоизм. Желание выглядеть умным или отомстить взрослым за то, что унижали тебя в детстве, желание, чтобы о тебе говорили и чтобы помнили после смерти, и т. д., и т. д. Было бы лицемерием не считать это мотивом; еще какой мотив. Писатели в этом солидарны с учеными, художниками, политиками, законниками, солдатами, успешными бизнесменами – короче, высший слой человеческой расы. Большая масса людей не отличается повышенным эгоизмом. После тридцати они утрачивают личные амбиции – а частенько и ощущение себя как личностей – и начинают жить главным образом для других, если не задыхаются под гнетом повседневности. Но есть также меньшинство одаренных честолюбцев, твердо решивших прожить свою жизнь до конца, и писатели принадлежат к этой категории. Серьезные писатели, я бы сказал, в целом тщеславнее и эгоцентричнее, чем журналисты, хотя не столь корыстны.
(2) Эстетический энтузиазм. Восприятие красоты в окружающем мире или, наоборот, в словах и их правильной расстановке. Удовольствие от воздействия звука на звук, от упругости хорошей прозы или ритма хорошего рассказа. Желание поделиться ценным опытом, дабы он не пропал даром. Эстетический мотив очень слабо развит у большого числа писателей, но даже памфлетист или автор учебников порой вставляет излюбленное словечко или фразу без утилитарной надобности или питает слабость к типографскому шрифту, ширине полей и т. п. Если взять выше железнодорожного справочника, ни одна книга не вполне свободна от эстетических соображений.
(3) Исторический импульс. Желание увидеть все как есть, раскопать подлинные факты и сохранить для потомства.
(4) Политические цели – употребляя слово «политический» в самом широком смысле. Желание подтолкнуть мир в определенном направлении, изменить взгляды людей на общество, за которое они должны бороться. Опять же, никакая книга по-настоящему не свободна от политической ангажированности.
Можно проследить за тем, как эти различные импульсы сталкиваются и как они колеблются в зависимости от конкретного человека и периода времени. По своей природе – понимая «природу» как состояние при вступлении в пору взрослости – я человек, у которого первые три мотива перевешивают четвертый. В мирное время я бы сочинял орнаментальные или просто описательные книжки, даже не догадываясь о своей политической приверженности. А так я был вынужден стать чуть ли не памфлетистом. Пять лет, отданных неподобающей профессии (вест-индская имперская полиция в Бирме), затем бедность и комплекс неудачника. Это усилило мое врожденное неприятие власти и впервые заставило осознать существование рабочего класса, а служба в Бирме открыла мне глаза на природу империализма; однако этого опыта было недостаточно для того, чтобы сформировать внятную политическую ориентацию. Потом был Гитлер, Гражданская война в Испании и проч. Закончился тридцать пятый год, а я все еще не имел твердой позиции. Помню последние три строфы написанного в то время стишка, где выражена тогдашняя дилемма:
Я личинка, не ставшая бабочкой,
Я евнух, лишенный гарема.
Между пастырем и комиссаром
Я мечусь, как второй Юджин Аром [4 - Юджин Аром (1704–1759) – английский филолог и учитель, получивший печальную славу убийцы близкого друга, за что и был повешен.].
Комиссар по руке мне гадает,
Из радио музыка льется,
Ну а пастырь мне «остин» сулит,
Мол, пусть паренек порулит.
Я жил во дворце в своих снах
И во дворце просыпался.
Этот век – для моих ли ты глаз?
А для Смита? Для Джонса? Для вас? [5 - Стихотворение 1936 года «Я б мог быть счастливым викарием».]
Война в Испании и другие события 1936–1937 годов перевесили чашу весов, и отныне моя позиция была мне ясна. Каждая серьезная строчка, написанная мной после тридцать шестого, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю. Мне кажется глупостью в такое время, как наше, считать, что можно избежать этих тем. Все так или иначе их касаются. Вопрос лишь в том, на чьей ты стороне и как подходишь к теме. И чем осмысленнее твоя политическая позиция, тем выше шансы, что, занимаясь политикой, ты не будешь приносить в жертву свои эстетические и интеллектуальные принципы.
Больше всего в последние десять лет мне хотелось превратить политическое высказывание в искусство. Для меня всегда отправная точка – чувство солидарности и несправедливости. Когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Сейчас я создам произведение искусства». Я пишу, потому что хочу разоблачить какую-то ложь или привлечь внимание к какому-то факту, и моя изначальная забота – быть услышанным. Но я не могу написать книгу или хотя бы большую статью в журнал без эстетической задачи. Любой, кто даст себе труд вникнуть в мои сочинения, увидит, что, даже когда это откровенная пропаганда, там много такого, что профессиональный политик сочтет не относящимся к делу. Я не могу, да и не хочу совсем отказаться от того, как я глядел на мир ребенком. Пока жив и здоров, буду следить за прозаическим стилем, любить все, чем богата земля, и получать удовольствие от добротных предметов и бесполезной информации. Против природы не попрешь. Главное – совместить мои врожденные пристрастия и антипатии с публичными, неиндивидуальными действиями, к которым нас вынуждает само время.
Это непросто. Встают проблемы конструирования и языка, и по-новому встает вопрос правдивости. Позвольте мне дать лишь один пример возникшей неуклюжести. Моя книга «Памяти Каталонии» о гражданской войне в Испании, конечно же, откровенно политическая, но она написана с некоторой отстраненностью и соблюдением формы. Я очень старался рассказать всю правду, при этом не идя против моего литературного инстинкта. В ней, помимо прочего, есть большая глава, изобилующая газетными цитатами и тому подобным и защищающая троцкистов, которых обвиняли в сотрудничестве с Франко. Ясно, что такая глава через год-другой перестанет быть интересной обычному читателю и погубит всю книгу. Критик, чье мнение я уважаю, прочел мне лекцию по этому поводу: «Зачем ты ее включил? Ты превратил потенциально хорошую книгу в журналистский опус». Он был прав, но я не мог поступить иначе. Я располагал информацией, оказавшейся в Англии для многих недоступной: оговоры невиновных людей. У меня это вызвало ярость, без которой книга просто не была бы написана.
Проблема в том или ином виде возникает опять и опять. Вопрос языка достаточно тонкий и потребовал бы слишком долгого обсуждения. Скажу лишь, что в последние годы я стараюсь писать не так ярко, построже. Как бы там ни было, по-моему, к тому моменту, когда ты освоил некий стиль письма, можно считать, что он уже устарел. «Скотский уголок» [6 - Под этим названием роман Оруэлла вышел по-русски в издательстве «Книжная палата» в 1989 году. Другие варианты перевода: «Скотный двор», «Звероферма».] – первая книга, где я осознанно постарался соединить политическую и художественную задачи в единое целое. После этого я не писал романов семь лет, но вскоре, надеюсь, кое-что получится. Наверняка это будет провал, всякая книга обречена на провал, но по крайней мере я себе ясно представляю, что хочу написать.
Просмотрев последнюю пару страниц, я вижу, что дело выглядит так, будто мои мотивы как писателя направлены исключительно на общественное восприятие. Мне не хотелось бы оставить у вас такое впечатление. Все писатели тщеславны, эгоистичны и ленивы, а в основе всего лежит загадка. Написание книги – ужасная, изнурительная борьба вроде затяжной мучительной болезни. Не стоит за такое браться, если ты не одержим демоном, столь же неотвязным, сколь и непостижимым. Насколько можно судить, демон этот, проще говоря, инстинкт, заставляющий ребенка требовать к себе внимания. Но правда и то, что невозможно написать что-то стоящее, если ты постоянно не пытаешься спрятать подальше свою персону. Хорошая проза – это оконное стекло. Я не могу с уверенностью сказать, какой из моих мотивов сильнее, но знаю, какие из них достойны, чтобы за ними следовать. Оглядываясь на сделанное, я вижу, что, когда у меня не было политической задачи, я неизбежно писал нечто безжизненное, расплачиваясь витиеватыми пассажами, пустыми фразами и виньетками, – короче, подлогом.
Джордж Оруэлл
«Гангрел», № 4, лето, 1946
1984
Часть первая
I
Был апрельский день, ясный и холодный, и часы отбивали тринадцать. Уинстон Смит вжал подбородок в грудь, пытаясь укрыться от злого ветра, и проскользнул за стеклянные двери жилого комплекса «Победа», впустив за собой завиток зернистой пыли.
В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. На дальней стене висел цветной плакат, непомерно большой для помещения. Плакат изображал огромное лицо, шириной более метра: мужчина лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубовато-привлекательный. Уинстон направился к лестнице. Про лифт нечего было и мечтать. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас в дневное время электричество отключали. Действовал режим экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры было семь лестничных пролетов, и Уинстон с варикозной язвой над правой лодыжкой в свои тридцать девять лет поднимался медленно, то и дело останавливаясь. На каждом этаже со стены напротив лифта на него пялился тот же плакат. Его специально так разместили, что, где ни стой, глаза усача все равно будут смотреть на тебя. Надпись внизу гласила: «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ».
В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Звук раздавался справа от входа – из вделанной в стену продолговатой металлической пластины, похожей на помутневшее зеркало. Уинстон повернул на ней ручку, и голос стал тише, хотя слова остались различимы. Звук телеэкрана (так называлось устройство) можно было убавить, но не убрать совсем. Уинстон подошел к окну: невысокая, щуплая фигурка, еще более тщедушная в синем комбинезоне, отличавшем членов Партии. Волосы у него были совсем светлыми, на лице играл природный румянец, а кожа загрубела от хозяйственного мыла, тупых бритвенных лезвий и зимних холодов, только недавно отступивших.
Внешний мир даже сквозь закрытое окно отдавал холодом. Внизу, на улице, маленькие смерчи кружили пыль и бумажный мусор. И хотя светило солнце, а небо отливало резкой синевой, все казалось каким-то бесцветным, кроме повсюду развешанных плакатов. Усач взирал с каждого приметного угла – и с фасада дома прямо напротив. «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись, а темные глаза смотрели в лицо Уинстону. Ниже, на уровне улицы, еще один плакат трепетал на ветру оторванным краем, открывая и закрывая единственное слово: «АНГСОЦ». В отдалении скользил между крышами вертолет: завис на миг, точно трупная муха, и взмыл прочь по кривой. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули – ерунда. Не то что Мыслеполиция.
За спиной Уинстона голос с телеэкрана продолжал бубнить о чугуне и перевыполнении Девятой Трехлетки. Телеэкран одновременно передавал и принимал информацию. Он улавливал любой звук громче тихого шепота, который издавал Уинстон. Более того, пока тот находился в поле зрения металлической пластины, его могли не только слышать, но и видеть. Конечно, никогда нельзя было сказать с уверенностью, следят за тобой в данный момент или нет. Никто не знал, как часто или по какой системе Мыслеполиция подключается к его каналу. Разумнее было считать, что следят за всеми и всегда. Так или иначе, к твоему телеэкрану могли подключиться в любой момент. Приходилось так жить – и ты жил, свыкаясь на уровне инстинкта с ощущением, что каждый звук в твоей квартире слышат, а движение – видят, особенно при свете.