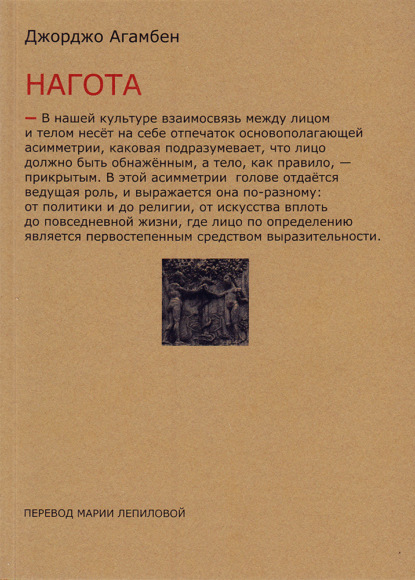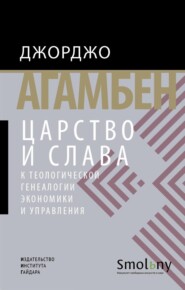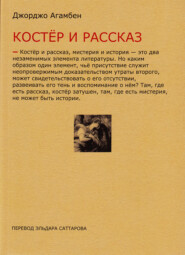По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нагота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Джорджо Агамбен
«…В нашей культуре взаимосвязь между лицом и телом несет на себе отпечаток основополагающей асимметрии, каковая подразумевает, что лицо должно быть обнажённым, а тело, как правило, прикрытым. В этой асимметрии голове отдаётся ведущая роль, и выражается она по-разному: от политики и до религии, от искусства вплоть до повседневной жизни, где лицо по определению является первостепенным средством выразительности…»
Джорджо Агамбен
Нагота
© 2009, Edizioni nottetempo srl
© 2014, ООО «Издательство Грюндриссе», перевод на русский язык
* * *
Созидание и спасение
1. Пророки преждевременно исчезли из истории Запада. Как верно утверждение, что невозможно понять иудаизм без образа nabi[1 - Пророк в иудаизме и исламе, посланник божий (араб.).], что пророческие книги занимают в Библии центральное во всех смыслах место, так же верно и то, что в самом иудаизме очень рано начинают действовать силы, стремящиеся ограничить пророчество во времени и помешать его осуществлению. Раввинская традиция направлена на то, чтобы заключить пророчество в рамки некоего идеального прошлого, конечной точкой которого считается первое разрушение Храма в 587 г. до н. э. «После смерти последних пророков, Аггея, Захарии и Малахии, Святой Дух покинул Израиль; но голос с небес можно услышать через bat kol»[2 - Здесь и далее цитаты из Талмуда даются в переводе с итальянского языка.] (буквально: «дочь голоса», то есть через устную традицию, а также через комментирование и толкование Торы). Подобным образом основополагающую функцию пророчества признаёт и христианство и даже формирует взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом исходя из пророческой модели. Но как только мессия приходит на землю и исполняет обет, существование пророка становится бессмысленным, и Павел, Пётр и им подобные выступают в роли апостолов (то есть «посланников»), а не пророков. Поэтому в христианской традиции на того, кто предстаёт в образе пророка, правоверие смотрит не иначе как с подозрением. Ведь и здесь желающий прикоснуться к пророчеству может сделать это лишь через толкования Писаний, через новое прочтение и восполнение утерянного первоначального смысла. В христианстве, как и в иудаизме, герменевтика пришла на смену пророчеству, и прорицание стало возможным на практике лишь в виде толкования.
Разумеется, образ пророка исчез из западной культуры вовсе не поэтому. Скрываясь под различными масками, он незаметно продолжает своё дело, возможно, даже выйдя за рамки чисто герменевтического круга. Так, Аби Варбург видел в Ницше и в Якобе Буркхардте двух противоположных по типу nabi: он полагал, что первый из них обращается к будущему, а второй – к прошлому. Мишель Фуко в лекции, прочитанной 1 февраля 1984 года в Коллеж де Франс, выделил четыре фигуры веридикции[3 - Веридикция (от франц. vеridiction, «говорение истины») – термин, введённый Мишелем Фуко. Высказывание, верное не объективно, а с точки зрения мировосприятия конкретного индивида.] в античном мире: пророк, мудрец, техник и паррезиаст[4 - Паррезиаст – человек, практикующий спонтанную речь, говорящий правду, несмотря на возможные неблагоприятные последствия.], а в ходе следующей лекции он предложил отследить метаморфозы этих фигур в современной философии. Однако сегодня никто, как правило, не жаждет называться пророком.
2. Известно, что в исламе пророк выполняет ещё более важную – насколько это возможно – функцию. Пророками считаются не только библейские прорицатели в узком смысле слова, но также Авраам, Моисей и Иисус. Тем не менее, и здесь истинный пророк Магомет становится «печатью пророчества», то есть тем, кто своей книгой окончательно завершает историю прорицательства (которая, впрочем, всё так же тайно продолжается в комментариях и толкованиях Корана).
Притом показательно, что исламская традиция неразрывно связывает образ и задачу пророка с одним из двух творений или деяний Бога. Со гласно этой доктрине, Бог осуществляет два различных творения или два деяния (sunan[5 - Способ, путь, привычный путь, следование (араб.). Сунна – священное предание в исламе, дополняющее Коран и излагающее, в виде коротких рассказов, поступки и события из жизни мусульманского пророка Мухаммада.]): созидание и спасение (или Повеление). Ко второму относятся пророки, играющие роль посредников в эсхатологическом спасении; первому же соответствуют ангелы, олицетворяющие созидание (при этом символом созидания является Иблис[6 - Иблис (араб.) – в исламе джинн, которого Аллах сотворил раньше человека, сатана, дьявол.] – ангел, которому изначально было доверено царство, но который отказался поклоняться Адаму[7 - Адам – в исламе первый человек и первый пророк Аллаха. После сотворения Адама Аллах приказал ангелам поклониться ему: «И вот сказали Мы ангелам: “Поклонитесь Адаму!”. И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознёсся и оказался неверующим» (Коран, 2:32).]). «У Бога, – пишет Шахрастани, – есть два творения или деяния: одно связано с созиданием, а другое – с Повелением. Пророки служат посредниками в утверждении Повеления, в то время как ангелы – посредники в созидании. И поскольку Повеление благороднее, чем созидание, посредник Повеления [то есть пророк] благороднее посредника созидания».
В христианской теологии эти два творения, объединённые в Боге, отождествляются с двумя отдельными субъектами Троицы: с Отцом и с Сыном, со всемогущим творцом и со спасителем, коему Бог передал всю свою силу. Однако для исламской традиции основополагающей стала некая очерёдность, в которой искупление предваряет созидание, то есть то, что кажется последующим, на самом деле является предшествующим. Искупление – это вовсе не избавление для падших существ, а нечто, что объясняет созидание и придаёт ему смысл. Поэтому в исламе свет пророка – самое первое творение (так же и в иудаистской традиции имя мессии было произнесено ещё до сотворения мира, а в христианстве Сын, порождённый отцом, единосущен ему и единовременен с ним). И нигде не говорится о том, что спасение первоочерёдно по отношению к созиданию, равно как и о том, что оно возникает как необходимость искупления, предшествующая появлению вины в созданной Вселенной. «Когда Господь сотворил ангелов, – говорится в одном hadith[8 - Хадис (араб.) – предание о словах и поступках Мухаммада, более подробно раскрывающее предписания Корана.], – они посмотрели на небеса и вопросили: “С кем ты, Господь?”. Он ответил: “Я с тем, кто будет жертвой несправедливости до тех пор, пока не восстановится справедливость”».
3. Исследователи задавались вопросом о значении этих двух деяний Бога, упоминаемых вместе в одном аяте[9 - Аят – структурная единица Корана.] Корана («О да! Ему принадлежит и создание, и власть», Ко р. 7:54). Отдельные теологи полагают, что речь здесь идёт о глубинном противоречии, которое в монотеистических религиях разграничивает Бога-создателя и Бога-спасителя (а в гностической и маркионитской[10 - Маркионитство – раннехристианское течение, основу которому положил богослов, гностик Маркион (85–160).] версиях, заостряющих это противопоставление, выделяет образ коварного демиурга, сотворившего мир, и образ некоего отчуждённого от мира бога, дарующего искупление и спасение). Каков бы ни был источник этих двух деяний, очевидно, что не только в исламе созидание и спасение характеризуют две противоположные стороны божьего промысла. А значит – коль скоро Бог является неким пространством, в котором люди принимают важнейшие решения, – созидание и спасение также определяют и человеческие поступки.
Тем более интересной становится связь между двумя деяниями: они отличаются друг от друга и противоречат друг другу, но вместе с тем они друг от друга неотделимы. Тот, кто действует и создаёт, должен также спасти своё творение и подарить ему искупление. Недостаточно просто делать, необходимо ещё и уметь спасать содеянное. Таким образом, миссия спасения предшествует миссии созидания, будто единственным законным основанием для того, чтобы делать и создавать что-либо, является способность искупления сделанного и созданного.
Поистине необычайно это неуловимое и недоступное переплетение между двумя деяниями, существующее в любой человеческой жизни: столь близкое и столь разобщённое действие слова пророка и слова создателя, ангельской силы, с которой мы беспрестанно творим и смотрим вперёд, и пророческой силы, которая так же неутомимо захватывает, разрушает и останавливает процесс созидания, тем самым завершая его и даруя ему искупление. Необычайно и время, удерживающее эти силы вместе, ритм, повинуясь которому созидание предшествует искуплению, но в действительности следует за ним, а искупление, следующее за созиданием, на деле ему предшествует.
4. В исламе и в иудаизме задача спасения, предшествующая по порядку задаче созидания, поручена некоему существу – пророку или мессии (в христианстве это выражается в том, что Сын, единосущный Отцу, именно порождён им, а не создан). Приведённая выше цитата из Шахрастани продолжается такими словами: «И сие достойно изумления: существа духовные [ангелы], происходящие напрямую из Повеления, стали посредниками созидания, в то время как созданные телесные существа [пророки] стали посредниками Повеления». Поразительно, что искупление созданного доверено не творцу (или ангелам, появившимся напрямую из силы созидания), а некоему существу. Это означает, что созидание и спасение остаются в определённом смысле чуждыми друг другу, что живущее в нас созидательное начало не сможет спасти то, что мы сотворили. А то, что может и должно спасти созидание, как раз из него и происходит, то есть то, что является первым по порядку и по достоинству, проистекает из того, что за ним следует.
Это означает, что спасти мир сможет не духовная ангельская (или в конечном итоге демоническая) сила, благодаря которой люди создают свои творения (будь то произведения искусства или техники, военные или мирные действия), а некая более приземлённая и телесная сила, которой они обладают, будучи созданными существами. Однако это же означает ещё и то, что в пророке каким-то образом сочетаются эти две силы, что во главе миссии спасения стоит, по сути, созидание.
5. В современной культуре пророческие задачи спасения (даже в священной сфере уже перепорученные экзегетике) перешли к философии и критике; а поэзии, технике и искусству принадлежит ангельское дело созидания. Но в результате ослабления влияния церкви в религиозной традиции из этих задач постепенно исчезли последние воспоминания о тех взаимоотношениях, что некогда тесно связывали их с религией. Отсюда и возникла эта сложная и почти что шизофреническая черта, ставшая, по-видимому, ключевой в характере их взаимоотношений. Если в иные времена поэт умел отвечать за свою поэзию («открыть её для прозы»[11 - В русском переводе эта строчка Данте звучит как «разъяснить всё в прозе», см.: Данте Алигьери. Новая жизнь / Пер. А. Эфроса. М.: Художественная литература, 1967.], как говорил Данте), а критик был также и поэтом, то сейчас критик, потерявший способность созидания, вымещает на ней же свою досаду, делая вид, что судит её. А поэт, не умеющий больше спасать своё творение, искупает это неумение тем, что слепо подчиняется легкомыслию ангела. В сущности, оба дела, со стороны кажущиеся независимыми и не имеющими друг с другом ничего общего, в действительности являются двумя сторонами одной и той же божественной силы и – по крайней мере, в лице пророка – совпадают в одном-единственном существе. Созидание – это, в конечном счёте, всего лишь искорка, высеченная из пророческого дела спасения, спасение – это всего лишь фрагмент ангельского созидания, ставшего осознанным. А пророк – это ангел, который во время порыва, побуждающего его к действию, неожиданно ощущает, как в плоть его вонзается шип иной потребности. Потому античные биографы утверждают, будто Платон был изначально трагическим поэтом, и, направляясь в театр, где он собирался представить на суд публики свою трилогию, он услышал голос Сократа и сжёг свои трагедии.
6. Как гений и талант соединяются в произведении поэта, несмотря на то, что искони они различаются и даже противостоят друг другу, так же и два деяния, являя собой две силы единого Бога, каким-то образом втайне взаимосвязаны. Но значимость деяния определяет в очередной раз не созидание или талант, а тот отпечаток, который накладывают на него гений и спасение. Сей отпечаток – это стиль, почти что противодействующая сила, противостоящая созиданию и разрушающая его процесс, встречная мелодия, заставляющая вдохновлённого ангела умолкнуть. И, наоборот, в деле пророка стилем является печать, которую спасаемое создание в свою очередь ставит на спасении, эта непроницаемость и даже упорство, с коим создание противостоит искуплению, желая до последнего оставаться во тьме, быть исключительно созданием, перенося таким образом свою сущность в область мысли.
Критический или философский труд, лишённый первоосновной связи с созиданием, обречён на бесплодное существование, подобно тому, как произведение искусства или поэзии, не содержащее в себе критической взыскательности, обречено на забвение. Но сегодня, разойдясь в двух различных направлениях, две божественные sunan отчаянно стремятся к точке соприкосновения, к некой нейтральной границе, где они могли бы вновь обрести утраченное единство. В этом поиске они меняются ролями, которые, однако, остаются неизбежно разделёнными. Когда проблема разобщённости между поэзией и философией впервые осознаётся, Гёльдерлин говорит в письме Нойфферу о философии как о «лечебнице, где неудачливый поэт может найти себе достойное убежище». Сегодня же лечебница философии закрыла ворота, а критики, превратившиеся в «кураторов», неосторожно занимают место художников и имитируют созидание, которое те забросили, в то время как ремесленники, оказавшиеся не у дел, с усердием посвящают себя работе избавления, в коей не осталась больше ничего, что нужно спасать. В обоих случаях созидание и спасение уже не оставляют друг на друге следов стойкого любовного противостояния. Лишившись этих отпечатков и оказавшись по разные стороны границы, они ставят друг перед другом зеркало, в котором они не могут себя узнать.
7. Каков смысл разделения этой божественной – и человеческой – деятельности на две области творения? И если в конечном счёте, несмотря на разницу их положения, кажется, что их корни уходят в некую общую почву или материю, то в чём проявляется их целостность? Пожалуй, единственный способ дойти до этих общих истоков – толкование задачи спасения как той части созидательной силы ангела, которая осталась без применения и которая, соответственно, может обратиться к самой себе. Подобно тому, как движущая сила предшествует действию и выходит за его пределы, задача избавления предшествует созиданию; и, тем не менее, избавление является лишь неиспользованной созидательной способностью, которая нацелена сама на себя и себя же «спасает». Но что значит в данном случае «спасение»? Ведь в созидании нет ничего, что могло бы в конечном счёте избежать гибели. Не только тем частичкам, которые теряются и забываются с каждым мгновением – повседневное расточительство мелких движений, незначительных ощущений, количество мыслей, молниеносно проносящихся в уме и впустую сказанных повседневных словечек намного превышает отпущенную меру милостивой памяти и архивов избавления – но также и произведениям искусства, изобретениям, плодам долгой, кропотливой работы – всем им рано или поздно суждено исчезнуть.
Согласно исламской традиции, именно над этой не поддающейся запоминанию массой, над этим бесформенным и безграничным хаосом, обречённым на погибель, неустанно плачет Иблис – ангел, живущий одним лишь созиданием. Он плачет, ибо не ведает, что всё погибшее принадлежит Богу, что когда все дела позабудутся, а все знаки и слова будет невозможно прочесть, спасение останется единственным и незабываемым делом.
8. Что такое «спасённая» способность, возможность совершать что-либо (и не совершать чего-либо), которая не переходит просто в действие, исчерпываясь в нём, а сохраняется и продолжается («спасает себя») как таковая в произведении? Здесь миссия спасения полностью совпадает с миссией созидания, разрушая, разлагая её и в тот же миг сопровождая и претворяя её в жизнь. Нет такого движения или слова, такого цвета или оттенка звучания, такого желания или взгляда, которого спасение не задержало бы и не пресекло бы в своей любовной схватке с деянием. То, что ангел формирует, порождает и лелеет, пророк вновь возвращает к бесформенному состоянию, созерцая результат своей работы. Его глаза видят Спасённое, но только потому, что в последний день оно погибнет. И как в воспоминаниях вдруг возникает возлюбленный – а это возможно лишь, если он освободится от телесной оболочки, воплотившись в образе, – так же и деяние спасения в каждой детали прострочено частым швом небытия.
Но что же тогда, собственно, здесь спасают? – Не создание, ибо оно гибнет, не может не погибнуть. Не силу, ибо она не может быть направлена ни на что иное, кроме разрушения деяния. Оба они, скорее, пересекают некую границу, за пределами каковой их уже никак нельзя различить. Это означает, что последняя форма человеческого и божественного деяния образует такую точку, где созидание и спасение совпадают в общем движении, которое невозможно спасти. Ведь совпадение бывает лишь тогда, когда пророку нечего спасать, а ангелу больше нечего создавать. Следовательно, невозможно спасти деяние, полностью и ежесекундно объединяющее созидание и спасение, действие и созерцание, деятельность и бездействие в одном и том же бытии (и в одном и том же небытии). Отсюда и это мрачное сияние, которое, подобно звезде, удаляется от нас с головокружительной быстротой и больше уже не вернётся.
9. Плачущий ангел становится пророком, а сетование поэта о созидании преобразуется в критическое пророчество, то есть в философию. Но именно в тот момент, когда миссия спасения будто объединяет в незабываемом всё, что нельзя запомнить, она меняется. Конечно, она не исчезает, потому что, в отличие от созидания, работа избавления бесконечна. Поскольку она пережила созидание, её силы исчерпываются не в спасённом, а в том, чему нет спасения. Возникнув из неосуществлённого созидания, она заканчивает свой путь в непостижимом и отныне бесцельном спасении.
Вот почему считается, что высшее знание – это то, что приходит слишком поздно, тогда, когда в нём больше нет нужды. Пережив все наши деяния, оно становится последним и самым ценным достижением нашей жизни, и тем не менее в определённом смысле оно к нам больше уже не имеет отношения, подобно географии страны, из которой мы уезжаем. Оно так и остаётся – по крайней мере до тех пор, пока люди не научатся встречать его как величайшее торжество, как вечный шаббат – личным делом, с которым каждый старается поскорее покончить без лишнего шума. В итоге складывается странное ощущение, будто мы наконец поняли смысл созидания и спасения, их необъяснимого разобщения, а потому нам нечего больше сказать.
Что такое современность?
1. Вопрос, на который я хотел бы обратить внимание в преддверии этого семинара[12 - Этот текст представляет собой запись вступительной лекции курса теоретической философии 2006–2007 гг. на факультете искусств и дизайна в Университетском институте архитектуры Венеции (IUAV).], звучит так: «Кому и чему мы современны? И прежде всего – что значит быть современным?». В ходе этого семинара мы обратимся к источникам, от авторов которых нас отделяет не одно столетие, а также к другим, более поздним и даже совсем недавним текстам; но в любом случае наша основная задача состоит в том, чтобы каким-то образом стать современниками этих текстов. «Время» нашего семинара обозначено как современность, что требует от нас взглянуть на произведения и на авторов, о которых пойдёт речь, с позиции их современников. Значение, равно как и итог этого семинара, зависят от его – от нашей – способности соответствовать этому требованию.
Первый, предварительный критерий, на который мы можем опереться при поиске ответа, подсказывает нам Ницше. Ролан Барт в своих конспектах лекций в Коллеж де Франс резюмирует ницшеанскую мысль так: «Современность – это несвоевременность». В 1874 году Фридрих Ницше, тогда ещё молодой филолог, работавший над греческими текстами и двумя годами ранее неожиданно прославившийся благодаря своей книге «Рождение трагедии», публикует Unzeitgem?sse Betrachtungen – «Несвоевременные размышления», в которых он пытается свести счёты со своим временем и определить своё отношение к настоящему. «Несвоевременным я считаю также и это рассуждение, – говорится в начале второго “Размышления”, – ибо я делаю в нём попытку объяснить нечто, чем наше время не без основания гордится, именно его историческое образование, как зло, недуг и недостаток, свойственные времени, ибо я думаю даже, что мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой и должны были бы по крайней мере сознаться в том, что мы страдаем ею»[13 - См.: Ницше Ф. Несвоевременные размышления (Предисловие) / Пер. Я. Бермана // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990. С. 160.]. Таким образом, притязание Ницше на «актуальность», точнее, его «современность» по отношению к настоящему оказывается несколько непоследовательной, смещённой. Лишь тот действительно принадлежит к своему времени и действительно современен, кто не соответствует ему полностью, не приспосабливается к его требованиям, а значит, в этом смысле такого человека нельзя назвать своевременным. Но как раз поэтому, благодаря подобному смещению и анахронизму, человек этот более других способен воспринимать и улавливать время.
Разумеется, это несовпадение, эта дисхрония вовсе не означает, что современным можно считать человека, живущего в ином времени, томимого ностальгией и чувствующего себя гораздо более естественно в Афинах времён Перикла или же в Париже в эпоху Робеспьера и маркиза де Сада, чем в то время и в том городе, где ему было суждено жить. Умный человек может ненавидеть своё время, но так или иначе он способен безоговорочно принадлежать ему и знает, что ему не удастся от него скрыться.
Иными словами, современность – это уникальное взаимоотношение с собственным временем: тесное и вместе с тем отстранённое; выражаясь точнее, это такое взаимоотношение со временем, в котором связь выражается через смещение и анахронизм. Те, кто безупречно вписывается в эпоху, кто во всём соответствует ей, не современны, так как именно поэтому им не удаётся увидеть её, они не могут как следует её рассмотреть.
2. В 1923 году Осип Мандельштам пишет стихотворение под названием «Век» (стоит отметить, что русское слово век помимо «столетия» может означать ещё и «эпоху»). Это размышление не о веке, а об отношениях поэта и его времени, то есть о современности. И речь идёт не о «веке» вообще, а, цитируя начальные слова первой строки, о «моём веке» (век мой):
Век мой, зверь мой – кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Поэт, вынужденный поплатиться жизнью за свою современность, должен не отрываясь смотреть в глаза веку-зверю, собственной кровью склеивая разбитый позвоночник времени. Два века, два времени – это не только, как предполагается, XIX и XX век, но также и прежде всего время жизни отдельного человека (вспомним, что латинское слово saeculum[14 - Век, столетие, возраст (лат.).] изначально переводится как «время жизни») и историческое коллективное время, которое в данном случае можно назвать XX веком – веком, как мы узнаём из последней строфы стихотворения, с разбитым позвоночником. Поскольку поэт современен, он и есть тот самый разлом, не дающий времени слиться воедино, и вместе с тем он же и кровь, которая должна заполнить эту трещину. Параллель между временем (и позвоночником) существа и временем (и позвоночником) века является одной из основных тем этого стихотворения:
Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребёнка,
Век младенческой земли.
Другая важная тема – как и первая, отражающая современность – это тема оторванных от века позвонков и их воссоединения, которое должен осуществить один человек (в данном случае поэт):
Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Невыполнимость – или по крайней мере парадоксальность – этой задачи доказана в следующей, заключительной строфе стихотворения. Ведь речь идёт не только об эпохе-звере с переломанным хребтом, но и о веке, о новорождённом столетии, пытающемся развернуться – сколь невозможным бы ни казалось это движение для существа со сломанным хребтом – и взглянуть на собственные следы, показав таким образом своё обезумевшее лицо:
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.
3. Поэт-современник должен пристально вглядываться в своё время. Но что видит человек, смотрящий на своё время, на сумасшедшую улыбку своего века? Здесь я хотел бы предложить вам другое определение современности: современен тот, кто наблюдает за своим временем, пытаясь разглядеть в нём не свет, а тьму. Для тех, кто ощущает собственную современность, любая эпоха мрачна. Современный человек – такой человек, который способен видеть этот мрак и который может писать, макая перо в сумерки настоящего. Но что значит «видеть сумерки», «воспринимать тьму»? Первый ответ подсказывает нам нейрофизиология зрения. Что происходит, когда мы оказываемся в неосвещённом пространстве или когда мы закрываем глаза? Что за тьму мы видим? Нейрофизиологи утверждают, что отсутствие света стимулирует ряд клеток на сетчатке глаза, так называемых off-клеток, которые активизируются и формируют тот самый особенный тип зрительного образа, называемый темнотой. То есть темнота является не исключающим понятием, не простым отсутствием света, не чем-то вроде невидения, а результатом деятельности off-клеток,