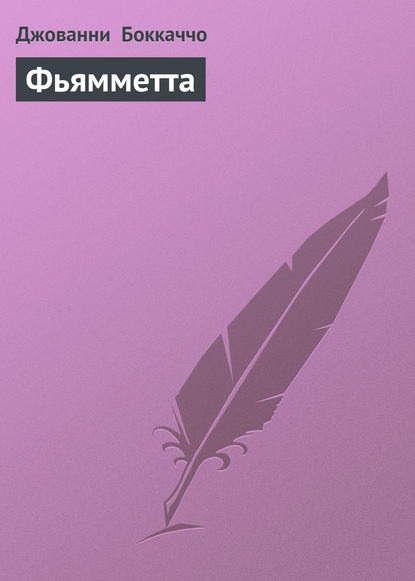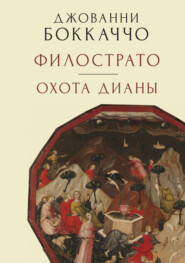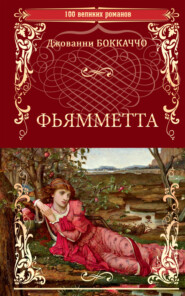По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фьямметта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фьямметта
Джованни Боккаччо
«Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц…»
Джованни Боккаччо
Фьямметта
Начинается книга, называемая элегией мадонны Фьямметты, посланная ею влюбленным женщинам
Пролог
Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц. Прочитать эту книгу прошу лишь вас, кого по себе знаю кроткими и благостными к несчастным: вы здесь не найдете греческих басен[1 - Греческие басни (Эзопа), очень популярные в средние века, были известны Боккаччо в широко распространенных в эпоху средневековья латинских переводах н переделках (первыми из них были басни Федра). Во времена Боккаччо жанр басни воспринимался как произведение на моральные темы.], украшенных выдумкой, ни битв троянских[2 - Т. е. рассказов о легендарной Троянской войне, описанной Гомером.], запятнанных кровью, но любовную повесть, полную нежной страсти. Через нее увидите вы жалкие слезы, порывистые вздохи, жалобные стоны и бурные мысли, которые, муча меня непрестанно, отняли прочь пищу, сон, веселые забавы и любезную красоту. При этом рассказе, прочтет ли его каждая из вас отдельно, или все вместе собравшись, если вы обладаете женским сердцем, то, уверена, нежные лица ваши зальете слезами, а мне, которая больше ничего и не ищет, будут они утешеньем в вечной скорби. Молю вас, не удерживайтесь от слез; думайте, что ваша любовь, как и моя, может быть не весьма прочной, если же они схожи (чего не дай бог), напоминая, я сделаю вам ее милой. Но так как рассказывать дольше, чем плакать, скорее приступлю к обещанной повести моей любви, более счастливой, нежели прочной, начиная со счастливых дней, чтобы теперешнее мое положение явилось вам более несчастным, а затем доведу свое слезное повествование как могу до дней несчастных, от которых справедливо плачу. Но раньше, если мольбы несчастных бывают услышаны, я – удрученная, заливаясь слезами, молю – если есть божество на небе, чей бы дух тронулся моею скорбью, – молю укрепить мою скорбную память и трепещущую руку к предстоящему делу, чтобы печали, что в сердце я испытала и испытываю, дали памяти силу найти слова, руке же, более желающей, чем способной к такому труду, возможность их написать.
Глава первая
Я родилась от благородных родителей[3 - Намек на высокое происхождение прототипа Фьямметты – Марии д'Аквино, которая, как известно, была побочной дочерью короля Неаполя Роберта Анжуйского.], воспринятая благостной и щедрой судьбою, в то время года, когда возрожденная земля кажется наиболее прекрасной. О проклятый и противнейший из всех дней день моего рожденья! Сколь счастливей было бы мне не родиться или быть погребенной тотчас после печального рождения! Если б имела я не более долгий век, нежели зубы, посеянные Кадмом[4 - О Кадме, легендарном основателе Фив, ср. у Овидия («Метаморфозы», III, 1 сл.).]
, если б Лахесис[5 - Лахесис – одна из Мойр, согласно Платону («Государство», кн. X, гл. 14), обладавшая способностью открывать людям прошлое.]
, свою нить начавши, оборвала тотчас! В младенческом возрасте прекратились бы бесконечные скорби, что ныне печально нудят меня к писанию. Но к чему эти жалобы! Тем не менее я живу, такова воля господня, чтобы я существовала. Итак, рожденная, как я уже сказала, среди благ жизни и вскормленная в них, отданная с детства до нежного отрочества под надзор почтенной наставницы, я приобрела привычки и манеры, свойственные знатным девицам. И как мой рост с годами увеличивался, так усиливалась и моя красота, источник моих необычайных бедствий. Увы! когда еще маленькую меня хвалили многие за красоту, я гордилась этим и старалась с усердием и искусством сделать еще большею свою прелесть.
Сделавшись более взрослой и угадав, наученная природой, какие желания возбуждают прекрасные дамы в юношах, я узнала, что моя красота (несчастный дар для тех, кто желает жить добродетельно) рождала любовный пламень в моих сверстниках и в других благородных людях. И они различными способами (мало мне тогда известными) пытались неоднократно возжечь во мне тот же огонь, которым сами горели и от которого я впоследствии больше, чем кто бы то ни было, не только согрелась, но и сгорела; многие усердно ко мне сватались, но так как я вышла замуж за одного из них, вполне подходящего ко мне во всех отношениях, то вся толпа влюбленных, как бы лишенная надежды, перестала меня добиваться. А я, совершенно довольная таким супругом, жила в полном счастьи до той поры, пока неистовая страсть с небывалою силой не овладела молодою душой. Увы! не было ничего, способного успокоить мое или какой-либо другой женщины желание, что тотчас же не приходило бы к моим услугам. Я была единственным благом и радостью для молодого супруга и любила его не менее, чем им была любима. О, как могла бы я считать себя счастливейшею в мире, когда бы вечно длилась подобная любовь!
В то время, как я в непрерывном празднике проводила счастливую жизнь, – судьба, внезапная рушительница земного благополучия, позавидовала мне за те дары, что сама дала, захотела отдернуть руку и, не зная куда направить яд свой, искусно сумела к глазам моим найти доступ несчастью; и правда, как глаз моих несчастье достигло, так там и пребывает до сих пор. Но боги, еще благостные ко мне и более, чем я сама, пекущиеся о моей судьбе, зная тайные козни, хотели дать оружие моей груди (если б я сумела взять его), чтобы не безоружною я вышла в бой, где пасть мне было суждено, – и ясными виденьями в снах моих в ночь перед днем, когда началась моя гибель, открыли мне будущее следующим образом.
Когда лежала я в глубоком сне на широкой кровати, приснилось мне, будто в прекраснейший, необычайно ясный день я радуюсь, как никогда, сама не знаю почему; и так-то радуясь, одна, среди зеленых трав, хочу я сесть на луг, защищенный от солнечных лучей тенью дерев, одетых молодой листвою; нарвав различных цветов (а ими разукрашено было все то место), белыми руками кладу их в полу одежды, цветок к цветку подбирая; и сделав из отобранных милый веночек, надела его на голову. И так украсясь, поднялась – что Прозерпина
, когда Плутон ее от матери похитил[6 - О похищении Плутоном юной Прозерпины Боккаччо читал, несомненно, у Овидия («Метаморфозы», V, 332 сл.).]; так с песней шла я раннею весною; потом, устала что ли, в траву погуще я легла и отдыхала. И так же как Эвридику
в нежную ногу сокрытая ужалила змея[7 - Это сравнение навеяно чтением Вергилия («Георгики», IV, 457–459): // Ибо, пока от тебя убегала, чтоб кинуться в реку, // Женщина эта, на смерть обреченная, не увидала // В травах огромной, у ног, змеи, охраняющей берег.], меня, что растянулась на траве, ядовитая, сокрытая змея, казалось, под левую ужалила грудь; не взвидела я света от того укусу, как зубы острые вошли; потом, придя в себя и будто худшего еще боясь, себе на грудь холодную змею я положила, смягчить воображая гнев ее теплом горячей груди. Но змея, моею добротою ободрившись, приникла злою пастью к прежней ране и долго кровь мою пила, пока – так снилось мне – вдруг отклонившись от меня, с груди не соскользнула и не исчезла с моим дыханьем вместе, виясь, виясь по молодой траве. И день, сначала такой солнечный, с исчезновением змеи стал хмуриться, и все небо надо мною покрылось тучами, и следом за ее уходом все как бы смешалось, как будто она потянула за собой множество туч, которые, следуя за нею, облепили небо; и вскоре, как камень белый, что брошен в глубокую воду и словно тает, понемногу исчезая[8 - Ср. у Данте («Рай», III, 122–123): // …исчезая под напев, // Как тонет груз и словно тает въяве.], так и она исчезла из глаз моих. Тогда я увидела небо, все закрытое мраком, будто, казалось, солнце затмило и настала ночь, как случилось это у Греков после преступления Атрея[9 - Атрей был царем Микен. См. в «Дополнениях» примечания Боккаччо.]
, и беспорядочные блистания пробегали по небу, и трескучие громы ужасали меня и землю. А рана, доселе одним укусом отмеченная, наполнилась змеиным ядом и, казалось, все тело мое обратила в гнойный нарыв; и я прежде, казалось, не знаю как остававшаяся без дыхания, почувствовав, что яд подступает к сердцу, в тоске предсмертной по свежей траве начала кататься. И смертный час, казалось, уже наступал; страх ужасной грозы и предсмертная боль в сердце так усилились, что потрясли спящее тело и разрушили крепкий сон[10 - Ср. вещие сны в «Декамероне» (д. IV, нов. 6, д. IX, нов. 7).]. Проснувшись, я тотчас (еще в страхе от виденного) схватилась правою рукою за укушенный бок, ища там того, что лишь в будущем ему предназначалось, но найдя его невредимым, развеселилась, успокоилась и начала смеяться над нелепыми снами, не придав значения небесному знамению. Ах я несчастная! Как справедливо, что презревши предзнаменования вначале, потом я им поверила с тяжкой болью и бесполезно плакалась, жалуясь на небеса, что открывают нам так темно, что почти не открывают тайны, которые можно назвать уже свершившимися. Итак, проснувшись, я подняла сонную голову и, увидев, что в комнату сквозь щель вливалось утреннее солнце, – отбросив думы, быстро вскочила.
Тот день был один из самых торжественных дней[11 - Страстная суббота. Некоторые ученые (Кошен, Маникарди, Массера) полагают, что эта встреча состоялась 27 марта 1334 г. Но большинство предлагает другую дату: 30 марта 1336. А. Н. Веселовский (Собр. соч., т. V, стр. 113) предлагал свой вариант – 11 апреля 1338, что несомненно слишком поздно и не вяжется с хронологией других произведений Боккаччо.], почему я и оделась тщательно в златотканные одежды и, искусно украсившись, как богини, сошедшие к Парису
, в долину Иды[12 - Миф о суде Париса подробно изложен Боккаччо в его «Любовном видении» (песнь XXVII).], приготовилась идти на величайший праздник. И меж тем как я, что павлин, собою любовалась, думая понравиться другим не меньше, чем самой себе, – цветок из моего венка, зацепившись за постельный полог, или, быть может, невидимой небесною рукою с головы у меня сорванный, упал на землю, – но я, не заботясь о тайных божеских знаках, как ни в чем не бывало, подняла его, воткнула в волосы и направилась в путь. Увы, какой более ясный знак будущего могли мне дать боги? Конечно, никакого. Этого достаточно было, чтоб показать мне, что с сегодняшнего дня моя свободная и независимая душа, отложив свою власть, должна стать рабою, что и случилось. О если бы я не была безумной, конечно, я узнала бы, что этот день несчастен, и провела бы его не выходя из дому. Но боги, хотя и указывают путь спасенья тем, на кого разгневаны, лишают их должной способности понимать эти знаки, в одно и то же время исполняя свой долг и утоляя гнев свой. Итак, судьба толкнула меня из дому, беззаботную и суетную; в сопровождении многих женщин я не спеша достигла святого храма[13 - Встреча Боккаччо с Марией д'Аквино произошла в церкви Сан-Лоренцо в Неаполе.], где уже шла служба, соответствующая празднику.
Вследствие моего благородного происхождения, по старинному обычаю, мне было оставлено достаточно почетное место между другими женщинами; заняв его, я по привычке обвела глазами храм, наполненный мужчинами и женщинами, расположенными разнообразными группами. Не успели во время священной службы заметить, что я вошла в храм, как случилось то, что случалось во все прошлые разы, а именно: не только взоры мужчин обратились ко мне, но даже женщины смотрели на меня, будто никогда ими не виданная Венера или Минерва сошли на то место, где я стояла. Как смеялась я про себя над всем этим, довольная сама собою, гордясь не менее богини! И почти все юноши, перестав смотреть на других женщин, окружили меня, как венком, и, рассуждая о моей красоте, единогласно прославляли ее. Но я, смотря в другую сторону, делала вид, что занята другой заботой, и прислушивалась к желанной сладости их слов, которая как бы обязывала меня взглянуть на них более благосклонно; и я глядела не раз, не два, так что некоторые, пленившись тщетной надеждой, суетно хвастались моими взглядами перед товарищами.[14 - Ср. в «Амето» рассказ Акримонии.]
Меж тем как я таким образом изредка взглядывала на некоторых и упорно созерцалась многими, думая пленить другого своею красотою, случилось, что сама постыдно в плен попалась. Уже приближаясь к тому моменту, который был причиной или вернейшей смерти, или прискорбнейшей жизни, не знаю, каким подвигнутая духом, подняла я с должною важностью глаза и острым взором различила в толпе окружавших меня юношей одного, стоявшего прямо против меня, прислонившись к колонне, отдельно от других, и я стала наблюдать его и его манеры (чего прежде никогда не делала). Скажу, что по моим наблюдениям (еще свободным от любви) он был прекрасен по наружности, приятен по манерам, приличен по одежде; кудрявый пушок, ясный признак молодости, едва опушал его щеки, а на меня он взирал чувствительно и робко. Конечно, я нашла бы силы воздержаться от взоров, но мысль о всем замеченном, что я выше перечислила, не что другое, как я сама, влекла меня к тому. Воображая себе с каким-то молчаливым наслаждением его черты, уже запечатленные в моей душе, я находила новое подтверждение справедливости моих наблюдений, довольная тем, что он на меня смотрит, я изредка поглядывала украдкой, продолжает ли он делать это.
Когда, не боясь любовных силков, один раз я замедлила свой взор на нем, его глаза, казалось, говорили: «Госпожа, ты одна – наше блаженство». Я солгала бы, сказав, что это было мне неприятно, мне это было так приятно, что из груди я испустила было нежный вздох, сказать готовый: «а вы – мое», но спохватившись, я его подавила в себе. Но что из этого? что не было выражено, сердце понимало, в себе оставляя то, что, выйдя наружу, может быть, сделало бы его свободным. С этой минуты, дав большую волю неразумным глазам, я услаждала их тем, к чему они уже возымели желание; конечно, если бы боги, ведущие все дела к известному концу, не отняли у меня разума, я бы смогла еще сохранить свободу; но отложив все соображения, я отдалась влеченью и тотчас стала готовою попасться в плен. Подобно тому как огонь сам перелетает с места на место, так из его глаз тончайшими лучами свет проник в мои глаза, и не довольствуясь остаться в них, сокрытыми путями проникнул в сердце[15 - Этот поэтический образ – любовь, проникающая в сердце через глаза – был очень распространен в любовной лирике эпохи, прежде всего у Петрарки и особенно – у его последователей.]. А сердце, в страхе от внезапно нашедшего огня, призвало к себе все мои силы, так что я осталась бледною и почти похолодевшею; но недолго длилось такое состояние, скоро наступило противоположное, и сердце не только почувствовало себя согретым, но и все силы, вернувшись на свои места, принесли с собою такой жар, что вогнали меня в сильную краску и распалили как пламя, и я вздыхала, видя, отчего все это происходит. С той поры ни о чем я больше не думала, как только, чтобы ему понравиться.
Меж тем юноша, не сходя с места, осторожно взглядывал и, быть может, зная, как опытный не в одном любовном бою[16 - Сходный образ использован Боккаччо в «Филоколо».], чем достичь желанной добычи, всякий раз с крайним смирением делал вид благоговейный и полный влюбленного желания. Увы! какой обман скрывался под этим благоговением, которое, как сейчас последствия покажут, уйдя из сердца (куда никогда более не возвращалось), лживо на его лице начертано было. Но не имея намерения рассказывать о всех его поступках, исполненных всецело обмана как в замысле, так в осуществлении, скажу только о том, что всем могу сказать, о внезапно охватившей меня неожиданной любви, которая и до сих пор меня держит.
О, сострадательные дамы, это был тот, кого мое сердце в безумном влечении меж стольких знатных, прекрасных, смелых юношей всей моей Партенопей[17 - Партенопея – т. е. Неаполь. По преданию, назван так по имени сирены Партенопы, бросившейся в море и превратившейся в утес после того, как Одиссей со спутниками проехал мимо и не обратил внимание на ее песни.], – выбрало первым, последним, единственным властителем моей жизни; Это был тот, кого любила и люблю я больше всех; это был тот, кому суждено было стать первой причиной моих бедствий и, думаю, жалкой моей смерти. В тот день впервые из свободной я сделалась презренною рабой; в тот день впервые я узнала любовь, неведомую мне дотоле, в тот день впервые любовный яд мне сердце чистое и целомудренное отравил. Увы мне жалкой! Сколько бед принес мне этот день! Увы, скольких мук и тоски не знала бы я, когда бы обратился в ночь тот день! Увы, сколь был враждебен моей чести этот день! Что говорить? Прошлые проступки гораздо легче порицать, чем исправлять. Как я уже сказала, я полюбила; и была ли то адская сила, или враждебная судьба, позавидовавши моему чистому счастью, посягнула на него, но она заранее могла торжествовать несомненную победу.
Итак, охваченная новою страстью, как бы вне себя от изумления, сидела я среди женщин, пропуская мимо ушей святую службу, которая еле достигала моего слуха, но не понимания, и различные разговоры подруг. И так вся я занята была новой внезапною любовью, что все время то мысленно, то глазами смотрела на возлюбленного юношу, сама почти не зная, какой конец предвидеть столь пламенному желанию. О, сколько раз, желая видеть его ближе, я осуждала, зачем стоит он там с другими позади, ценя в то же время его осторожную сдержанность; как надоедали мне молодые люди, что его окружали, а некоторые из них, в то время как я смотрела на него, думали, что на них направлен мой взгляд, и считали, что они любимы мною. Меж тем как мои мысли находились в таком состоянии, окончилась торжественная служба и уже поднялись, чтобы уходить, мои подруги, когда я догадалась об этом, придя в себя от мечтаний о любимом юноше. Итак, вставши с другими, я подняла на него глаза и увидала в его взорах то, что мои хотели бы сказать: «как горько уходить!» Но все-таки, вздохнув не раз, я удалилась, не зная, кто он.
Сострадательные дамы, кто бы поверил, что в один миг сердце так может измениться? Кто бы сказал, что можно, не видя ни разу прежде, с первого взгляда так сильно полюбить? Кто бы подумал, что желанье лицезреть может так возгореться, что перестав видеть, мучишься жестокою скукой, единственно желая снова встретить? Кто бы вообразил, что все другое, что прежде веселило, вдруг разонравится от нового пристрастья? Никто, конечно, кто не испытал или не испытывает того, что сталося со мною. Увы, как теперь любовь ко мне неслыханно жестока, так и вначале, чтобы схватить меня, угодно было ей применить отличные от обыкновенных средства! Я слыхала, неоднократно, что у других желания сначала бывают легкими, потом же, возрастая в мыслях, крепнут и делаются глубокими; у меня же не так; с какою силою вошли они в сердце, с такой же там пребывали и пребывают. Любовь с первого дня всецело овладела мною; как сырое дерево трудно загорается, но загоревшись, тем дольше и пламенней горит, так и со мною. Дотоле никогда не побеждаемая никаким желанием, несмотря на многие искушения, наконец одним побежденная, воспламенела и пламенею и как никто никогда служила и служу огню, меня охватившему.
Оставляя в стороне многие мысли, что в это утро мне приходили, и другие обстоятельства, кроме вышеупомянутых, скажу только, что зажженная новым огнем, вернулась я, раба душою, туда, откуда вынесла ее свободной. Там, оставшись одна в своей комнате, воспламененная различными желаньями, полная новых дум, томимая множеством забот, устремленных к запечатленному образу желанного юноши, я подумала, что будучи не в силах отогнать любви, должна я тайно и бережно сохранить ее в скорбной груди; лишь испытавший знает, сколь это тяжко, поистине считаю, что тяжелее это, чем сама любовь. Укрепившись в таком намерении, сама себе себя я называла влюбленною, не ведая в кого.
Долго было бы говорить, какие и сколько мыслей эта любовь во мне родила. Но некоторые из них понуждают меня, как бы мимо воли, объяснить, как некоторые вещи начали, против ожидания, мне нравиться. К тому же признаюсь, что все забыв одну отраду я находила – мечтать о любимом юноше, и думая, что такая настойчивость может обнаружить то, что я желала скрыть, часто я упрекала себя в этом, – но что пользы? Мои упреки уступали моим желаньям и, бесполезные, улетали с ветром. Я с каждым днем все сильнее хотела узнать, кто он, любимый мною, к которому влекли меня думы, и тайком к немалой радости своей узнала это; наряды, к которым прежде, не нуждаясь в них, была я равнодушна, стали милы мне от мысли, что в убранстве я более понравлюсь; и больше прежнего ценить я стала одежды, золото, жемчуг и другие драгоценности. До той поры я посещала церкви, праздники, сады и лодочные гонки лишь для того, чтобы быть с молодежью, теперь же с новым жаром искала этих мест из желанья видеть и показать себя на радость всем. Обычная уверенность в своей красоте стала меня покидать, и я ни разу не вышла из своей комнаты, не посоветовавшись с верным зеркалом, а мои руки, не знаю какому новому искусству научившись, каждый день находили новые, все более прекрасные убранства, к природной красоте прибавив мастерство, и делали меня блистательнейшей между всеми.
Также и знаки уважения, оказываемые мне другими женщинами из чистой любезности или вследствие моего знатного происхождения, начали считаться мною должными, так как я думала, что чем более возлюбленному буду казаться пышной, тем более буду ему угодной; свойственная женщинам скупость, покинув меня, сделала щедрой, так что я свои вещи считала как бы не принадлежащими мне; смелость возросла и даже женской мягкости стало не хватать, – так запальчиво я относилась к тому, что мне нравилось; ко всему этому глаза мои, дотоле глядевшие скромно, изменили привычку и стали удивительно искусны в своих взорах. Кроме этих перемен, много других произошло со мною, которых не стоит перечислять, во-первых, потому, что это было бы слишком долго, потом вы сами, думаю, знаете, если, как я, влюблены, сколько всяких вещей происходит в подобных случаях.
А юноша был очень благоразумен, как доказал неоднократно опыт. Он редко и достойно приходил туда, где я бывала, и, будто приняв одно со мной решение скрывать от всех любовный пламень, – лишь осторожно на меня взирал. Конечно, если бы я стала отрицать, что при взгляде на него моя любовь (сильней которой ничего не знаю) росла, как бы переполняя душу, – я отрицала бы правду. Его присутствие раздувало горевший во мне пламень и зажигало какие-то потухшие огни, если такие были; но сколь радостно было начало, столь печален был конец, когда я лишалась его лицезрения; тогда глаза, лишенные отрады, несносную причину скорби давали сердцу, все чаще и тяжелее я вздыхала, и желанье, всеми чувствами моими овладев, делало меня как бы вне себя, так что я почти не сознавала, где я; все удивлялись, видя мое состояние, которое потом я должна была объяснять различными предлогами, которые подсказывала мне любовь. А часто, лишившись сна и питанья, я поступала более безумно, чем неожиданно, и произносила необычные слова.
Но вот мое щегольство, вздохи, новые манеры, порывы бешенства, утрата покоя и другие перемены во мне, произведенные новою любовью, – возбудили, среди прочих домовых слуг, удивленье моей кормилицы, древней годами и разумом, которая знала, не подавая вида, что за печальный пламень меня сжигает, и часто упрекала меня за перемены. Однажды, увидя меня меланхолично лежащей на кровати с челом, омраченным думами, убедившись, что мы одни, так начала она говорить:[18 - Эта беседа Фьямметты с кормилицей напоминает разговор Федры и ее кормилицы из первого акта одноименной трагедии Сенеки (ст. 131–250).]
«Драгоценная моя дочка, что за заботы тяготят тебя с недавних пор? Ни часа ты не проведешь без вздоха, а прежде я видела тебя всегда веселой без всякой меланхолии».
Тогда я, вздохнув глубоко, краснея и бледнея, притворилась, будто я сплю и не слышу, повертываясь то в ту, то в другую сторону, чтобы иметь время обдумать ответ и наконец, еле выговаривая, ответила:
«Меня, кормилица, дорогая, ничто не тяготит, я все такая же; но время всех меняет, вот и я стала задумчивее».
«Ну, это, дочка, ты меня обманываешь, – ответила старая мамка, – нехорошо уверять старых людей в одном, а на деле показывать совсем другое; да и нужды нет тебе скрывать от меня то, что я давно отлично знаю».
Услышав это, я сказала, как бы рассердившись и обидевшись:
«Если ты знаешь, чего ж ты спрашиваешь? нечего тебе и говорить, раз ты знаешь».
Тогда она сказала:
«Поверь мне, все в тайне сохраню, чего другим не следует знать; провалиться мне на этом месте, если я расскажу что-нибудь, чтоб тебе было не к чести; научилась я за жизнь-то держать язык за зубами. За меня будь покойна, смотри, как бы кто другой не проведал о том, что я знаю не от тебя, не от людей, а по одному твоему виду. Коль тебе самой нравится дурь, что на тебя нашла, и тебе угодно упорствовать, делай как хочешь: тут уж мои советы не помогут. Но так как этот жестокий тиран, которому так просто ты подчинилась, не остерегшись по молодости лет, с свободой вместе отнимает и рассудок, хочу тебе напомнить и просить: вырви из чистой груди постыдные мысли, угаси пламень бесчестный, не рабствуй мерзостной надежде; теперь время бороться: кто противостал в начале, тот прогоняет преступную любовь и, побеждая, остается целым; но кто питал ее долгими и льстивыми мыслями, тому поздно свергать иго, которое добровольно наложил на себя».[19 - Ср. у Сенеки («Федра», 137–144): // …из груди непорочной // Скорее изгони огонь греха // И не давай себя ласкать надежде. // Тот, кто любовь в начале подавил, // Воистину бывает победитель. // Но кто питал и возлелеял зло, // Нести ярмо, которому подпал, // Отказывается, но слишком поздно.]
«Увы, – сказала я тогда, – насколько легче это говорить, чем делать!»
«Хоть и не очень легко это сделать, – ответила она, – однако можно и следует. Ну что ж, ты хочешь из-за одного дня потерять и забыть знатность твоей родни, славу о твоей добродетели, красу цветущую, честь и, главное, своего мужа, столь любящего и любимого тобою? Конечно, ты не должна этого хотеть и, я уверена, что здраво поразмыслив, ты не захочешь этого. Ради бога, удержись и отгони обманчивые радости, что обещав тебе нечистая надежда и с ними страсть. Умильно я тебя прошу, заклиная этою старою, иссохшею грудью, которою ты первая питалась, – спаси сама себя и честь свою и не отвергай моей помощи; ведь тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает».
Тогда я начала:
«Дорогая кормилица, я знаю хорошо, что говоришь ты правду, но страсть меня влечет в другую сторону[20 - Ср. у Сенеки («Федра», 194–196): // Я знаю, // Кормилица, ты правду говоришь. // Но страсть меня на худший путь влечет.], моя душа и чрезмерные желания с нею заодно; напрасно ты свои советы тратишь, рассудок мой побеждается страстью, во мне царит и владеет мною любовь и бог любви, а ты знаешь, никто не в силах противиться его могуществу».
И так сказав, словно сраженная, упала ей в объятья. Но она, сперва слегка смутившись, опять начала более строгим голосом:
«Вы, толпа прелестной молодежи, распаленная пламенным желаньем и движимая им, вы сочли за божество любовь, которую вернее было бы назвать страстью. Называя это божество Венериным сыном и рассказывая, что оно получило свое могущество от третьего неба[21 - Третье небо считалось небом Венеры, как третьей по удаленности от Земли планеты (первая и вторая – Луна и Меркурий). Ср. у Данте – «Рай», VIII, 3.], вы ищете свое безумье оправдать неизбежностью. О, вы лжете и совершенно лишены познанья! Что говорите? Тот, кто побуждаемый адскою яростью, внезапным летом всю землю обтекает, – не божество, а скорее безумье тех, кто его принимает, хотя он посещает только тех, чьи души знает пустыми от излишка и светского довольства[22 - Эту трактовку Амура, как «ложного» бога, Боккаччо нашел у Сенеки («Федра», 213–227).] и склонными ему дать место, – это достаточно очевидно. И правда, разве мы не видим, что святейшая Венера
часто под скромной кровлей обитает, довольная лишь пользой необходимого нашего размножения[23 - Ср. у Сенеки («Федра», 230–232): // Почему // Свята Венера в хижинах убогих // И здравы страсти у люден простых?]? Конечно, так. Но страсть, что зовется любовью, всегда стремясь к разнузданности, пристает лишь к богатству. Там она владеет жалкими душами, внушая отвращенье к пище и одежде, необходимым лишь для жизни, и побуждая к блеску и изысканности, куда она и примешивает свой яд; охотней посещает высокие дворцы, чем хижины, куда заходит редко или никогда; итак это – зараза лишь изысканных мест, всего более подходящих для ее несправедливых действий. В простолюдинах мы наблюдаем здоровые чувства, но богачи, окруженные блеском богатства (к которому они ненасытимы как и ко всему), всегда ищут большего, чем надлежит, кто имеет большую власть, стремится достигнуть той, которой еще не имеет[24 - Ср. у Сенеки («Федра», 234–236): // Богатые, особенно цари, // Стремятся к беззаконному? Кто слишком // Могуч, тот хочет мочь, чего не может.]; и я чувствую, что ты, несчастная девушка, одна из них и от избытка благополучия влечешься к новым заботам и новому позору».
Выслушав ее, я сказала:
«Молчи, старая, и не спорь с богами. Теперь, бессильная к любви и справедливо всеми пренебрегавшая, ты поневоле порицаешь то, что прежде хвалила. Если другие женщины более знаменитые, мудрые, могущественные, чем я, звали его богом, я не могу дать ему другого имени; и я подчинена тому, что может быть причиной либо моего счастья, либо горя; сил моих больше не стало: побежденные в борьбе с ним, они меня покинули. Один конец моим страданьям: или смерть или желанный юноша; коль ты мудра, как я тебя считаю, ты бы мне оказала помощь и совет (хотя бы отчасти, прошу тебя), или ты увеличишь мои муки, пороча то, к чему теперь единственно могут стремиться все силы души моей».
Тогда кормилица в гневе (вполне понятном), не отвечая, а бормоча что-то себе под нос, вышла из комнаты, оставив меня одну.
Уже ушла милая мамушка, умолкли советы, которые я так плохо опровергала; оставшись одна, я все думала о ее словах, которые оказали действие на мой ослепленный рассудок, заколебались только что высказываемые мною намеренья, мелькала мысль, не бросить ли столь справедливо осуждаемые замыслы, хотела я вернуть кормилицу себе на помощь, – как вдруг новый случай остановил меня. В тайную мою комнату не знаю как войдя, моим глазам предстала прекраснейшая жена, окруженная таким сияньем, что его едва выдерживало зренье. Она стояла еще молча передо мною, и по мере того как я напрягала свое зрение и до моего сознания достигало прекрасное виденье, я узрела ее нагою, потому что хотя тончайшее пурпуровое покрывало и обвивало отчасти ее белоснежное тело, но от взоров скрывало его не более, чем прозрачное стекло скрывает человека за ним стоящего; на голове ее (а кудри настолько блеском золото превосходили, насколько это последнее превосходит наши золотистые волосы), на голове ее была гирлянда из мирт, которая оттеняла несравнимой красоты сияющие глаза, чудесные для созерцания, и все в лице ее было исполнено прелести, которой равной не найти. Она ничего не говорила не то довольная, что я любуюсь ею, не то сама любуясь моим созерцанием; но понемногу через блистающее сиянье открыла мне свою красу, чтобы я узнала, что нет возможности не видя представить или описать такое совершенство. Когда она поняла, что я насытилась лицезреньем, и увидела мое удивленье ее приходу и красоте, с веселым ликом и голосом нежнейшим, чем голос смертных, так начала мне говорить:
Джованни Боккаччо
«Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц…»
Джованни Боккаччо
Фьямметта
Начинается книга, называемая элегией мадонны Фьямметты, посланная ею влюбленным женщинам
Пролог
Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц. Прочитать эту книгу прошу лишь вас, кого по себе знаю кроткими и благостными к несчастным: вы здесь не найдете греческих басен[1 - Греческие басни (Эзопа), очень популярные в средние века, были известны Боккаччо в широко распространенных в эпоху средневековья латинских переводах н переделках (первыми из них были басни Федра). Во времена Боккаччо жанр басни воспринимался как произведение на моральные темы.], украшенных выдумкой, ни битв троянских[2 - Т. е. рассказов о легендарной Троянской войне, описанной Гомером.], запятнанных кровью, но любовную повесть, полную нежной страсти. Через нее увидите вы жалкие слезы, порывистые вздохи, жалобные стоны и бурные мысли, которые, муча меня непрестанно, отняли прочь пищу, сон, веселые забавы и любезную красоту. При этом рассказе, прочтет ли его каждая из вас отдельно, или все вместе собравшись, если вы обладаете женским сердцем, то, уверена, нежные лица ваши зальете слезами, а мне, которая больше ничего и не ищет, будут они утешеньем в вечной скорби. Молю вас, не удерживайтесь от слез; думайте, что ваша любовь, как и моя, может быть не весьма прочной, если же они схожи (чего не дай бог), напоминая, я сделаю вам ее милой. Но так как рассказывать дольше, чем плакать, скорее приступлю к обещанной повести моей любви, более счастливой, нежели прочной, начиная со счастливых дней, чтобы теперешнее мое положение явилось вам более несчастным, а затем доведу свое слезное повествование как могу до дней несчастных, от которых справедливо плачу. Но раньше, если мольбы несчастных бывают услышаны, я – удрученная, заливаясь слезами, молю – если есть божество на небе, чей бы дух тронулся моею скорбью, – молю укрепить мою скорбную память и трепещущую руку к предстоящему делу, чтобы печали, что в сердце я испытала и испытываю, дали памяти силу найти слова, руке же, более желающей, чем способной к такому труду, возможность их написать.
Глава первая
Я родилась от благородных родителей[3 - Намек на высокое происхождение прототипа Фьямметты – Марии д'Аквино, которая, как известно, была побочной дочерью короля Неаполя Роберта Анжуйского.], воспринятая благостной и щедрой судьбою, в то время года, когда возрожденная земля кажется наиболее прекрасной. О проклятый и противнейший из всех дней день моего рожденья! Сколь счастливей было бы мне не родиться или быть погребенной тотчас после печального рождения! Если б имела я не более долгий век, нежели зубы, посеянные Кадмом[4 - О Кадме, легендарном основателе Фив, ср. у Овидия («Метаморфозы», III, 1 сл.).]
, если б Лахесис[5 - Лахесис – одна из Мойр, согласно Платону («Государство», кн. X, гл. 14), обладавшая способностью открывать людям прошлое.]
, свою нить начавши, оборвала тотчас! В младенческом возрасте прекратились бы бесконечные скорби, что ныне печально нудят меня к писанию. Но к чему эти жалобы! Тем не менее я живу, такова воля господня, чтобы я существовала. Итак, рожденная, как я уже сказала, среди благ жизни и вскормленная в них, отданная с детства до нежного отрочества под надзор почтенной наставницы, я приобрела привычки и манеры, свойственные знатным девицам. И как мой рост с годами увеличивался, так усиливалась и моя красота, источник моих необычайных бедствий. Увы! когда еще маленькую меня хвалили многие за красоту, я гордилась этим и старалась с усердием и искусством сделать еще большею свою прелесть.
Сделавшись более взрослой и угадав, наученная природой, какие желания возбуждают прекрасные дамы в юношах, я узнала, что моя красота (несчастный дар для тех, кто желает жить добродетельно) рождала любовный пламень в моих сверстниках и в других благородных людях. И они различными способами (мало мне тогда известными) пытались неоднократно возжечь во мне тот же огонь, которым сами горели и от которого я впоследствии больше, чем кто бы то ни было, не только согрелась, но и сгорела; многие усердно ко мне сватались, но так как я вышла замуж за одного из них, вполне подходящего ко мне во всех отношениях, то вся толпа влюбленных, как бы лишенная надежды, перестала меня добиваться. А я, совершенно довольная таким супругом, жила в полном счастьи до той поры, пока неистовая страсть с небывалою силой не овладела молодою душой. Увы! не было ничего, способного успокоить мое или какой-либо другой женщины желание, что тотчас же не приходило бы к моим услугам. Я была единственным благом и радостью для молодого супруга и любила его не менее, чем им была любима. О, как могла бы я считать себя счастливейшею в мире, когда бы вечно длилась подобная любовь!
В то время, как я в непрерывном празднике проводила счастливую жизнь, – судьба, внезапная рушительница земного благополучия, позавидовала мне за те дары, что сама дала, захотела отдернуть руку и, не зная куда направить яд свой, искусно сумела к глазам моим найти доступ несчастью; и правда, как глаз моих несчастье достигло, так там и пребывает до сих пор. Но боги, еще благостные ко мне и более, чем я сама, пекущиеся о моей судьбе, зная тайные козни, хотели дать оружие моей груди (если б я сумела взять его), чтобы не безоружною я вышла в бой, где пасть мне было суждено, – и ясными виденьями в снах моих в ночь перед днем, когда началась моя гибель, открыли мне будущее следующим образом.
Когда лежала я в глубоком сне на широкой кровати, приснилось мне, будто в прекраснейший, необычайно ясный день я радуюсь, как никогда, сама не знаю почему; и так-то радуясь, одна, среди зеленых трав, хочу я сесть на луг, защищенный от солнечных лучей тенью дерев, одетых молодой листвою; нарвав различных цветов (а ими разукрашено было все то место), белыми руками кладу их в полу одежды, цветок к цветку подбирая; и сделав из отобранных милый веночек, надела его на голову. И так украсясь, поднялась – что Прозерпина
, когда Плутон ее от матери похитил[6 - О похищении Плутоном юной Прозерпины Боккаччо читал, несомненно, у Овидия («Метаморфозы», V, 332 сл.).]; так с песней шла я раннею весною; потом, устала что ли, в траву погуще я легла и отдыхала. И так же как Эвридику
в нежную ногу сокрытая ужалила змея[7 - Это сравнение навеяно чтением Вергилия («Георгики», IV, 457–459): // Ибо, пока от тебя убегала, чтоб кинуться в реку, // Женщина эта, на смерть обреченная, не увидала // В травах огромной, у ног, змеи, охраняющей берег.], меня, что растянулась на траве, ядовитая, сокрытая змея, казалось, под левую ужалила грудь; не взвидела я света от того укусу, как зубы острые вошли; потом, придя в себя и будто худшего еще боясь, себе на грудь холодную змею я положила, смягчить воображая гнев ее теплом горячей груди. Но змея, моею добротою ободрившись, приникла злою пастью к прежней ране и долго кровь мою пила, пока – так снилось мне – вдруг отклонившись от меня, с груди не соскользнула и не исчезла с моим дыханьем вместе, виясь, виясь по молодой траве. И день, сначала такой солнечный, с исчезновением змеи стал хмуриться, и все небо надо мною покрылось тучами, и следом за ее уходом все как бы смешалось, как будто она потянула за собой множество туч, которые, следуя за нею, облепили небо; и вскоре, как камень белый, что брошен в глубокую воду и словно тает, понемногу исчезая[8 - Ср. у Данте («Рай», III, 122–123): // …исчезая под напев, // Как тонет груз и словно тает въяве.], так и она исчезла из глаз моих. Тогда я увидела небо, все закрытое мраком, будто, казалось, солнце затмило и настала ночь, как случилось это у Греков после преступления Атрея[9 - Атрей был царем Микен. См. в «Дополнениях» примечания Боккаччо.]
, и беспорядочные блистания пробегали по небу, и трескучие громы ужасали меня и землю. А рана, доселе одним укусом отмеченная, наполнилась змеиным ядом и, казалось, все тело мое обратила в гнойный нарыв; и я прежде, казалось, не знаю как остававшаяся без дыхания, почувствовав, что яд подступает к сердцу, в тоске предсмертной по свежей траве начала кататься. И смертный час, казалось, уже наступал; страх ужасной грозы и предсмертная боль в сердце так усилились, что потрясли спящее тело и разрушили крепкий сон[10 - Ср. вещие сны в «Декамероне» (д. IV, нов. 6, д. IX, нов. 7).]. Проснувшись, я тотчас (еще в страхе от виденного) схватилась правою рукою за укушенный бок, ища там того, что лишь в будущем ему предназначалось, но найдя его невредимым, развеселилась, успокоилась и начала смеяться над нелепыми снами, не придав значения небесному знамению. Ах я несчастная! Как справедливо, что презревши предзнаменования вначале, потом я им поверила с тяжкой болью и бесполезно плакалась, жалуясь на небеса, что открывают нам так темно, что почти не открывают тайны, которые можно назвать уже свершившимися. Итак, проснувшись, я подняла сонную голову и, увидев, что в комнату сквозь щель вливалось утреннее солнце, – отбросив думы, быстро вскочила.
Тот день был один из самых торжественных дней[11 - Страстная суббота. Некоторые ученые (Кошен, Маникарди, Массера) полагают, что эта встреча состоялась 27 марта 1334 г. Но большинство предлагает другую дату: 30 марта 1336. А. Н. Веселовский (Собр. соч., т. V, стр. 113) предлагал свой вариант – 11 апреля 1338, что несомненно слишком поздно и не вяжется с хронологией других произведений Боккаччо.], почему я и оделась тщательно в златотканные одежды и, искусно украсившись, как богини, сошедшие к Парису
, в долину Иды[12 - Миф о суде Париса подробно изложен Боккаччо в его «Любовном видении» (песнь XXVII).], приготовилась идти на величайший праздник. И меж тем как я, что павлин, собою любовалась, думая понравиться другим не меньше, чем самой себе, – цветок из моего венка, зацепившись за постельный полог, или, быть может, невидимой небесною рукою с головы у меня сорванный, упал на землю, – но я, не заботясь о тайных божеских знаках, как ни в чем не бывало, подняла его, воткнула в волосы и направилась в путь. Увы, какой более ясный знак будущего могли мне дать боги? Конечно, никакого. Этого достаточно было, чтоб показать мне, что с сегодняшнего дня моя свободная и независимая душа, отложив свою власть, должна стать рабою, что и случилось. О если бы я не была безумной, конечно, я узнала бы, что этот день несчастен, и провела бы его не выходя из дому. Но боги, хотя и указывают путь спасенья тем, на кого разгневаны, лишают их должной способности понимать эти знаки, в одно и то же время исполняя свой долг и утоляя гнев свой. Итак, судьба толкнула меня из дому, беззаботную и суетную; в сопровождении многих женщин я не спеша достигла святого храма[13 - Встреча Боккаччо с Марией д'Аквино произошла в церкви Сан-Лоренцо в Неаполе.], где уже шла служба, соответствующая празднику.
Вследствие моего благородного происхождения, по старинному обычаю, мне было оставлено достаточно почетное место между другими женщинами; заняв его, я по привычке обвела глазами храм, наполненный мужчинами и женщинами, расположенными разнообразными группами. Не успели во время священной службы заметить, что я вошла в храм, как случилось то, что случалось во все прошлые разы, а именно: не только взоры мужчин обратились ко мне, но даже женщины смотрели на меня, будто никогда ими не виданная Венера или Минерва сошли на то место, где я стояла. Как смеялась я про себя над всем этим, довольная сама собою, гордясь не менее богини! И почти все юноши, перестав смотреть на других женщин, окружили меня, как венком, и, рассуждая о моей красоте, единогласно прославляли ее. Но я, смотря в другую сторону, делала вид, что занята другой заботой, и прислушивалась к желанной сладости их слов, которая как бы обязывала меня взглянуть на них более благосклонно; и я глядела не раз, не два, так что некоторые, пленившись тщетной надеждой, суетно хвастались моими взглядами перед товарищами.[14 - Ср. в «Амето» рассказ Акримонии.]
Меж тем как я таким образом изредка взглядывала на некоторых и упорно созерцалась многими, думая пленить другого своею красотою, случилось, что сама постыдно в плен попалась. Уже приближаясь к тому моменту, который был причиной или вернейшей смерти, или прискорбнейшей жизни, не знаю, каким подвигнутая духом, подняла я с должною важностью глаза и острым взором различила в толпе окружавших меня юношей одного, стоявшего прямо против меня, прислонившись к колонне, отдельно от других, и я стала наблюдать его и его манеры (чего прежде никогда не делала). Скажу, что по моим наблюдениям (еще свободным от любви) он был прекрасен по наружности, приятен по манерам, приличен по одежде; кудрявый пушок, ясный признак молодости, едва опушал его щеки, а на меня он взирал чувствительно и робко. Конечно, я нашла бы силы воздержаться от взоров, но мысль о всем замеченном, что я выше перечислила, не что другое, как я сама, влекла меня к тому. Воображая себе с каким-то молчаливым наслаждением его черты, уже запечатленные в моей душе, я находила новое подтверждение справедливости моих наблюдений, довольная тем, что он на меня смотрит, я изредка поглядывала украдкой, продолжает ли он делать это.
Когда, не боясь любовных силков, один раз я замедлила свой взор на нем, его глаза, казалось, говорили: «Госпожа, ты одна – наше блаженство». Я солгала бы, сказав, что это было мне неприятно, мне это было так приятно, что из груди я испустила было нежный вздох, сказать готовый: «а вы – мое», но спохватившись, я его подавила в себе. Но что из этого? что не было выражено, сердце понимало, в себе оставляя то, что, выйдя наружу, может быть, сделало бы его свободным. С этой минуты, дав большую волю неразумным глазам, я услаждала их тем, к чему они уже возымели желание; конечно, если бы боги, ведущие все дела к известному концу, не отняли у меня разума, я бы смогла еще сохранить свободу; но отложив все соображения, я отдалась влеченью и тотчас стала готовою попасться в плен. Подобно тому как огонь сам перелетает с места на место, так из его глаз тончайшими лучами свет проник в мои глаза, и не довольствуясь остаться в них, сокрытыми путями проникнул в сердце[15 - Этот поэтический образ – любовь, проникающая в сердце через глаза – был очень распространен в любовной лирике эпохи, прежде всего у Петрарки и особенно – у его последователей.]. А сердце, в страхе от внезапно нашедшего огня, призвало к себе все мои силы, так что я осталась бледною и почти похолодевшею; но недолго длилось такое состояние, скоро наступило противоположное, и сердце не только почувствовало себя согретым, но и все силы, вернувшись на свои места, принесли с собою такой жар, что вогнали меня в сильную краску и распалили как пламя, и я вздыхала, видя, отчего все это происходит. С той поры ни о чем я больше не думала, как только, чтобы ему понравиться.
Меж тем юноша, не сходя с места, осторожно взглядывал и, быть может, зная, как опытный не в одном любовном бою[16 - Сходный образ использован Боккаччо в «Филоколо».], чем достичь желанной добычи, всякий раз с крайним смирением делал вид благоговейный и полный влюбленного желания. Увы! какой обман скрывался под этим благоговением, которое, как сейчас последствия покажут, уйдя из сердца (куда никогда более не возвращалось), лживо на его лице начертано было. Но не имея намерения рассказывать о всех его поступках, исполненных всецело обмана как в замысле, так в осуществлении, скажу только о том, что всем могу сказать, о внезапно охватившей меня неожиданной любви, которая и до сих пор меня держит.
О, сострадательные дамы, это был тот, кого мое сердце в безумном влечении меж стольких знатных, прекрасных, смелых юношей всей моей Партенопей[17 - Партенопея – т. е. Неаполь. По преданию, назван так по имени сирены Партенопы, бросившейся в море и превратившейся в утес после того, как Одиссей со спутниками проехал мимо и не обратил внимание на ее песни.], – выбрало первым, последним, единственным властителем моей жизни; Это был тот, кого любила и люблю я больше всех; это был тот, кому суждено было стать первой причиной моих бедствий и, думаю, жалкой моей смерти. В тот день впервые из свободной я сделалась презренною рабой; в тот день впервые я узнала любовь, неведомую мне дотоле, в тот день впервые любовный яд мне сердце чистое и целомудренное отравил. Увы мне жалкой! Сколько бед принес мне этот день! Увы, скольких мук и тоски не знала бы я, когда бы обратился в ночь тот день! Увы, сколь был враждебен моей чести этот день! Что говорить? Прошлые проступки гораздо легче порицать, чем исправлять. Как я уже сказала, я полюбила; и была ли то адская сила, или враждебная судьба, позавидовавши моему чистому счастью, посягнула на него, но она заранее могла торжествовать несомненную победу.
Итак, охваченная новою страстью, как бы вне себя от изумления, сидела я среди женщин, пропуская мимо ушей святую службу, которая еле достигала моего слуха, но не понимания, и различные разговоры подруг. И так вся я занята была новой внезапною любовью, что все время то мысленно, то глазами смотрела на возлюбленного юношу, сама почти не зная, какой конец предвидеть столь пламенному желанию. О, сколько раз, желая видеть его ближе, я осуждала, зачем стоит он там с другими позади, ценя в то же время его осторожную сдержанность; как надоедали мне молодые люди, что его окружали, а некоторые из них, в то время как я смотрела на него, думали, что на них направлен мой взгляд, и считали, что они любимы мною. Меж тем как мои мысли находились в таком состоянии, окончилась торжественная служба и уже поднялись, чтобы уходить, мои подруги, когда я догадалась об этом, придя в себя от мечтаний о любимом юноше. Итак, вставши с другими, я подняла на него глаза и увидала в его взорах то, что мои хотели бы сказать: «как горько уходить!» Но все-таки, вздохнув не раз, я удалилась, не зная, кто он.
Сострадательные дамы, кто бы поверил, что в один миг сердце так может измениться? Кто бы сказал, что можно, не видя ни разу прежде, с первого взгляда так сильно полюбить? Кто бы подумал, что желанье лицезреть может так возгореться, что перестав видеть, мучишься жестокою скукой, единственно желая снова встретить? Кто бы вообразил, что все другое, что прежде веселило, вдруг разонравится от нового пристрастья? Никто, конечно, кто не испытал или не испытывает того, что сталося со мною. Увы, как теперь любовь ко мне неслыханно жестока, так и вначале, чтобы схватить меня, угодно было ей применить отличные от обыкновенных средства! Я слыхала, неоднократно, что у других желания сначала бывают легкими, потом же, возрастая в мыслях, крепнут и делаются глубокими; у меня же не так; с какою силою вошли они в сердце, с такой же там пребывали и пребывают. Любовь с первого дня всецело овладела мною; как сырое дерево трудно загорается, но загоревшись, тем дольше и пламенней горит, так и со мною. Дотоле никогда не побеждаемая никаким желанием, несмотря на многие искушения, наконец одним побежденная, воспламенела и пламенею и как никто никогда служила и служу огню, меня охватившему.
Оставляя в стороне многие мысли, что в это утро мне приходили, и другие обстоятельства, кроме вышеупомянутых, скажу только, что зажженная новым огнем, вернулась я, раба душою, туда, откуда вынесла ее свободной. Там, оставшись одна в своей комнате, воспламененная различными желаньями, полная новых дум, томимая множеством забот, устремленных к запечатленному образу желанного юноши, я подумала, что будучи не в силах отогнать любви, должна я тайно и бережно сохранить ее в скорбной груди; лишь испытавший знает, сколь это тяжко, поистине считаю, что тяжелее это, чем сама любовь. Укрепившись в таком намерении, сама себе себя я называла влюбленною, не ведая в кого.
Долго было бы говорить, какие и сколько мыслей эта любовь во мне родила. Но некоторые из них понуждают меня, как бы мимо воли, объяснить, как некоторые вещи начали, против ожидания, мне нравиться. К тому же признаюсь, что все забыв одну отраду я находила – мечтать о любимом юноше, и думая, что такая настойчивость может обнаружить то, что я желала скрыть, часто я упрекала себя в этом, – но что пользы? Мои упреки уступали моим желаньям и, бесполезные, улетали с ветром. Я с каждым днем все сильнее хотела узнать, кто он, любимый мною, к которому влекли меня думы, и тайком к немалой радости своей узнала это; наряды, к которым прежде, не нуждаясь в них, была я равнодушна, стали милы мне от мысли, что в убранстве я более понравлюсь; и больше прежнего ценить я стала одежды, золото, жемчуг и другие драгоценности. До той поры я посещала церкви, праздники, сады и лодочные гонки лишь для того, чтобы быть с молодежью, теперь же с новым жаром искала этих мест из желанья видеть и показать себя на радость всем. Обычная уверенность в своей красоте стала меня покидать, и я ни разу не вышла из своей комнаты, не посоветовавшись с верным зеркалом, а мои руки, не знаю какому новому искусству научившись, каждый день находили новые, все более прекрасные убранства, к природной красоте прибавив мастерство, и делали меня блистательнейшей между всеми.
Также и знаки уважения, оказываемые мне другими женщинами из чистой любезности или вследствие моего знатного происхождения, начали считаться мною должными, так как я думала, что чем более возлюбленному буду казаться пышной, тем более буду ему угодной; свойственная женщинам скупость, покинув меня, сделала щедрой, так что я свои вещи считала как бы не принадлежащими мне; смелость возросла и даже женской мягкости стало не хватать, – так запальчиво я относилась к тому, что мне нравилось; ко всему этому глаза мои, дотоле глядевшие скромно, изменили привычку и стали удивительно искусны в своих взорах. Кроме этих перемен, много других произошло со мною, которых не стоит перечислять, во-первых, потому, что это было бы слишком долго, потом вы сами, думаю, знаете, если, как я, влюблены, сколько всяких вещей происходит в подобных случаях.
А юноша был очень благоразумен, как доказал неоднократно опыт. Он редко и достойно приходил туда, где я бывала, и, будто приняв одно со мной решение скрывать от всех любовный пламень, – лишь осторожно на меня взирал. Конечно, если бы я стала отрицать, что при взгляде на него моя любовь (сильней которой ничего не знаю) росла, как бы переполняя душу, – я отрицала бы правду. Его присутствие раздувало горевший во мне пламень и зажигало какие-то потухшие огни, если такие были; но сколь радостно было начало, столь печален был конец, когда я лишалась его лицезрения; тогда глаза, лишенные отрады, несносную причину скорби давали сердцу, все чаще и тяжелее я вздыхала, и желанье, всеми чувствами моими овладев, делало меня как бы вне себя, так что я почти не сознавала, где я; все удивлялись, видя мое состояние, которое потом я должна была объяснять различными предлогами, которые подсказывала мне любовь. А часто, лишившись сна и питанья, я поступала более безумно, чем неожиданно, и произносила необычные слова.
Но вот мое щегольство, вздохи, новые манеры, порывы бешенства, утрата покоя и другие перемены во мне, произведенные новою любовью, – возбудили, среди прочих домовых слуг, удивленье моей кормилицы, древней годами и разумом, которая знала, не подавая вида, что за печальный пламень меня сжигает, и часто упрекала меня за перемены. Однажды, увидя меня меланхолично лежащей на кровати с челом, омраченным думами, убедившись, что мы одни, так начала она говорить:[18 - Эта беседа Фьямметты с кормилицей напоминает разговор Федры и ее кормилицы из первого акта одноименной трагедии Сенеки (ст. 131–250).]
«Драгоценная моя дочка, что за заботы тяготят тебя с недавних пор? Ни часа ты не проведешь без вздоха, а прежде я видела тебя всегда веселой без всякой меланхолии».
Тогда я, вздохнув глубоко, краснея и бледнея, притворилась, будто я сплю и не слышу, повертываясь то в ту, то в другую сторону, чтобы иметь время обдумать ответ и наконец, еле выговаривая, ответила:
«Меня, кормилица, дорогая, ничто не тяготит, я все такая же; но время всех меняет, вот и я стала задумчивее».
«Ну, это, дочка, ты меня обманываешь, – ответила старая мамка, – нехорошо уверять старых людей в одном, а на деле показывать совсем другое; да и нужды нет тебе скрывать от меня то, что я давно отлично знаю».
Услышав это, я сказала, как бы рассердившись и обидевшись:
«Если ты знаешь, чего ж ты спрашиваешь? нечего тебе и говорить, раз ты знаешь».
Тогда она сказала:
«Поверь мне, все в тайне сохраню, чего другим не следует знать; провалиться мне на этом месте, если я расскажу что-нибудь, чтоб тебе было не к чести; научилась я за жизнь-то держать язык за зубами. За меня будь покойна, смотри, как бы кто другой не проведал о том, что я знаю не от тебя, не от людей, а по одному твоему виду. Коль тебе самой нравится дурь, что на тебя нашла, и тебе угодно упорствовать, делай как хочешь: тут уж мои советы не помогут. Но так как этот жестокий тиран, которому так просто ты подчинилась, не остерегшись по молодости лет, с свободой вместе отнимает и рассудок, хочу тебе напомнить и просить: вырви из чистой груди постыдные мысли, угаси пламень бесчестный, не рабствуй мерзостной надежде; теперь время бороться: кто противостал в начале, тот прогоняет преступную любовь и, побеждая, остается целым; но кто питал ее долгими и льстивыми мыслями, тому поздно свергать иго, которое добровольно наложил на себя».[19 - Ср. у Сенеки («Федра», 137–144): // …из груди непорочной // Скорее изгони огонь греха // И не давай себя ласкать надежде. // Тот, кто любовь в начале подавил, // Воистину бывает победитель. // Но кто питал и возлелеял зло, // Нести ярмо, которому подпал, // Отказывается, но слишком поздно.]
«Увы, – сказала я тогда, – насколько легче это говорить, чем делать!»
«Хоть и не очень легко это сделать, – ответила она, – однако можно и следует. Ну что ж, ты хочешь из-за одного дня потерять и забыть знатность твоей родни, славу о твоей добродетели, красу цветущую, честь и, главное, своего мужа, столь любящего и любимого тобою? Конечно, ты не должна этого хотеть и, я уверена, что здраво поразмыслив, ты не захочешь этого. Ради бога, удержись и отгони обманчивые радости, что обещав тебе нечистая надежда и с ними страсть. Умильно я тебя прошу, заклиная этою старою, иссохшею грудью, которою ты первая питалась, – спаси сама себя и честь свою и не отвергай моей помощи; ведь тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает».
Тогда я начала:
«Дорогая кормилица, я знаю хорошо, что говоришь ты правду, но страсть меня влечет в другую сторону[20 - Ср. у Сенеки («Федра», 194–196): // Я знаю, // Кормилица, ты правду говоришь. // Но страсть меня на худший путь влечет.], моя душа и чрезмерные желания с нею заодно; напрасно ты свои советы тратишь, рассудок мой побеждается страстью, во мне царит и владеет мною любовь и бог любви, а ты знаешь, никто не в силах противиться его могуществу».
И так сказав, словно сраженная, упала ей в объятья. Но она, сперва слегка смутившись, опять начала более строгим голосом:
«Вы, толпа прелестной молодежи, распаленная пламенным желаньем и движимая им, вы сочли за божество любовь, которую вернее было бы назвать страстью. Называя это божество Венериным сыном и рассказывая, что оно получило свое могущество от третьего неба[21 - Третье небо считалось небом Венеры, как третьей по удаленности от Земли планеты (первая и вторая – Луна и Меркурий). Ср. у Данте – «Рай», VIII, 3.], вы ищете свое безумье оправдать неизбежностью. О, вы лжете и совершенно лишены познанья! Что говорите? Тот, кто побуждаемый адскою яростью, внезапным летом всю землю обтекает, – не божество, а скорее безумье тех, кто его принимает, хотя он посещает только тех, чьи души знает пустыми от излишка и светского довольства[22 - Эту трактовку Амура, как «ложного» бога, Боккаччо нашел у Сенеки («Федра», 213–227).] и склонными ему дать место, – это достаточно очевидно. И правда, разве мы не видим, что святейшая Венера
часто под скромной кровлей обитает, довольная лишь пользой необходимого нашего размножения[23 - Ср. у Сенеки («Федра», 230–232): // Почему // Свята Венера в хижинах убогих // И здравы страсти у люден простых?]? Конечно, так. Но страсть, что зовется любовью, всегда стремясь к разнузданности, пристает лишь к богатству. Там она владеет жалкими душами, внушая отвращенье к пище и одежде, необходимым лишь для жизни, и побуждая к блеску и изысканности, куда она и примешивает свой яд; охотней посещает высокие дворцы, чем хижины, куда заходит редко или никогда; итак это – зараза лишь изысканных мест, всего более подходящих для ее несправедливых действий. В простолюдинах мы наблюдаем здоровые чувства, но богачи, окруженные блеском богатства (к которому они ненасытимы как и ко всему), всегда ищут большего, чем надлежит, кто имеет большую власть, стремится достигнуть той, которой еще не имеет[24 - Ср. у Сенеки («Федра», 234–236): // Богатые, особенно цари, // Стремятся к беззаконному? Кто слишком // Могуч, тот хочет мочь, чего не может.]; и я чувствую, что ты, несчастная девушка, одна из них и от избытка благополучия влечешься к новым заботам и новому позору».
Выслушав ее, я сказала:
«Молчи, старая, и не спорь с богами. Теперь, бессильная к любви и справедливо всеми пренебрегавшая, ты поневоле порицаешь то, что прежде хвалила. Если другие женщины более знаменитые, мудрые, могущественные, чем я, звали его богом, я не могу дать ему другого имени; и я подчинена тому, что может быть причиной либо моего счастья, либо горя; сил моих больше не стало: побежденные в борьбе с ним, они меня покинули. Один конец моим страданьям: или смерть или желанный юноша; коль ты мудра, как я тебя считаю, ты бы мне оказала помощь и совет (хотя бы отчасти, прошу тебя), или ты увеличишь мои муки, пороча то, к чему теперь единственно могут стремиться все силы души моей».
Тогда кормилица в гневе (вполне понятном), не отвечая, а бормоча что-то себе под нос, вышла из комнаты, оставив меня одну.
Уже ушла милая мамушка, умолкли советы, которые я так плохо опровергала; оставшись одна, я все думала о ее словах, которые оказали действие на мой ослепленный рассудок, заколебались только что высказываемые мною намеренья, мелькала мысль, не бросить ли столь справедливо осуждаемые замыслы, хотела я вернуть кормилицу себе на помощь, – как вдруг новый случай остановил меня. В тайную мою комнату не знаю как войдя, моим глазам предстала прекраснейшая жена, окруженная таким сияньем, что его едва выдерживало зренье. Она стояла еще молча передо мною, и по мере того как я напрягала свое зрение и до моего сознания достигало прекрасное виденье, я узрела ее нагою, потому что хотя тончайшее пурпуровое покрывало и обвивало отчасти ее белоснежное тело, но от взоров скрывало его не более, чем прозрачное стекло скрывает человека за ним стоящего; на голове ее (а кудри настолько блеском золото превосходили, насколько это последнее превосходит наши золотистые волосы), на голове ее была гирлянда из мирт, которая оттеняла несравнимой красоты сияющие глаза, чудесные для созерцания, и все в лице ее было исполнено прелести, которой равной не найти. Она ничего не говорила не то довольная, что я любуюсь ею, не то сама любуясь моим созерцанием; но понемногу через блистающее сиянье открыла мне свою красу, чтобы я узнала, что нет возможности не видя представить или описать такое совершенство. Когда она поняла, что я насытилась лицезреньем, и увидела мое удивленье ее приходу и красоте, с веселым ликом и голосом нежнейшим, чем голос смертных, так начала мне говорить: