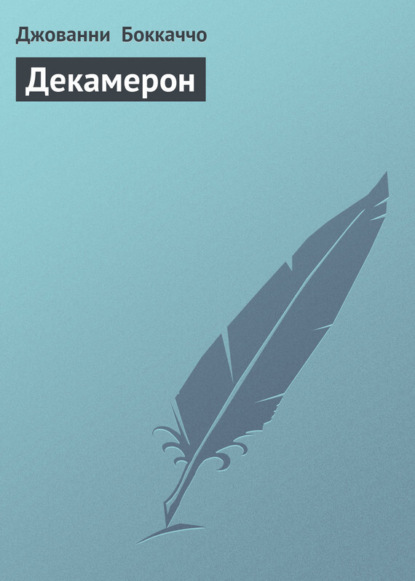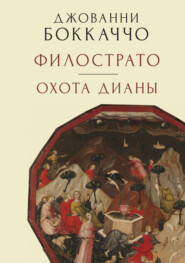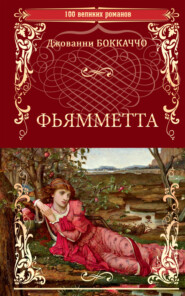По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Декамерон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Узнав о том, девушка тотчас же велела приготовить себе постель и, сбираясь там спать на следующую ночь, подождала, пока не увидела Риччьярдо и не сделала ему условленного между ними знака, из которого он понял, как ему следует поступить. Мессер Лицио, лишь только услышал, что девушка пошла спать, запер дверь, ведшую из его комнаты на балкон, и также отправился отдохнуть. Услышав, что все и всюду успокоились, Риччьярдо с помощью лестницы влез на стену, а с нее, цепляясь за выступы другой стены, добрался с большим трудом и опасностью, в случае падения, на балкон, где тихо и с великой радостью был принят девушкой; после многих поцелуев, они легли вместе и почти всю ночь провели в обоюдном наслаждении и удовольствии, много раз заставив пропеть соловья. Ночи были короткие, удовольствие великое, уже близился день, что было им невдомек; разгоряченные погодой и забавой, они заснули, ничем не прикрытые, причем Катерина правой рукой обвила шею Риччьярдо, а левой схватила его за то, что вы особенно стыдитесь назвать в обществе мужчин».
Так они спали без просыпу; когда настал день, мессер Лицио поднялся и, вспомнив, что дочка спит на балконе, тихо отворив дверь, сказал: «Дай-ка я посмотрю, как-то соловей дал сегодня поспать Катерине». Подойдя, он осторожно приподнял полог, что был кругом постели, и увидел, что Риччьярдо и она, голые и обнаженные, спят, обнявшись рассказанным выше способом. Хорошо распознав Риччьярдо, он вышел, направился в комнату жены и окликнул ее словами: «Скорее, жена, встань и пойди погляди: твоей-то дочке так понравился соловей, что она поймала его и держит в руке». – «Как это можно?» – сказала жена. Говорит мессер Лицио: «Ты это увидишь, коли поторопишься». Жена, поспешно одевшись, тихо последовала за мессером Лицио; когда оба подошли к постели и подняли полог, мадонна Джьякомина могла увидеть воочию, как ее дочка, поймав, держала соловья, песни которого так желала услышать. Считая, что Риччьярдо страшно обманул ее, жена хотела было закричать и наговорить ему дерзостей, но мессер Лицио сказал ей: «Смотри, жена, коли ты дорожишь моей любовью, не говори ни слова, ибо поистине, если она поймала его, то он и будет ей принадлежать. Риччьярдо – юноша родовитый и богатый; родство с ним будет нам только выгодным; если он пожелает уйти от меня подобру-поздорову, ему придется наперед помолвиться с нею; оно и выйдет, что соловья-то он посадил в свою клетку, а не в чужую».
Жена успокоилась, увидев, что муж не опечален этим делом, и, сообразив, что дочка провела хорошую ночь, славно отдохнула и поймала соловья, умолкла. Не много времени прошло после этих речей, как Риччьярдо проснулся; увидев, что уже светло, он счел себя погибшим и, окликнув Катерину, сказал: «Увы, душа моя, что нам делать! Ведь уже день наступил и застал меня здесь!» При этих словах мессер Лицио, выступив вперед и подняв полог, ответил: «Мы это уладим». Как увидел его Риччьярдо, точно у него вырвали сердце из тела; приподнявшись и сев на кровати, он сказал: «Господин мой, помилосердствуйте, Бога ради. Я знаю, что, как предатель и дурной человек, я заслужил смерть, потому делайте со мной, что хотите, но, умоляю вас, пощадите мою жизнь, не дайте мне погибнуть». На это мессер Лицио ответил: «Риччьярдо, не того заслужила любовь, которую я питал к тебе, и доверие, которое к тебе имел; но так как все это случилось и твоя юность увлекла тебя к такому проступку, то, избегая себе смерти, мне стыда, возьми Катерину в законные жены, дабы, как этой ночью она была твоей, так была бы, пока жива. Таким образом ты устроишь со мною мир, а себе спасение; коли не желаешь так сделать, поручи Господу свою душу».
Пока шли эти речи, Катерина, прикрывшись, принялась сильно плакать, прося отца простить Риччьярдо, а с другой стороны, умоляя и Риччьярдо сделать так, как желал отец, дабы они могли долго и беспечно пользоваться вместе такими же ночами. Но на то не понадобилось много просьб, потому что, с одной стороны, стыд совершенного проступка и охота его загладить, с другой – страх смерти и желание спасения, а кроме того, горячая любовь и побуждение обладать любимым предметом – все это заставило Риччьярдо по своей воле и без всякой проволочки сказать, что он готов исполнить все, что заблагорассудится мессеру Лицио. Вследствие этого мессер Лицио взял у мадонны Джьякомины на подержание одно из ее колец, и тут же, не выходя, Риччьярдо обручился в их присутствии с Катериной, как с своей женой. Когда это было сделано, мессер Лицио и его жена, удаляясь, сказали: «Теперь отдохните, ибо, быть может, это вам более потребно, чем вставанье». Когда те ушли, молодые снова обнялись и, отъехав ночью не более как на шесть миль, сделали еще две, прежде чем встать; тем и закончили первый день. Поднявшись, Риччьярдо держал более толковые речи с мессером Лицио, а несколько дней спустя, по обычаю, в присутствии друзей и родственников, женился на девушке и, с большим торжеством поведя ее домой, устроил пышную, блестящую свадьбу, после чего в мире и в свое утешение долгое время охотился вместе с нею за соловьями днем и ночью, сколько ему было угодно.
Новелла пятая
Гвидотто из Кремоны поручает Джьякомино из Павии свою приемную дочь и умирает; в Фаэнце в нее влюбляются Джьянноле ди Северино и Мингино ди Минголе и вступают друг с другом в распрю; девушка оказывается сестрой Джьянноле, и ее отдают замуж за Мингино
Слушая новеллу о соловье, все дамы так смеялись, что, когда Филострато кончил свой рассказ, они все еще не могли удержаться от смеха. Когда, наконец, они нахохотались вдоволь, королева сказала: «Поистине, если вчера ты всех нас разжалобил, то сегодня так развеселил, что ни одна не имеет права досадовать на тебя», и, обратившись к Неифиле, она велела ей продолжать рассказы; та весело начала таким образом: – Так как Филострато в своем рассказе завел нас в Романью, то и я не прочь несколько прогуляться по ней в моей новелле.
Итак, скажу, что в городе Фано жили когда-то два ломбардца, один по имени Гвидотто из Кремоны, другой – Джьякомино из Павии, люди уже престарелые, почти сплошь проведшие свою юность солдатами на войне. Гвидотто, умирая, не имея ни сына, ни другого приятеля, ни родственника, которому он более бы доверял, чем Джьякомино, поручил ему свою девочку, лет, может быть, десяти, и все, что у него было на свете, и, подробно поговорив с ним о своих делах, скончался.
Случилось, что в то время город Фаэнца, в течение долгого времени взысканный войною и напастями, пришел в несколько лучшее положение, и предоставлена была свобода вернуться туда всем, кто бы того пожелал; почему Джьякомино, уже живавший там прежде и полюбивший это пребывание, возвратился туда со всем своим добром, привезя с собой и девушку, оставленную ему Гвидотто, которую любил и обхаживал, как свою дочь. Выросши, она стала красавицей, краше всех, какие были в то время в городе; и как она была красива, так равно благовоспитана и честна. По этой причине за ней стали ухаживать многие, особенно двое юношей, одинаково прекрасных и достойных, воспылали к ней великою любовью, настолько, что из ревности безмерно возненавидели друг друга, а звался один из них Джьянноле ди Северино, другой Мингино ди Минголе. И ни один из них не прочь был бы с охотою взять ее за себя, ибо ей было уже пятнадцать лет, если бы на то было согласие их родителей; почему, видя, что в ее руке им отказывают по благовидной причине, каждый из них задумал овладеть ею тем способом, который будет ему удобнее.
У Джьякомино жили старая служанка и слуга, по имени Кривелло, и был он человек очень потешный и добродушный. Хорошо с ним сблизившись, Джьянноле улучил время, чтобы открыться ему в своей любви, и просил его благоприятствовать ему в достижении его желания, обещая ему многое, если он то исполнит. На это Кривелло сказал: «Видишь ли, в этом деле я могу помочь тебе разве тем, что, когда Джьякомино пойдет куда-нибудь ужинать, я проведу тебя к ней, ибо если б я пожелал замолвить за тебя слово, она никогда не стала бы меня и слушать. Это, коли хочешь, я тебе обещаю и сделаю, а ты затем поступи, как тебе покажется лучшим». Джьянноле сказал, что большего ему не надо; на том порешили. Мингино, с другой стороны, сдружился со служанкой и так ее обработал, что она несколько раз ходила с поручениями к девушке и чуть не возбудила в ней любовь к нему, а кроме того, обещала свести его с нею, если случится, что Джьякомино по какой-либо причине выйдет из дома вечером.
Случилось вскоре после этих уговоров, что благодаря Кривелло Джьякомино отправился ужинать к одному своему приятелю; дав о том знать Джьянноле, Кривелло уговорился с ним, что по условному знаку он явится и найдет дверь отворенной. С другой стороны, служанка, ничего о том не знавшая, оповестила Мингино, что Джьякомино не будет дома ужинать, и сказала ему, чтобы он побыл вблизи дома, дабы по знаку, который она ему сделает, он мог явиться и войти. Когда настал вечер, оба влюбленные, ничего не зная друг о друге, один полный подозрений на другого, отправились с несколькими вооруженными людьми, чтобы вступить во владение добычей. Мингино, а с ним его люди, поджидая знака, укрылся в доме одного своего приятеля, соседившем с домом девушки; Джьянноле со своими стал несколько поодаль. Кривелло и служанка в отсутствие Джьякомино старались услать друг друга. Кривелло говорил служанке: «Зачем не пойдешь ты теперь спать, зачем путаешься по дому?» А служанка отвечала ему: «А ты почему не идешь за своим хозяином, чего ждешь, коли уже поужинал?» Таким образом, никому не удалось выжить другого.
Когда Кривелло увидел, что настал час, условленный с Джьянноле, сказал сам себе: «Что мне до нее! Коли не будет держаться спокойно, ей же достанется», и, сделав условленный знак, он отворил дверь. Джьянноле тотчас же явился с двумя товарищами, вошел в дом и, найдя девушку в зале, схватил ее, чтобы увести. Девушка стала сопротивляться и громко кричать, и с ней и служанка. Как услыхал это Мингино, тотчас же прибежал со своими товарищами; увидев, что девушку уже вытаскивают из дверей, все они выхватили мечи при криках: «Смерть вам, предатели! Этому не бывать! Что это за насилие!» Так сказав, они принялись рубить. С другой стороны, соседи, выбежав на крик с светочами и оружием, начали порицать это дело и помогать Мингино, вследствие чего после долгой борьбы Мингино отнял девушку у Джьянноле и вернул в дом Джьякомино. Не прежде прекратилась распря, как явились служилые люди начальника города и многих из них перехватали; между прочим, взяли Мингино, Джьянноле и Кривелло и повели их в тюрьму.
Когда все утихло и Джьякомино вернулся домой, он сильно опечалился этим происшествием, но, расследовав, как было дело, и найдя, что девушка ни в чем не виновата, несколько успокоился, намереваясь для предотвращения подобного случая как можно скорее выдать ее замуж. На другое утро, когда родственники той и другой стороны узнали истину и уразумели, какое зло может от того воспоследовать заключенным юношам, а Джьякомино намеревался прибегнуть к мерам, на которые имел право, те явились к нему и дружески попросили его принять в расчет не столько оскорбление, нанесенное неразумием юношей, сколько любовь и расположение, с которыми он, полагали, относится к молящим его, причем изъявили готовность и от себя и от юношей, учинивших зло, дать ему какое угодно удовлетворение. Джьякомино, много видевший на своем веку и благодушный, ответил кратко: «Господа, если б я даже был на родине у себя, как нахожусь в вашей, я считаю себя настолько вашим приятелем, что ни в этом, ни в другом случае не поступил бы иначе, как в угодность вам; кроме того, я тем более обязан склоняться на ваши просьбы, что вы нанесли оскорбление самим себе, ибо эта девушка не из Кремоны и не из Павии, как многие, быть может, полагают, а фаэнтинка, хотя ни я, ни тот, который поручил мне ее, никогда не доведались, чья она дочь. Поэтому по отношению к вашей просьбе я сделаю все, что вы мне прикажете».
Услышав, что девушка из Фаэнцы, почтенные люди удивились и, поблагодарив Джьякомино за его великодушный ответ, попросили его рассказать им, каким образом она попала в его руки и как он узнал, что она – фаэнтинка. Джьякомино так им ответил: «Гвидотто из Кремоны был моим товарищем и другом и, приближаясь к смерти, рассказал мне, что, когда этот город был взят императором Фридрихом и все было предано разграблению, он с товарищами, придя в один дом, нашел его полным всякого угодья, но покинутым обитателями, за исключением этой девочки, двух лет или около того, которая назвала его отцом, когда он входил по лестнице; оттого у него явилась к ней жалость, и он взял ее, равно как и все, что было в дому, с собой, в Фано, и здесь, умирая, оставил ее мне со всем, что у него было, наказав выдать ее замуж, когда наступит пора, а все, что ему принадлежало, отдать ей в приданое. Когда она выросла до брачного возраста, мне не удалось выдать ее за человека, который бы мне нравился, а я сделал бы это охотно, прежде чем приключится что-нибудь похожее на случившееся вчера вечером».
Был там в числе прочих некий Гвильельмино да Медичина, участвовавший с Гвидотто в том деле и отлично знавший, чей дом ограбил Гвидотто; увидев там в числе прочих его хозяина, он подошел к нему и сказал: «Слышишь ли ты, Бернабуччио, что говорит Джьякомино?» – «Да, – отвечал Бернабуччио, – и теперь я особенно о том раздумался, ибо поминаю, что в этих передрягах я потерял дочку таких лет, как рассказывает Джьякомино». Говорит ему Гвильельмино: «Это наверно она и есть, ибо, находясь в одном месте, я слышал, как Гвидотто рассказывал, где он учинил грабеж, и я догадался, что то был твой дом; потому припомни, не сумеешь ли признать ее по какому-нибудь знамению, вели поискать его, и ты наверно убедишься, что это – твоя дочь». Подумав, Бернабуччио вспомнил, что у нее должен быть шрам, в виде крестика, над левым ухом, оставшийся от опухоли, которую он велел ей разрезать незадолго до того события; поэтому, недолго мешкая, он подошел к Джьякомино, еще находившемуся там, и попросил его повести его в свой дом и дать ему поглядеть на ту девушку. Джьякомино охотно повел его и велел девушке выйти к нему. Когда Бернабуччио увидал ее, ему показалось, что он видит перед собой лицо ее матери, еще красивой женщины; не ограничиваясь этим, он попросил Джьякомино дозволить ему приподнять немного волосы над левым ухом, на что Джьякомино согласился. Подойдя к девушке, которая стояла застыдившись, приподняв правой рукой волосы, он увидал крест; поэтому, вполне уверившись, что это – его дочь, он пролил слезы радости, стал обнимать ее, хотя она и противилась тому, и, обратившись к Джьякомино, сказал: «Это, братец, дочь моя; мой дом разграблен был Гвидотто, а ее в внезапном страхе моя жена, а ее мать, забыла, и до сих пор мы думали, что она сгорела в дому, который сожгли в тот же день». Когда девушка услышала это и увидела, что то человек престарелый, поверила его словам и, движимая тайной силой, не противилась его объятиям и вместе с ним также принялась нежно плакать; Бернабуччио тотчас послал за ее матерью, другими родственницами, сестрами и братьями и показал ее всем и, рассказав дело, после тысячи объятий и в большом торжестве, к полному удовольствию Джьякомино, повел ее в свой дом. Как услышал о том начальник города, человек достойный, зная, что Джьянноле, которого он держал в тюрьме, сын Бернабуччио и родной брат девушки, решил милостиво отнестись к совершенному им проступку; по соглашению в этом деле с Бернабуччио и Джьякомино, он устроил так, что Джьянноле и Мингино простили, а за Мингино выдал, к общему удовольствию его родных, девушку, имя которой было Агнеса; вместе с тем освободил и Кривелло и других, попавшихся в этом деле. Затем Мингино на радостях сыграл знатную, блестящую свадьбу и, введя Агнесу в свой дом, долгие годы после того пребывал с нею в мире и благоденствии.
Новелла шестая
Джьянни из Прочиды захвачен с любимой им девушкой, которая отдана была королю Федериго; вместе с ней привязан к колу, чтобы быть сожженным; узнанный Руджьери делль Ориа, освобожден им и женится на девушке
По окончании новеллы Неифилы, очень понравившейся всем дамам, королева приказала Пампинее приготовиться рассказать что-нибудь; и она, подняв ясное личико, тотчас же начала: – Прелестные дамы, велики силы любви, располагающие любящих к трудным подвигам, перенесению чрезвычайных, негаданных опасностей, как то можно представить себе из многого, рассказанного как сегодня, так и в другие разы; тем не менее мне приятно доказать это еще раз повестью об одном влюбленном юноше.
На Искии, острове, очень близко лежащем от Неаполя, жила в числе прочих девушка, красивая и развеселая, – звали ее Реститута, – дочь одного именитого человека того острова, по имени Марино Болгаро, которую любил паче своей жизни юноша соседнего с Искией острова, называемого Прочидой, по имени Джьянни, а она любила его. Не только днем он приезжал с Прочиды на Искию провести время и поглядеть на милую, но много раз и ночью, не найдя лодки, переплывал с Прочиды на Искию, посмотреть если не на что другое, то по крайней мере на стены ее дома.
Когда их любовь была в таком разгаре, случилось однажды летом, что девушка была одна-одинешенька на берегу и, бродя от одного утеса к другому и ножом отрывая морские ракушки от каменьев, дошла до одного места, окруженного скалами, где ввиду тени и удобства находившегося там источника с студеной водой, приютилось вместе с своим судном несколько молодых сицильянцев, шедших из Неаполя. Найдя девушку, которая еще не приметила их, очень красивой и видя, что она совсем одна, они решили промеж себя схватить ее и увезти; за решением последовало исполнение. Несмотря на то, что девушка кричала громко, они взяли ее, посадили на судно и уехали; добравшись до Калабрии, стали совещаться, кому из них она будет принадлежать, и вскоре оказалось, что каждый из них хотел завладеть ею; вследствие чего, не согласившись между собою, боясь дойти до худшего и из-за нее испортить свои отношения, они сошлись на том, чтобы отдать ее Федериго, королю Сицилии, который в то время был молод и любил такого рода дела; приехав в Палермо, они так и поступили. Король нашел ее красивой, и она ему понравилась, а так как он был несколько слабого здоровья, то и приказал поместить ее в великолепных зданиях, находившихся в его саду, что назывался Кубой, и там ухаживать за ней до той поры, пока он сам окрепнет; что и было исполнено.
Похищение девушки вызвало на Искии сильное волнение; особенно тяготило всех то, что не могли дознаться, кто были люди, ее похитившие. Но Джьянни, которому это было ближе, чем кому-либо другому, не дожидая вестей в Искию и зная, в какую сторону ушел корабль, снарядил свой, сел в него и как мог скорее проехал вдоль берега от Минервы до Скалеи в Калабрии, повсюду наводя справки о девушке; в Скалее ему сказали, что она увезена в Палермо сицильянскими моряками. Туда-то Джьянни и велел себя везти с возможной поспешностью и здесь после долгих поисков, узнав, что девушка была отдана королю и охранялась им в Кубе, страшно опечалился и почти потерял всякую надежду не только заполучить ее когда-либо, но даже и увидеть. Тем не менее, удержанный любовью, он отпустил корабль и, видя, что никто там его не знает, остался; часто приходя в Кубу, он однажды узрел ее случайно у окна, а она узрела его, чему каждый очень обрадовался. Заметив, что место пустынное, Джьянни приблизился, насколько было возможно, заговорил с ней и, наученный ею, как взяться за дело, если б он пожелал поговорить с ней поближе, ушел, наперед подробно осмотрев расположение местности; дождавшись ночи и пропустив добрую часть ее, он снова вернулся туда и, цепляясь по местам, на которых не могли бы удержаться и дятлы, вошел в сад, нашел там рей, приставил его к указанному девушкой окну и очень легко взобрался по нему. Девушка, уже считавшая потерянной свою честь, оберегая которую она прежде несколько его дичилась, размыслила, что никому более достойному, чем он, она не может отдаться, и, рассчитав, что она может побудить его увезти ее, решила про себя удовлетворить все его желания и потому оставила окно отпертым, дабы он мог быстро пролезть в него. Найдя окно отворенным, Джьянни тихо вошел в него и прилег к девушке, которая не спала, а та, прежде чем заняться чем-либо иным, открыла ему все свои намерения, усердно прося его извлечь ее отсюда и увезти. На что Джьянни ответил, что ничто ему так не по сердцу, как это, и что лишь только он расстанется с нею, непременно все так устроит, чтобы увезти ее в первый же раз, как вернется сюда. После этого, обнявшись, с величайшим удовольствием они вкусили того наслаждения, выше которого любовь не может доставить, и, повторив его несколько раз, уснули незаметно для себя в объятиях друг у друга.
Король, которому девушка с первого взгляда очень понравилась, вспомнил о ней и, чувствуя себя здоровым, решился пойти и пробыть с нею, несмотря на то, что был уже почти день, и с некоторыми из своих слуг тайно направился в Кубу; вступив в дом, он велел тихонько отворить комнату, где, как он знал, спала девушка, и вошел туда, предшествуемый большим зажженным факелом; бросив взгляд на постель, он увидал ее и Джьянни, спавших вместе, совершенно обнаженных и обнявшихся, отчего внезапно он страшно рассердился и, не промолвив ни слова, вошел в такой гнев, что едва удержался, чтобы не убить обоих бывшим при нем ножом. Потом, вспомнив, что было бы делом недостойнейшим какого бы то ни было человека, не только что короля, убить во сне двух обнаженных, удержал себя и замыслил предать их смерти при народе и на костре; обратившись к единственному спутнику, который был при нем, он сказал: «Что думаешь ты об этой преступной женщине, на которую я возлагал мои надежды?» Затем он спросил, знает ли он того юношу, у которого хватило дерзости явиться к нему в дом и учинить ему такое оскорбление и досаду? Тот, кого спрашивали, ответил, что не помнит, чтобы когда-либо видел его. Так рассерженный король и вышел из комнаты, приказав, чтобы любовники, как есть нагие, были взяты и связаны и среди бела дня отведены в Палермо и на площади привязаны к колу, спиной к спине, и оставались бы так до третьего часа, дабы все могли их видеть, а затем были бы сожжены, как того и заслужили; так сказав, он вернулся в Палермо в свой покой, сильно разгневанный.
Лишь только ушел король, тотчас же многие набросились на двух любовников и не только разбудили их, но быстро и без всякой жалости схватили их и связали; как, увидев это, молодые люди опечалились, страшась за свою жизнь, плача и сетуя – легко себе представить. По приказу короля их отвели в Палермо, привязали к колу на площади и перед их глазами приготовили костер и огонь, чтобы сжечь их в час, назначенный королем. Все палермитяне, и мужчины и женщины, тотчас же сбежались туда, чтоб увидеть обоих любовников: мужчины шли посмотреть на девушку, и как они выхваляли ее совершенную красоту и сложение, так с своей стороны и женщины, сбежавшиеся поглядеть на юношу, очень одобряли красоту его лица и тела. А бедные любовники, оба страшно пристыженные, стояли, опустив головы, и оплакивали свое несчастье, ожидая с часу на час жестокой смерти в огне.
Пока их держали так до назначенного часа и повсюду оповещали о совершенном ими проступке, слух о том дошел до Руджьери делль Ориа, человека отменной храбрости, бывшего тогда королевским адмиралом, и, чтобы поглядеть на них, он направился к месту, где они были привязаны; дойдя туда, он прежде посмотрел на девушку и много похвалил ее красоту; затем, обратившись к юноше, без особого труда признал его и, приблизившись к нему, спросил, не Джьянни ли он из Прочиды. Джьянни, подняв лицо и узнав адмирала, ответил: «Господин мой, я действительно был тем, о ком вы спрашиваете, но вскоре меня не станет». Адмирал спросил его тогда, что довело его до этого. На это Джьянни ответил: «Любовь и гнев короля». Адмирал велел ему рассказать все подробно и, выслушав от него, как что было, собрался уйти, когда Джьянни позвал его, сказав: «Господин мой, коли возможно, испросите мне одну милость у того, благодаря кому я здесь стою». Руджьери спросил: «Какую же?» На это Джьянни ответил: «Вижу я, что мне придется умереть, и скоро; и так как к этой девушке, которую я любил пуще своей жизни, а она меня, я обращен спиной, как и она ко мне, я прошу, как милости, чтобы нас обратили друг к другу лицами, дабы, умирая, видя ее лицо, я мог отойти утешенным». Руджьери сказал, смеясь: «Охотно, я устрою так, что ты столько еще насмотришься на нее, что она тебе надоест». Отойдя от него, он приказал тем, кому поручено было привести это дело в исполнение, не чинить без нового приказа короля ничего более того, что совершили, и, не мешкая, направился к королю, которому, хотя он и видел его разгневанным, не преминул выразить свое мнение, спросив: «Государь, чем оскорбили тебя те двое молодых людей, которых ты приказал сжечь там на площади?» Король пояснил ему. Руджьери продолжал: «Проступок, ими совершенный, заслуживает кары, но не от тебя; и как преступления вызывают наказание, так и благодеяния – вознаграждение, помимо милости и сострадания. Знаешь ли ты, кто те, кого ты хочешь сжечь?» Король ответил, что не знает. Тогда Руджьери сказал: «А я хочу, чтобы ты их узнал, дабы ты уразумел, благоразумно ли подчиняешься ты порывам своего гнева. Юноша – сын Ландольфо из Прочиды, родной брат мессера Джьянни из Прочиды, по милости которого ты стал королем и властителем этого острова; девушка – дочь Марино Болгаро, благодаря могуществу которого твое государство еще не вытеснено ныне с Искии. Кроме того, эти молодые люди уже давно любили друг друга и только движимые любовью, а не желанием нанести оскорбление твоему величию, совершили этот грех (если можно назвать грехом то, что из любви делают юноши). Почему же хочешь ты предать их смерти, тогда как ты был бы обязан почтить их величайшим благоволением и дарами?» Услышав это и убедившись в том, что Руджьери говорит правду, король не только не решился сделать что-нибудь худшее, но и раскаялся в учиненном; вследствие чего немедленно послал отвязать от кола обоих молодых людей и привести их к себе, что и было исполнено. Досконально разузнав об их обстоятельствах, он замыслил возместить нанесенную им обиду почестями и дарами. Богато нарядив их и зная их обоюдное согласие, он поженил Джьянни на молодой девушке и, сделав им великолепные подарки, отправил их довольных домой, где их приняли с великим торжеством, и они долгое время жили вместе в радости и удовольствии.
Новелла седьмая
Теодоро влюблен в Виоланту, дочь мессера Америго, своего господина; она забеременела от него, а он приговорен к виселице. Когда его ведут на казнь под ударами плетей, он узнан своим отцом и, освобожденный, берет Виоланту себе в жены
Все дамы, в страхе ожидавшие услышать, сгорят или нет оба любовника, узнав, что они спаслись, возблагодарили Бога и обрадовались, а королева, дослушав окончание новеллы, возложила обязанность следующей на Лауретту, которая весело принялась сказывать:
– Прекраснейшие дамы, в то время, когда добрый король Гвильельмо царствовал в Сицилии, жил на острове некий дворянин, по имени Америго Аббате из Трапани, который, кроме прочих благ земных, изобиловал и множеством детей. Почему, нуждаясь в слугах и пользуясь прибытием с востока галеры генуэзских корсаров, которые, идя вдоль берегов Армении, захватили много мальчиков, он, почитая их за турок, некоторых из них купил, и хотя все остальные оказались пастухами, был между ними один с виду более изящный и красивый, по имени Теодоро. Хотя с ним и обращались как с рабом, он тем не менее рос в доме мессера Америго с его детьми и, следуя больше своей природе, чем случайному положению, сделался благовоспитанным, с прекрасными манерами, и так понравился мессеру Америго, что тот дал ему свободу и, принимая его за турка, велел окрестить и назвать Пьетро, и поставил на?большим над своими делами, питая к нему большое доверие.
Как подрастали другие дети мессера Америго, так подрастала и дочь его, по имени Виоланта, красивая и изящная девушка; пока отец медлил с ее замужеством, случилось ей влюбиться в Пьетро, и хотя она любила его и высоко ценила за его нравы и поступки, тем не менее стыдилась открыться ему; но Амур отнял у нее эту заботу, ибо Пьетро, не раз осторожно поглядывавший на нее, так в нее влюбился, что, лишь глядя на нее, чувствовал себя счастливым; только он очень боялся, как бы кто-нибудь того не приметил, ибо ему казалось, что он поступает нехорошо. Девушка, с удовольствием видевшая его, заметила это и, чтобы придать ему больше смелости, показывала, что очень ему рада, как то и было на самом деле. Долго они оставались в таком положении, ничего не смея сказать друг другу, хотя каждый того сильно желал.
Пока оба одинаково горели любовным пламенем, фортуна, как бы порешив, чтобы все так и устроилось, нашла им средство изгнать боязливую застенчивость, связывавшую их. У мессера Америго в одной, может быть, миле от Трапани находилось прекрасное поместье, куда его жена с дочерью и другими женщинами и девушками часто хаживала для развлечения. Когда однажды, в большую жару, они отправились туда, взяв с собой и Пьетро, и проводили там время, случилось, как мы то нередко видим летом, что небо вдруг заволоклось темными тучами, вследствие чего дама и ее общество, боясь, как бы непогода их там не захватила, собрались в обратный путь в Трапани и пошли как можно скорее; но Пьетро и девушка, оба молодые, сильно перегнали на ходу мать и других ее спутниц, побуждаемые, быть может, не менее любовью, чем страхом непогоды. Когда они настолько опередили мать и других, что их едва было видно, случилось, что после многих раскатов грома внезапно пошел крупнейший и частый град, от которого мать со своим обществом укрылась в доме одного крестьянина. Пьетро и девушка, не найдя более близкого убежища, вошли в старую, почти развалившуюся хижину, где никто не жил, и здесь под оставшеюся еще частью крыши прижались вдвоем, и необходимость заставила их, ввиду малого крова, коснуться друг друга. Это прикосновение было причиной того, что их дух несколько ободрился к открытию любовных желаний, и Пьетро начал первый: «Дал бы Бог, чтобы никогда этот град не прекращался, если бы мне всегда быть так, как теперь». Девушка ответила: «Мне это было бы очень приятно». От этих слов они дошли до того, что взяли и пожали друг другу руки, потом обнялись, потом поцеловались; а град все шел. Чтобы не останавливаться на каждой мелочи, скажу, что погода установилась не прежде, чем они познали высшие восторги любви и не предприняли мер, чтобы втайне наслаждаться друг с другом.
Когда прекратилась непогода, они, дождавшись матери у ворот города, до которых было недалеко, вернулись с нею домой. Там они встречались много раз с предосторожностями и втайне и к великому своему утешению; дело зашло так далеко, что девушка забеременела, что крайне было неприятно тому и другому; вследствие чего они употребили много ухищрений, дабы, наперекор естественному ходу вещей, освободиться от плода, но не успели в этом. Почему Пьетро, опасаясь за свою собственную жизнь, решился бежать и сказал ей о том; она, выслушав его, ответила: «Если ты уедешь, я непременно убью себя». На что Пьетро, сильно любивший ее, сказал: «Как же хочешь ты, моя милая, чтобы я остался здесь? Твоя беременность откроет наш проступок, тебе легко простят, а мне, несчастному, придется понести кару и за твой и за мой грех». На это девушка ответила: «Пьетро, мой грех, конечно, узнается; но будь уверен, что твой, коли ты сам не скажешь, никогда не будет узнан». Тогда Пьетро сказал: «Так как ты мне это обещаешь, я останусь, но постарайся сдержать обещание».
Девушка, скрывавшая, насколько было возможно, свою беременность, видя, что, вследствие увеличившихся размеров тела, нельзя более таить ее, однажды вся в слезах созналась своей матери, умоляя спасти ее. Мать, опечаленная чрезвычайно, осыпала ее страшной бранью и пожелала узнать, как было дело. Девушка, боясь, как бы Пьетро не учинили чего-нибудь худого, скрыла истину под другими образами и, сочинив басню, рассказала все по-своему. Мать поверила ей и, дабы скрыть недостаток дочери, отправила ее в одно из своих поместий. Когда наступило там время родов и девушка кричала, как то делают другие женщины, а мать ее не предполагала, чтобы Америго, почти никогда там не бывший, явился туда, случилось, что, возвращаясь с охоты на птиц и проходя мимо комнаты, где голосила девушка, он, изумленный этим, внезапно вошел и спросил, что случилось. Мать, увидев вошедшего мужа, встала опечаленная и рассказала ему, что приключилось с дочерью, но он, менее доверчивый, чем оказалась жена, объявил, что неправда, будто она не знает, от кого забеременела, и потому он желает узнать это досконально; поведав о том, она может получить прощение, коли нет, пусть помыслит о смерти без всякого снисхождения с его стороны. Жена старалась, насколько могла, чтобы муж удовольствовался тем, что она сказала; но все было напрасно. Войдя в бешенство, с обнаженной шпагой в руке, он бросился на дочь, которая, пока мать уговаривала отца, родила сына, и сказал: «Или ты объявишь, от кого произвела ребенка, или умрешь немедленно». Девушка, боясь смерти, нарушила обещание, данное Пьетро, и призналась во всем, что произошло между им и ею. Услыхав это и страшно разъярясь, рыцарь едва удержался, чтобы не убить ее, но затем, излив ей все, подсказанное ему гневом, сел на коня, поехал в Трапани и, заявив некоему мессеру Куррадо, бывшему там начальником за короля, об обиде, нанесенной ему Пьетро, велел тотчас же схватить его, ничего не подозревавшего; подверженный пытке, он сознался во всем совершенном.
Когда спустя несколько дней начальник приговорил его высечь, водя по городу, и потом повесить, для того, чтобы в один и тот же час исчезли с лица земли оба любовника и их сын, мессер Америго, у которого гнев не прошел даже после того, как он довел Пьетро до смерти, положил яду в чашу с вином и, отдав ее одному из своих прислужников вместе с ножом наголо, сказал: «Пойди с этими двумя вещами к Виоланте и передай ей от меня, чтобы она скорее выбрала какую угодно из двух смертей – или от яда, или от ножа; коли нет, я в присутствии сколько ни на есть граждан велю ее сжечь, как она того и заслужила; сделав это, возьми сына, рожденного ею несколько дней тому назад, и, раздробив ему голову об стену, брось на съедение собакам». Когда суровый отец произнес этот жестокий приговор дочери и внуку, прислужник ушел, более настроенный к худу, чем к добру.
Осужденному Пьетро, которого стража повела на виселицу под ударами, пришлось идти, как то заблагорассудилось начальникам отряда, мимо одной гостиницы, где находились трое именитых людей из Армении, посланных армянским королем в Рим для переговоров с папой о важных делах, касавшихся предстоящего крестового похода; они остановились там, чтобы освежиться и отдохнуть несколько дней, и были приняты с большим почетом именитыми людьми Трапани, преимущественно мессером Америго. Услышав, как проходили те, что вели Пьетро, они подошли к окну поглядеть. Пьетро был совершенно обнажен до пояса, с связанными назад руками; как взглянул на него один из трех послов, человек старый и с большим весом, по имени Финео, увидел у него на груди большое красное пятно, не накрашенное, но естественно посаженное на коже, вроде тех, что женщины обыкновенно называют родимым пятном. Лишь только он увидел его, ему внезапно пришел на память его сын, который пятнадцать лет тому назад был похищен у него корсарами на берегу Лаяццо и о котором он с тех пор не имел известий; принимая во внимание возраст бедняка, которого стегали, он сообразил, что если бы жив был его сын, ему было бы столько же лет, сколько, казалось, было этому, и он начал подозревать по тому знаку, не он ли это, и у него явилась мысль, что если это он, то еще должен помнить и свое имя, и имя отца, и армянский язык. Вот почему, когда тот приблизился, он позвал его: «Эй, Теодоро!» Услышав этот голос, Пьетро быстро поднял голову, на что Финео сказал, говоря по-армянски: «Откуда ты и чей сын?» Служилые люди, которые вели его, из уважения к почтенному человеку остановились, так что Пьетро мог ответить: «Я – из Армении, сын одного человека, по имени Финео, и привезен сюда маленьким мальчиком, какими людьми, не знаю». Услышав это, Финео признал в нем, без всякого сомнения, сына, которого утратил, почему в слезах он спустился вниз с двоими товарищами, побежал обнять его среди стражи и, набросив на него плащ из дорогой ткани, бывший на нем, попросил того, кто вел его на казнь, чтобы он согласился подождать, пока ему не придет приказ повести его далее. Тот ответил, что подождет охотно. Финео уже знал причину, вследствие которой вели казнить того юношу, так как молва разнесла ее повсюду; вот почему он тотчас же отправился с своими товарищами и их слугами к мессеру Куррадо и сказал ему так: «Мессер, тот, кого вы посылаете на смерть, как раба, человек свободный и мой сын, и готов взять в жены ту, которую, говорят, он лишил девственности. Потому не благоугодно ли вам будет приостановить исполнение приговора до тех пор, пока можно будет доведаться, хочет ли она его себе в мужья, дабы на случай, если б она того пожелала, вы не поставили себя в положение нарушителя закона».
Мессер Куррадо, узнав, что то сын Финео, изумился и ощутил некоторый стыд за ошибку, в которую ввела его судьба; убедясь, что Финео говорил правду, он попросил его тотчас же вернуться домой, послал за мессером Америго и все ему рассказал. Мессер Америго, считавший и дочь и внука уже убитыми, был паче всякого другого на свете опечален совершенным им, сознавая, что, не будь она убита, все могло бы быть исправлено к лучшему; тем не менее он немедленно послал сказать туда, где находилась его дочь, на случай если бы приказ его еще не был исполнен, чтобы его и не приводили в исполнение. Тот, кого отправили, увидел, как прислужник, посланный мессером Америго, поставив перед девушкой кинжал и яд, бранил ее, потому что она не решалась на быстрый выбор, и готовился принудить ее избрать одно из двух. Услышав приказ своего господина, он оставил ее в покое, вернулся к нему и рассказал, как обстояло дело. Обрадованный этим, мессер Америго отправился туда, где был Финео, и, чуть не плача, насколько сумел лучше повинился в случившемся и, прося его прощения, заявил, что в случае, если бы Теодоро пожелал взять его дочь в жены, он был бы рад отдать ее ему. Финео охотно принял извинения и отвечал: «И я желаю, чтобы мой сын взял за себя вашу дочь; а если он не пожелает, то пусть исполнится произнесенный над ним приговор».
Так согласившись между собою, Финео и Америго спросили у Теодоро, еще не опомнившегося от страха смерти и радости, что нашел отца, каково его желание в этом деле.
Услыхав, что, если он пожелает, Виоланта станет его женой, Теодоро пришел в такую радость, будто из ада прыгнул прямо в рай, и сказал, что это будет ему величайшая милость, если каждому из них это по сердцу. Тогда послали к молодой женщине узнать об ее желании; услышав, что приключилось и еще имеет приключиться с Теодоро, она, дотоле печальная, как никто, в чаянии смерти, по долгом времени несколько поверив тем речам, немного развеселилась и отвечала, что, если б она могла следовать своему желанию, ничто не было бы для нее так радостно, как стать женою Теодоро, но что во всяком случае она поступит так, как прикажет отец.
Таким-то образом, с общего согласия, выдав за него Виоланту, устроили великое празднество к большому удовольствию всех граждан. Молодая женщина утешилась, отдала кормить своего маленького сына и через некоторое время стала красивее, чем когда-либо. Когда, встав после родов, она предстала перед Финео, возвращения которого из Рима тогда ожидали, она почтила его как отца, а он, довольный такой красавицей снохой, с большим торжеством и весельем отпраздновал их свадьбу, принял ее как дочь и всегда относился к ней как к таковой. Спустя несколько дней, сев на галеру с своим сыном, с нею и маленьким внуком, он повез их с собою в Лаяццо, где оба любящие прожили всю свою жизнь в спокойствии и мире.
Новелла восьмая
Настаджио дельи Онести, влюбленный в девушку из семейства Траверсари, расточает свои богатства, не получая взаимности. По просьбе своих, он едет в Кьясси и здесь видит, как один всадник преследует девушку, убивает ее и два пса ее пожирают. Он приглашает своих родных и свою милую на обед; она видит, как терзают ту же девушку, и, опасаясь подобной же участи, выходит замуж за Настаджио
Когда Лауретта замолкла, Филомена так начала по приказанию королевы: – Любезные дамы, как в нас восхваляют сострадательность, так божественное правосудие строго мстит нам за жестокость. Дабы доказать это вам и тем дать вам повод окончательно изгнать ее из себя, я хочу рассказать вам новеллу не менее трогательную, чем занимательную.
В Равенне, стариннейшем городе Романьи, было когда-то много родовитых и именитых людей, и между ними один юноша, по имени Настаджио дельи Онести, оставшийся по смерти отца и одного дяди безмерно богатым человеком. Как то часто бывает с юношами, он, не будучи женатым, влюбился в дочь мессера Паоло Траверсари, девушку еще более родовитую, чем он сам, надеясь своими деяниями побудить ее полюбить его; но как они ни были велики, прекрасны и похвальны, они не только не помогали ему, но, казалось, даже вредили, – столь суровой, жестокой и неприветливой оказывалась по отношению к нему любимая девушка, ставшая, быть может, по причине своей необычайной красоты и родовитости, до того гордой и надменной, что и он сам не нравился ей и ничто, что нравилось ему. Настаджио это было в такую тягость, что часто с горя после жалоб у него являлось желание покончить с собой, но, сдержав себя, он много раз решался в душе совсем оставить ее, и коли сможет, то возненавидеть, как она ненавидела его, но намерения его были напрасны, потому что, казалось, по мере того, как умалялась надежда, умножалась его любовь.
И вот, когда молодой человек продолжал таким образом любить и расточать без меры, некоторым из его друзей и родственников показалось, что он одинаково расстроит и свое здоровье и свое состояние; вследствие чего они много раз просили его, советуя удалиться из Равенны и поехать пожить некоторое время в каком-либо другом месте, ибо если он так поступит, умалятся и любовь и трата. Над этим советом Настаджио часто насмехался, но, наконец, упрошенный ими и не будучи в состоянии им отказать, сказал, что исполнит; велев сделать большие приготовления, точно в намерении отправиться во Францию или Испанию или иное отдаленное место, он сел на коня и, в сопровождении многих друзей выехав из Равенны, направился в одно место, может быть, милях в трех за Равенной, которое называется Кьясси, и здесь, приказав доставить палатки и шатры, сказал тем, что сопровождали его, что желает тут остаться, а они пусть вернутся в Равенну. Расположившись тут, Настаджио принялся вести самую веселую и роскошную жизнь, какую только можно себе представить, приглашая того и другого к ужину и к обеду, как то было у него в обычае.
Случилось, почти в самом начале мая, в превосходную погоду, что ему вспомнилась его жестокая дама; приказав всем своим домашним оставить его одного, дабы ему можно было помечтать о ней в свое удовольствие, погруженный в мысли, идя, куда несли ноги, он один добрался до соснового леса. Уже почти миновал пятый час дня, и он прошел с полмили в лесу, не вспомнив ни о пище, ни о чем другом, как вдруг ему показалось, что он слышит страшный плач и резкие вопли, испускаемые женщиной; его сладкие мечты были прерваны, и, подняв голову, чтобы узнать, в чем дело, он изумился, усмотрев себя в сосняке; затем, взглянув вперед, увидел бежавшую к месту, где он стоял, через рощу, густо заросшую кустарником и тернием, восхитительную обнаженную девушку с растрепанными волосами, исцарапанную ветвями и колючками, плакавшую и громко просившую о пощаде. Помимо этого, он увидел по сторонам ее двух громадных диких псов, быстро за ней бежавших и часто и жестоко кусавших ее, когда они ее настигали, а за нею на вороном коне показался темный всадник, с лицом сильно разгневанным, со шпагой в руке, страшными и бранными словами грозивший ей смертью. Все это в одно и то же время наполнило его душу изумлением и испугом и, наконец, состраданием к несчастной женщине, из чего родилось желание спасти ее, если то возможно, от такой муки и смерти. Видя себя безоружным, он бросился, чтобы схватить ветвь от дерева вместо палки, и пошел навстречу собакам и всаднику. Но тот, увидя это, закричал ему издали: «Не мешайся, Настаджио, дай псам и мне исполнить то, что заслужила эта негодная женщина». Пока он говорил это, собаки, крепко схватив девушку за бока, удержали ее, а подоспевший всадник слез с лошади. Настаджио, приблизившись к нему, сказал: «Я не знаю, кто ты, так хорошо знающий меня, но все же скажу тебе, что велика низость вооруженного рыцаря, намеревающегося убить обнаженную женщину и напустить на нее собак, точно она – дикий зверь; я во всяком случае стану защищать ее насколько смогу». Тогда всадник сказал: «Настаджио, я родом из того же города, что и ты, и ты был еще маленьким мальчиком, когда я, которого тогда звали Гвидо дельи Анастаджи, был гораздо сильнее влюблен в ту женщину, чем ты в Траверсари, и от ее надменности и жестокости до того дошло мое горе, что однажды этой самой шпагой, которую ты видишь в моей руке, я, отчаявшись, убил себя и осужден на вечные муки. Немного прошло времени, как эта женщина, безмерно радовавшаяся моей смерти, скончалась и за грех своего жестокосердия и за радость, какую она ощутила от моих страданий, не раскаявшись в том, ибо считала, что не только тем не погрешила, но и поступила как следует, осуждена была на адские муки. И как только она была ввержена туда, так мне и ей положили наказание: ей бежать от меня, а мне, когда-то столь ее любившему, преследовать ее, как смертельного врага, не как любимую женщину; и сколько раз я настигаю ее, столько же раз этой шпагой, которой я убил себя, убиваю ее, вскрываю ей спину, а это сердце, жестокое и холодное, куда ни любовь, ни сострадание никогда не в состоянии были проникнуть, вырываю, как ты тотчас увидишь, из тела со всеми другими внутренностями и бросаю на пожрание собакам. И не много проходит времени, как она, по решению Господнего правосудия и могущества, воскресает, как бы не умирала вовсе, и снова начинается мучительное бегство, а собаки и я преследуем ее. И так бывает каждую пятницу, в этот час, что я нагоняю ее здесь и здесь же, как ты увидишь, предаю ее терзаниям; в другие же дни, не думай, что мы отдыхаем; я настигаю ее в других местах, где она жестоко помыслила или содеяла мне жестокое: превратясь, как видишь, из любовника во врага, и принужден таким образом преследовать ее столько лет, сколько месяцев она была жестока со мной. Итак, дай мне исполнить решение Божественного правосудия и не противься тому, чему ты не в состоянии был бы помешать». Услыхав эти речи, Настаджио сробел, и не было у него волоска на теле, который не поднялся бы дыбом; он отошел назад и, глядя на несчастную девушку, стал в страхе ожидать, что станет делать рыцарь; а тот, закончив свою речь, набросился, словно бешеная собака, со шпагой в руке, на девушку, которая на коленях, крепко удерживаемая собаками, молила его о пощаде; изо всех сил ударил ее посреди груди и пронзил насквозь. Лишь только девушка приняла этот удар, упала ничком, все так же плача и крича, а рыцарь, выхватив нож, вскрыл ей чресла и, вынув сердце и все, что было вокруг, бросил собакам, которые, страшно голодные, все это тотчас же пожрали. Прошло не много времени, как девушка, точно ничего такого не случилось, внезапно поднялась на ноги и бросилась бежать по направлению к морю, собаки – за ней, все время теребя ее, а мужчина, снова севший на коня и взявший свою шпагу, начал преследовать ее; вскоре они настолько отдалились, что Настаджио не мог их более видеть.
Узрев все это, он долго пребывал между состраданием и страхом, но вскоре ему пришло в голову, что этот случай может сослужить ему большую службу, так как он приключался каждую пятницу. И вот, заметив место, он вернулся к своей челяди, и когда ему показалось удобным, послав за своими родственниками и друзьями, сказал им: «Вы долгое время побуждали меня отстать от моей любви к этой враждебной девушке и положить конец моему расточительству; и я готов сделать это, если вы испросите для меня одну милость; а заключается она в том, чтобы в следующую пятницу вы устроили, чтобы Паоло Траверсари с женою и дочерью и всеми их родственницами и всеми другими, кого пожелаете, прибыли сюда пообедать со мной. Почему я этого желаю, вы это тогда увидите». Тем показалось, что устроить это – дело не трудное. Вернувшись в Равенну, они, когда пришло время, пригласили тех, кого хотел Настаджио, и хотя трудно было увлечь туда девушку, любимую Настаджио, тем не менее и она поехала вместе с другими.
Настаджио приказал приготовить великолепное угощение и велел поставить столы под соснами около того места, где видел терзание жестокой женщины. Распорядившись рассадить мужчин и женщин за стол, он устроил так, что девушка, им любимая, была посажена как раз напротив того места, где должно было происходить дело. Когда подали последнее кушанье, до всех стали доноситься отчаянные крики преследуемой девушки. Когда все очень тому изумились, спрашивая, что это такое, и никто не мог того объяснить, все встали посмотреть, что бы это могло быть, и увидали сетовавшую девушку, всадника и собак. Не прошло много времени, как все они были возле них. И всадник, и собаки встречены были громким криком, и многие выскочили вперед, чтобы помочь девушке, но всадник, обратившись к ним, как обратился к Настаджио, не только заставил их попятиться назад, но и всех напугал и исполнил изумления. И когда он совершил все то, что сделал и в первый раз, все женщины (а между ними много было родственниц бедной девушки и рыцаря, еще помнивших и о его любви и о его смерти) так горько заплакали, как будто над ними самими было исполнено все виденное.
Когда все пришло к концу и удалились и девушка и всадник, все происшедшее навело тех, кто это видел, на многие и различные разговоры; но из числа наиболее напуганных была та жестокая девушка, которую любил Настаджио, все отчетливо видевшая и слышавшая; познав, что ее, более чем всех других, там бывших, это касалось, она припомнила жестокосердие, с каким всегда относилась к Настаджио, почему ей представилось, что она уже бежит перед ним, разгневанным, и собаки у ней по сторонам. И так был велик возникший от того страх, как бы и с ней не приключилось того же самого, что она не могла дождаться времени, а оно представилось ей в тот же вечер, чтобы, сменив свою ненависть на любовь, послать к Настаджио свою доверенную служанку, которая от ее имени попросила его прийти к ней, ибо она готова сделать все, что будет ему по желанию. На это Настаджио велел ответить, что это ему очень приятно, но что если она согласна, он желает совершить это честным образом, то есть жениться на ней. Девушка, знавшая, что [покуда дело лишь] за ней, не за другим, стало, если она [до сих пор] не сделалась женой Настаджио, велела ему передать, что согласна. Вследствие чего, став сама за себя ходатаем, она сказала отцу и матери, что готова стать женой Настаджио, чему те очень обрадовались, и в следующее же воскресенье Настаджио обручился и повенчался с ней, и долго жил с ней счастливо. И не одно только это благо породил тот страх, но все другие жестокосердые равеннские дамы так напугались, что с тех пор стали снисходить к желаниям мужчин гораздо более прежнего.
Новелла девятая
Федериго дельи Альбериги любит, но не любим, расточает на ухаживание все свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного, он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить; узнав об этом, она изменяет свои чувства к нему, выходит за него замуж и делает его богатым человеком
Уже смолкла Филомена, когда королева, увидев, что рассказывать более некому, за исключением Дионео в силу его льготы, весело сказала: – Теперь мне предстоит сказывать, и я, дорогие дамы, охотно исполню это в новелле, отчасти похожей на предыдущую, и не для того только, чтобы вы познали, какую силу имеет ваша красота над благородными сердцами, но дабы вы уразумели, что вам самим надлежит, где следует, быть подательницами ваших наград, не всегда предоставляя руководство судьбе, которая расточает их не благоразумно, а, как бывает в большинстве случаев, несоразмерно.