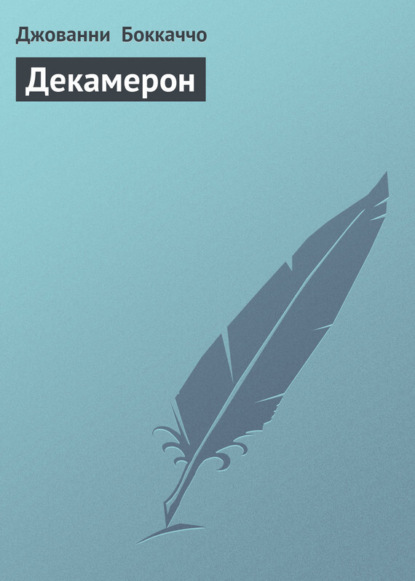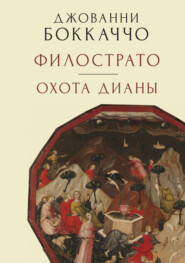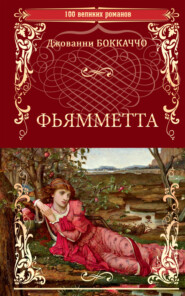По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Декамерон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Кончен третий день Декамерона и начинается четвертый, в котором, под председательством Филострато, рассуждают о тех, чья любовь имела несчастный исход
Дражайшие дамы, как по слышанным мною изречениям мудрых людей, так и по тому, что я часто видел и о чем читал, я полагал, что бурный и пожирающий вихрь зависти должен поражать лишь высокие башни и более выдающиеся вершины деревьев, но я вижу себя обманутым в моем мнении, ибо, избегая и всегда стремясь избегать дикий напор этого бешеного духа, я постоянно старался идти не то что полями, но и глубокими долинами. Это должно представиться ясным всякому, кто обратит внимание на настоящие новеллы, написанные мною не только народным флорентийским языком, в прозе и без заглавия, но и, насколько возможно, скромным и простым стилем. Несмотря на все это, тот ветер не переставал жестоко потрясать меня, почти вырывать с корнем, а зависть терзать меня своими уколами. Потому я очень ясно понимаю, что говорят мудрецы: что из всего ныне существующего одна лишь посредственность не знает зависти. Нашлись же, разумные мои дамы, люди, которые, читая эти новеллы, говорили, что вы мне слишком нравитесь и неприлично мне находить столько удовольствия в том, чтобы угождать вам и утешать вас; а другие сказали еще худшее за то, что я так вас восхваляю. Иные, показывая, что они хотят говорить более обдуманно, выразились, что в мои лета уже неприлично увлекаться такими вещами, то есть беседовать о женщинах или стараться угодить им. Многие, обнаруживая большую заботливость о моей славе, говорят, что я поступил бы умнее, если б оставался с музами на Парнасе, а не присосеживался к вам с этой болтовнею. Есть еще и такие, которые, выражаясь более презрительно, чем разумно, сказали, что я поступил бы рассудительно, если б подумал о том, откуда мне достать на хлеб, чем, увлекаясь такими глупостями, питаться ветром. А некоторые иные тщатся, в ущерб моему труду, доказать, что рассказанное мною было не так, как я сообщаю его вам. Такие-то и толикие бури, такие-то жестокие, острые зубы, обуревают, утруждают и, наконец, задевают меня за живое, пока я подвизаюсь в услужении вашем, доблестные дамы. Все это я выслушиваю и принимаю, про то ведает Бог, с веселым духом, и хотя вам достоит в этом защищать меня, я тем не менее не хочу щадить своих сил, напротив того, не отвечая, как бы то следовало, я желаю небольшим ответом устранить все это от моего слуха и делаю это без промедления. Ибо, если теперь уже, когда я еще не дошел до трети моего труда, тех людей много и они много берут на себя, я предполагаю, что прежде, чем я доберусь до конца, они могут настолько умножиться, что, не получив наперед никакого отпора, с небольшим трудом низвергнут меня, и как бы ни были велики ваши силы, они не в состоянии будут противостать тому. Но прежде, чем мне ответить кое-кому, я хочу рассказать в мою защиту не целую новеллу, дабы не показалось, что я желаю примешать мои новеллы к рассказам столь почтенного общества, какое я вам представил, а отрывок новеллы, дабы ее недостаток сам по себе доказал, что она не из тех, и, обратясь к моим противникам, скажу:
– В нашем городе, давно-таки тому назад жил гражданин, по имени Филиппе Бальдуччи, очень невысокого происхождения, но богатый, хорошо воспитанный и опытный в делах, какие требовались в его положении; у него была жена, которую он очень любил, как и она его; ведя покойную жизнь, они ни о чем так не заботились, как угодить всецело друг другу. Случилось, как случается со всеми, что добрая женщина покинула этот свет и не оставила Филиппе ничего, кроме одного рожденного от него сына, которому было, быть может, год-два. По смерти своей жены Филиппе остался столь неутешным, как остался бы всякий другой, потеряв, что любил. Очутившись одиноким, лишенный общества, которое было ему всего милее, он не захотел пребывать более в мире, а решился отдаться служению Богу и так же поступить и с своим сыном. Вследствие этого, раздав все свое имущество во имя Божие, он тотчас же ушел на гору Азинайо, поместился здесь в одной келейке с своим сыном и, живя с ним от милостыни и в молитвах, особенно остерегался говорить в его присутствии о каком бы то ни было мирском деле, ни показывать ему что-либо подобное, дабы это не отвлекало его от такого служения; напротив, он всегда беседовал с ним о славе вечной жизни, о Боге и святых, ничему иному не обучая его, как только молитвам; в такой жизни он продержал его много лет, никогда не выпуская его из кельи и никого не давая ему видеть, кроме себя.
У того достойного человека было обыкновение приезжать иногда во Флоренцию, откуда, получив, согласно с своими нуждами, необходимую для них помощь друзей Божиих, он возвращался в свою келью. Случилось, что, когда юноше было уже восемнадцать лет и Филиппе состарился, тот спросил его однажды, куда он отправляется. Филиппе сказал ему. На это парень заметил: «Батюшка, вы уже стары и плохо выносите усталость, почему не поведете вы меня когда-нибудь во Флоренцию и не познакомите с преданными друзьями Бога и вашими для того, чтобы я, как человек юный и могущий лучше, чем вы, работать, мог впоследствии ходить по нашим надобностям во Флоренцию, когда вам угодно, а вы будете оставаться дома?» Почтенный человек, рассчитав, что сын его уже взрослый и так привычен к служению Богу, что мирские дела едва ли могут привлечь его, сказал сам себе: «Ведь он ладно говорит!» Вследствие этого, когда ему пришлось идти туда, он повел его с собою. Здесь, когда юноша увидел дворцы, дома, церкви и все другое, чем полон город и чего он, насколько хватало памяти, никогда не видел, он стал сильно дивиться и о многом спрашивать отца, что это такое и как зовется. Отец сказывал ему о том: он, выслушав, был доволен и спрашивал о другом. Пока таким образом сын спрашивал, а отец отвечал, случилось им встретить толпу красивых и разодетых женщин, возвращавшихся со свадьбы; как увидел их парень, так и спросил отца: «Что это такое?» На это отец сказал: «Сын мой, опусти долу глаза, не гляди на них, ибо это вещь худая». Тогда сын спросил: «А как их звать?» Отец, дабы не возбудить в чувственных вожделениях юноши какой-нибудь плотской склонности и желания, не захотел назвать их настоящим именем, то есть женщинами, а сказал: «Их звать гусынями». И вот что дивно послушать: сын, никогда дотоле не видевший ни одной женщины, не заботясь ни о дворцах, ни о быке или лошади и осле, либо о деньгах и другом, что видел, тотчас сказал: «Отец мой, прошу вас, устройте так, чтобы нам получить одну из этих гусынь». – «Ахти, сын мой, – говорит отец, – замолчи: это вещи худые». – «Разве худые вещи таковы с виду?» – спросил юноша. «Да», – ответил отец. Тогда он сказал: «Не знаю, что вы такое говорите и почему эти вещи худые; что до меня, мне кажется, я ничего еще не видел столь красивого и приятного, как они. Они красивее, чем намалеванные ангелы, которых вы мне несколько раз показывали. Пожалуйста, коли вы любите меня, дайте поведем с собой туда наверх одну из этих гусынь, я стану ее кормить». Отец сказал: «Я этого не желаю, ты не знаешь, чем их и кормить», – и он тут же почувствовал, что природа сильнее его разума, и раскаялся, что повел его во Флоренцию.
Но довольно до сих пор рассказанного из этой новеллы, и мне желательно обратиться к тем, для кого я ее рассказал. Итак, некоторые из моих хулителей говорят, что я дурно делаю, о юные дамы, слишком стараясь понравиться вам, и что вы слишком нравитесь мне. В этом я открыто сознаюсь, то есть, что вы мне нравитесь, а я стараюсь понравиться вам; я и спрашиваю их, соображая, что они не только познали любовные поцелуи и утеху объятий, и наслаждение брачных соединений, которые вы нередко им доставляете, прелестные дамы, но и хотя бы и то одно, что они видели и постоянно видят изящные нравы и привлекательную красоту и прелестную миловидность и сверх всего вашу женственную скромность; спрашиваю, чему тут удивляться, когда человек, вскормленный, воспитанный, выросший на дикой и уединенной горе, в стенах небольшой кельи, без всякого другого общества, кроме отца, лишь только вы показались ему, одних вас вожделел, одних пожелал, к одним возымел склонность? Станут ли они упрекать меня, глумиться надо мною, поносить меня за то, что я, тело которого небо устроило всецело расположенным любить вас, чья душа с юности направлена к вам, познав силу ваших взоров, нежность медоточивых речей и горячее пламя сострадательных вздохов, – увлекаюсь вами или стараюсь вам нравиться, особенно если сообразить, что вы одни паче всего другого понравились молодому отшельнику, юноше безо всякого понятия, скорее – дикому зверю? Поистине лишь тот, кто не любит вас и не желает быть вами любимым, лишь человек не чувствующий и не знающий удовольствия и силы природной склонности – так порицает меня, и мне до него мало дела.
Те, что издеваются над моими годами, показывают, что не знают, почему у порея головка бывает уже белая, когда стебель остается еще зеленым. Таким людям я, оставив в стороне шутки, отвечу, что я никогда не вменю себе в стыд до конца жизни стараться угодить тем, угождать которым считали за честь и удовольствие Гвидо Кавальканти и Данте Алигьери, уже старые, и мессер Чино из Пистойи, уже дряхлый. И если бы не та причина, что пришлось бы оставить принятый мною способ изложения, я привел бы исторические свидетельства и показал бы, что они полны древних и доблестных мужей, ревностно тщившихся уже в зрелых годах угождать женщинам; коли они того не знают, пусть пойдут и поучатся.
Что мне следовало бы пребывать с музами на Парнасе – это, я утверждаю, совет хороший, но ни мы не можем постоянно быть с музами, ни они с нами, и если случится кому с ними расстаться, то находить удовольствие в том, что на них похоже, не заслуживает порицания. Музы – женщины, и хотя женщины и не стоят того, чего стоят музы, тем не менее на первый взгляд они похожи на них, так что, если в чем другом они не нравились бы мне, должны были бы понравиться этим. Не говоря уже о том, что женщины были мне поводом сочинить тысячу стихов, тогда как музы никогда не дали мне повода и для одного. Правда, они хорошо помогали мне, показав, как сочинить эту тысячу, и, может быть, и для написания этих рассказов, хотя и скромнейших, они несколько раз являлись, чтобы побыть со мною, может быть, в угоду и честь того сходства, какое с ними имеют женщины; почему, сочиняя эти рассказы, я не удаляюсь ни от Парнаса, ни от муз, как, может быть, думают многие.
Но что сказать о тех, столь соболезнующих о моей славе, которые советуют мне озаботиться снисканием хлеба? Право, не знаю; полагаю только, сообразив, какой был бы их ответ, если бы по нужде я попросил у них хлеба, что они сказали бы: «Пойди поищи, не найдешь ли его в баснях!» А между тем поэты находили его в своих баснях более, чем иные богачи в своих сокровищах. Многие из них, занимаясь своими баснями, прославили свой век, тогда как, наоборот, многие, искавшие хлеба более, чем им было надобно, горестно погибли. Но к чему говорить более? Пусть эти люди прогонят меня, когда я попрошу у них хлеба: только, слава Богу, пока у меня нет в том нужды, а если бы нужда и наступила, я умею, по учению апостола, выносить и изобилие и нужду; потому никто да не печется обо мне более меня самого.
Те же, которые говорят, что все рассказанное не так было, доставили бы мне большое удовольствие, представив подлинные рассказы, и если б они разногласили с тем, что я пишу, я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться; но пока ничто не предъявляется, кроме слов, я оставляю их при их мнении и буду следовать своему, говоря о них, что они говорят обо мне.
Полагая, что на этот раз я ответил довольно, я заявляю, что, вооружившись помощью Бога и вашей, милейшие дамы, на которых я возлагаю надежды, и еще хорошим терпением, я пойду с ним вперед, обратив тыл к ветру, и пусть себе дует; ибо я не вижу, что другое может со мной произойти, как не то, что бывает с мелкой пылью при сильном ветре, который либо не поднимает ее с земли, либо, подняв, несет в высоту, часто над головами людей, над венцами королей и императоров, а иногда и оставляет на высоких дворцах и возвышенных башнях; если она упадет с них, то ниже того места, с которого была поднята, упасть не может. И если когда-либо я был расположен изо всех моих сил угодить вам в чем-нибудь, теперь я расположен к тому более, чем когда-либо, ибо знаю, что никто не может иметь основания сказать иное, как только то, что как другие, так и я, любящий вас, поступаем согласно с природой. А чтобы противиться ее законам, на это надо слишком много сил, и часто они действуют не только напрасно, но и к величайшему вреду силящегося. Таких сил, сознаюсь, у меня нет, и я не желаю обладать ими для этой цели; да если б они и были у меня, я скорее ссудил бы ими других, чем употребил бы для себя. Потому да умолкнут хулители, и если не в состоянии воспылать, пусть живут, замерзнув и оставаясь при своих удовольствиях или, скорее, испорченных вожделениях, пусть оставят меня, в течение этой коротко отмеренной нам жизни, при моем. Но пора вернуться, ибо мы поблуждали довольно, прекрасные дамы, вернуться к тому, от чего мы отправились, и продолжать заведенный порядок.
Уж солнце согнало с неба все звезды, а с влажной земли ночную тень, когда Филострато, поднявшись, велел подняться и всему обществу. Отправившись в прекрасный сад, они принялись здесь гулять, а с наступлением обеденной поры пообедали там же, где ужинали прошлым вечером. Отдохнув, пока солнце стояло всего выше, и встав, они обычным порядком уселись у прелестного фонтана, и Филострато приказал Фьямметте начать рассказы. Не дожидаясь дальнейшего, она игриво начала так.
Новелла первая
Танкред, принц Салернский, убивает любовника дочери и посылает ей в золотом кубке его сердце; полив его отравленной водою, она выпивает ее и умирает
– Грустную задачу дал нам сегодня для рассказов наш король, когда подумаешь, что нам, собравшимся повеселиться, предстоит повествовать о чужих слезах, о которых нельзя рассказать так, чтобы и сказывающие и слушающие не возымели к ним сострадания. Может быть, он сделал это с целью умерить несколько веселье, испытанное в прошлые дни; что бы ни побудило его, но так как мне не пристало изменять его решение, я расскажу вам об одном жалостном приключении, несчастном и достойном ваших слез.
Танкред, принц Салернский, был очень человечный и милостивый властитель (если бы только на старости своих лет не обагрил рук в крови влюбленных), и у него во всю его жизнь была одна лишь дочь, но он был бы счастливее, если б не имел ее вовсе. Он так нежно любил ее, как когда-либо дочь бывала любима отцом, и вследствие этой нежной любви, хотя она на много лет перешла брачный возраст, он, не будучи в состоянии расстаться с нею, не выдавал ее замуж; когда, наконец, он выдал ее за сына Капуанского герцога, она, пожив с ним недолго и оставшись вдовою, вернулась к отцу. Она была так красива телом и лицом, как когда-либо бывала женщина, молодая, мужественная и умная, может быть, более, чем женщине пристало. Живя при любящем отце в большой роскоши, как высокородная дама, и видя, что отец, по любви к ней, мало заботится выдать ее замуж, а ей казалось неприличным попросить его о том, она задумала тайно завести себе, коли возможно, достойного любовника. Глядя на многих мужчин, благородных и других, являвшихся к двору ее отца, как то мы часто видим при дворах, она обращала внимание на обхождение и нравы многих, и в числе прочих понравился ей один молодой слуга отца, по имени Гвискардо, человек очень низкого происхождения, но по своим качествам и нравам благороднее всякого другого; к нему, видя его часто, она тайно и страстно воспылала, все более и более находя удовольствие в его обществе. Юноша, также неглупый, заприметил в ней это и так отдался ей всем сердцем, что отвратил свои мысли почти от всего другого, кроме любви к ней.
Когда, таким образом, они тайно любили друг друга и молодая женщина ничего так не желала, как сблизиться с ним, и не хотела доверяться в этой любви кому бы то ни было, она поднялась на особую хитрость, чтобы дать ему знать о способе к тому. Она написала письмо и в нем объяснила, что ему надлежит сделать на следующий день, дабы сойтись с нею; вложив письмо в колено тростинки, она дала ее Гвискардо и сказала шутливо: «Сегодня вечером ты устроишь из этого трубочку для твоей служанки, чтобы ей раздуть огонь». Гвискардо взял тростинку и, поняв, что она дала ему ее и так сказала не без причины, вернулся с нею домой; осмотрев тростинку, раскрыл ее по найденной трещине, нашел внутри ее письмо, прочел его и, хорошо уяснив себе, что ему надлежало делать, обрадовался, как никто другой, и стал готовиться, чтобы пойти к своей даме указанным ею способом.
Рядом с дворцом принца находилась вырытая в горе пещера, устроенная давно тому назад, и в эту пещеру проникало немного света через отверстие, искусственно сделанное в горе, и так как пещера была заброшена, почти закрыта поросшим вокруг тернием и травою, в эту пещеру можно было проникнуть по потаенной лестнице из одной комнаты нижнего этажа дворца, занятой дамою, хотя вход туда был заперт крепкой дверью. Эта лестница настолько вышла у всех из памяти, с давнишних времен не будучи в употреблении, что не было почти никого, кто бы помнил, где она; но Амур, для взоров которого нет ничего столь потаенного, что бы до них не доходило, обновил ее в памяти влюбленной женщины. Дабы никто о том не догадался, она многие дни работала орудиями, какие у ней были, прежде чем ей удалось отворить дверь; открыв ее и одна спустившись в пещеру, она увидела отверстие и послала сказать Гвискардо, чтобы он постарался проникнуть через него; она обозначила ему и расстояние, какое могло отделять его от земли. Чтобы устроить это, Гвискардо тотчас приготовил себе веревку с разными узлами и петлями, дабы можно было по ней спускаться и взбираться, и, одевшись в кожаное платье, которое защитило бы его от терний, не говоря никому ни слова, на следующую ночь отправился к отверстию; привязав один конец веревки к крепкому стволу, выросшему у входа, он спустился по ней в пещеру и стал поджидать даму. Она же на другой день, притворившись, что желает спать, услав своих девушек и одна запершись в своей комнате, отворив дверь, спустилась в пещеру, где нашла Гвискардо, и оба невыразимо обрадовались друг другу; вернувшись вместе в ее комнату, они с величайшим удовольствием провели здесь большую часть дня; распорядившись осмотрительно, как соблюсти свою любовь в тайне, Гвискардо вернулся в пещеру, она, заперев дверь, вышла к своим девушкам, а Гвискардо впоследствии, с наступлением ночи, взобравшись по веревке, вышел отдушиной, через которую вошел, и вернулся домой. Узнав этот путь, он несколько раз в течение времени возвращался туда, но судьба, завидуя такому продолжительному и столь великому наслаждению, грустным происшествием обратила веселье обоих любовников в печальный плач.
У Танкреда было обыкновение приходить одному в комнату дочери и затем, побывав у ней и поговорив немного, удаляться. Однажды, когда он явился туда после обеда, дама, по имени Гисмонда, была в своем саду с своими девушками; войдя в комнату, когда его никто не видел и не слышал, и не желая отвлечь ее от ее удовольствия, он, найдя окна комнаты запертыми и полог постели опущенным, сел около нее в углу на скамейку и, прислонив голову к постели и надернув на себя полог, точно с умыслом там спрятался, заснул. Когда он таким образом спал, Гисмонда, на беду велевшая в тот день прийти Гвискардо, оставив своих девушек в саду, тихо вошла в комнату и, заперев ее и не заметив, был ли там кто-нибудь, открыла дверь ожидавшему ее Гвискардо. В то время как они, отправившись, по обыкновению, на кровать, шалили и забавлялись друг с другом, случилось, что Танкред проснулся и услышал и увидел, что творили Гвискардо и его дочь; безмерно опечаленный этим, он сначала хотел накричать на них, но затем решился смолчать и остаться по возможности скрытым, дабы осторожнее и к меньшему своему стыду сделать то, что уже решил в душе. Оба любовника, пробыв, по обыкновению, долго вместе, не замечая Танкреда, поднялись с постели, когда им показалось, что пора, Гвискардо вернулся в пещеру, а она вышла из комнаты. Танкред, хотя и старик, спустился из нее через окно в сад и, не увиденный никем, смертельно огорченный, вернулся в свой покой. По данному им приказанию два человека схватили на следующую же ночь, о первом сне, при выходе из отдушины Гвискардо, неповоротливого в своей кожаной одежде, и повели к Танкреду. Когда он увидел его, сказал, едва не плача: «Гвискардо, моя доброта к тебе не заслуживала оскорбления и стыда, которые ты учинил моему роду, как я видел сегодня моими глазами». На это Гвискардо ничего иного не сказал, как только следующее: «Любовь сильнее вас и меня». Затем Танкред приказал тайком сторожить его в одной комнате поблизости, что и было сделано. Когда настал следующий день, а Гисмонда ничего еще об этом не знала, Танкред, передумав о многих и различных мерах, пошел по обычаю после обеда в комнату дочери, куда велел позвать ее, и, запершись с нею, начал со слезами говорить ей: «Гисмонда, казалось, я так был уверен в твоей добродетели и честности, что мне никогда не пришло бы на ум, хотя бы мне о том сказали, а я того не видел моими глазами, чтобы ты не только решилась, но даже подумала отдаться какому-нибудь мужчине, кто бы не был твоим мужем; отчего я в короткий остаток жизни, какой уготовит мне моя старость, всегда буду горевать, вспоминая о том. И еще дал бы Бог, если уж следовало тебе дойти до такого бесчестия, чтобы ты избрала человека достойного твоего рода, но изо всех, находящихся при моем дворе, ты избрала Гвискардо, юношу самого низкого происхождения, как бы ради Бога воспитанного при нашем дворе от младенческого возраста поднесь, чем ты повергла меня в большую душевную тревогу, ибо я не знаю, что мне с тобою предпринять. Относительно Гвискардо, которого я велел взять прошлой ночью, когда он вылезал из отдушины, и которого держу в заключении, я уже решил, что мне делать; но что начать с тобою, не знаю, Бог ведает. С одной стороны, меня влечет любовь, которую я всегда питал к тебе более, чем отец питал когда-либо к дочери, с другой – влечет справедливое негодование, вызванное твоим великим безрассудством: та желает, чтобы я простил тебе, эта требует, чтобы я свирепствовал против тебя наперекор моей природе. Но прежде, чем мне решиться, я желаю узнать, что ты на это ответишь». Сказав это, он склонил голову, так плача, как то сделал бы ребенок, которого порядком побили.
Выслушав отца и узнав, что не только открыта их тайная любовь, но схвачен и Гвискардо, Гисмонда ощутила невообразимое горе и много раз была близка к тому, чтобы выразить его воплями и слезами, как то большею частью делают женщины; но ее горделивый дух победил эту слабость, она овладела с удивительной силой своим лицом и решила сама с собой, скорее чем предъявить какую-нибудь просьбу о себе, расстаться с жизнью, ибо полагала, что Гвискардо уже убит. Потому, не как сетующая женщина, уличенная в своем проступке, а как не озабоченная этим и мужественная, она, не плача, с лицом открытым и ничуть не смущенным, так сказала отцу: «Танкред, я не расположена ни отрекаться, ни просить, ибо то не помогло бы мне; что же до этого, то я и не желаю, чтобы оно помогло; кроме того, я не намерена ни одним действием склонить твое благодушие и любовь, а, сознавшись в истине, во-первых, действительными доводами защитить мою честь, затем делом мужественно выразить величие моего духа. Правда, я любила и люблю Гвискардо, и пока жива, что будет недолго, буду любить его, но к этому побудила меня не столько моя женская слабость, сколько твоя малая озабоченность выдать меня замуж и его достоинства. Тебе должно было быть известным, Танкред, что ты, будучи сам из плоти, произвел и дочь из плоти, а не из камня или железа, и тебе следовало бы и еще следует памятовать, хотя ты теперь и стар, какие и каковы и с какой силой объявляются законы юности; и хотя, будучи мужчиной, ты провел часть твоих лучших лет в воинских упражнениях, тем не менее должен был понимать, что безделье и роскошь могут сделать со старыми людьми, не только что с молодыми. Итак, как рожденная от тебя, я из плоти, и пока так мало жила, что еще молода, и по той и другой причине полна чувственного вожделения, которому удивительную силу придало то, что, побывав замужем, я познала, каково наслаждение удовлетворять такому желанию. Не будучи в состоянии противодействовать этой силе, я решилась, как молодая женщина, последовать тому, к чему она меня влекла, – и полюбила. И, поистине, я употребила все мои старания, чтобы из того греха, к которому меня увлекала природа, не вышло позора ни тебе, ни мне, насколько я могла это устроить; и сострадательный Амур и благосклонная судьба нашли мне и показали для этого потаенный путь, которым я без чьего-либо ведома достигала цели моих желаний; кто бы тебе ни указал на то и как бы ты о том ни узнал, этого я не отрицаю. Гвискардо я выбрала не случайно, как то делают многие, но по зрелом размышлении избрала его преимущественно перед другими, с разумным расчетом допустила до себя и с мудрым постоянством, моим и его, долго наслаждалась исполнением моего желания. За это, кажется, более чем за мой любовный проступок, ты с особой горечью и упрекаешь меня, следуя более обычному мнению, чем истине, и говоря, что я сошлась с человеком низкого происхождения, как будто тебе нечего было бы гневаться, если б для этого я избрала человека благородного. При этом ты не замечаешь, что коришь не мой грех, а грех фортуны, очень часто возвышающей недостойных и оставляющей внизу достойнейших. Но оставим пока это, и взгляни немного на сущность вещей; ты увидишь, что у всех нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все души созданы одним творцом с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродетель впервые различила нас, рождавшихся и рождающихся одинаковыми, и те, у которых ее было больше и они в ней были деятельней, были названы благородными, а остальные остались неблагородными. И хотя противоположный обычай прикрыл впоследствии этот закон, он еще не уничтожен и не искоренен ни из природы, ни из добрых нравов; потому, кто поступает добродетельно, открыто заявляет себя благородным, и если называют его иначе, то виновен в этом не названный, а тот, кто называет. Оглянись среди всех твоих дворян, разбери их жизнь, нравы и обращение, а с другой стороны, обрати внимание на Гвискардо: если ты захочешь обсудить без раздражения, ты его назовешь благороднейшим, а своих дворян – худородными. Относительно доблестей и достоинств Гвискардо я не доверялась суждению кого бы то ни было, кроме твоих слов и моих глаз. Кто хвалил его, как хвалил его ты во всех достойных похвалы делах, за которые подобает поощрять достойного человека? И, поистине, не без основания, ибо, если меня не обманывали мои глаза, ты не расточил ему ни одной похвалы, которую я не видела бы оправданной делом, и гораздо лучше, чем в состоянии были выразить твои слова; но если и в этом отношении я вовлечена была как-нибудь в обман, я была обманута тобою. Скажешь ли ты еще, что я связалась с человеком низкого происхождения? Ты скажешь неправду. Если бы, пожалуй, ты назвал его бедняком, в этом можно было бы согласиться с тобою к твоему стыду, что ты сумел поставить достойного человека, твоего слугу, в столь хорошее положение; но бедность ни у кого не отнимает благородства, а только достояние. Много королей, много великих властителей были бедняками, и многие из тех, которые копают землю и пасут скот, были и пребывают богачами. Последнее сомнение, выраженное тобою, что тебе со мною сделать, отгони вовсе от себя, и если ты думаешь поступить на краю старости, как не приобык поступать, будучи молодым, то есть свирепствовать, обрати твою жестокость на меня, вовсе не расположенную обратиться к тебе с какою бы то ни было просьбой, на меня, как на первую причину этого проступка, если уж допустить проступок; ибо уверяю тебя, если ты не сделаешь со мною того же, что сделал или велишь сделать с Гвискардо, то мои собственные руки совершат это. Итак, ступай пролить слезы с женщинами и, ожесточившись, убей одним ударом его и меня, если тебе кажется, что мы того заслужили».
Принц познал величие духа своей дочери, но тем не менее не был вполне уверен, что она так твердо решилась привесть в исполнение содержание своих речей, как то говорила. Потому, уйдя от нее и оставив мысль проявить на ней каким бы то ни было способом свою жестокость, он захотел во вред другому охладить ее пылкую любовь и приказал двум сторожам Гвискардо без всякой огласки задушить его на следующую ночь и, вынув из него сердце, принести ему; все это, как было им приказано, они и сделали. Затем, на другой день, велев принести себе большую и красивую золотую чашу и положив в нее сердце Гвискардо, послал его с своим приближеннейшим слугою дочери, наказав ему сказать ей, отдавая: «Отец твой посылает тебе это, дабы утешить тебя тем, что ты наиболее любишь, как ты утешала его тем, что он всего более любил».
Гисмонда, не оставившая своего жестокого намерения, велела принести себе ядовитых трав и корней, и когда ушел отец, сварив их, сделала настой, дабы иметь его в готовности, если бы случилось то, чего она опасалась. Когда пришел к ней слуга с подарком и словами принца, она с твердым лицом взяла чашу и, открыв ее, увидев сердце и поняв слова, получила полную уверенность, что это – сердце Гвискардо. Потому, подняв глаза на слугу, она сказала: «Не подобало гробницы менее достойной, чем золотая, для такого сердца, как это; разумно в этом случае поступил мой отец». Так сказав, поднеся сердце к устам, она поцеловала его и затем продолжала: «Во всем и всегда, до этого последнего дня моей жизни, я видела полнейшую любовь ко мне моего отца, но теперь более чем когда-либо; потому воздай ему от меня за столь великий дар последнюю благодарность, какую мне придется воздать».
Так сказав, обратившись к чаше, которую крепко держала, и глядя на сердце, она проговорила: «О сладчайшая обитель всех моих радостей, да будет проклята жестокость того, кто заставил меня теперь взглянуть на тебя плотскими очами. Мне было совершенно достаточно во всякий час созерцать тебя очами духовными. Ты окончил свое странствие и совершил все, что уделила тебе судьба: ты достиг цели, к которой спешит всякий, покинул бедствия мира и его заботы и от своего собственного врага получил гробницу, какую заслуживала твоя доблесть. Ничего тебе недоставало, чтоб завершить погребение, кроме слез той, которую ты при жизни так любил; дабы и они у тебя были, Господь вложил в сердце моего безжалостного отца мысль послать мне тебя, и я отдам тебе мои слезы, хотя решилась умереть без слез на глазах, и с лицом, ничем не устрашенным; отдав тебе их, я без всякого промедления устрою так, что при твоей помощи моя душа соединится с тою, которую ты так заботливо хранило. В каком сообществе могла бы я пойти более довольная и спокойная в неведомые обители, как именно в ее сообществе? Я убеждена, она еще здесь и глядит на места своего и моего блаженства и, любя меня, в чем я уверена, ждет мою, которая ее выше всего любит».
Так сказав, точно у нее в голове был источник влаги, без всякого женского вопля склонившись над чашей, она принялась, плача, изливать слезы так обильно, что дивно было смотреть, причем бесконечное число раз целовала мертвое сердце. Ее девушки, стоявшие вокруг, не понимали, что то было за сердце и что означали ее слова, но, увлеченные жалостью, все плакали, напрасно спрашивая ее о причине ее плача и более того стараясь, как лучше умели и могли, ее утешить. Она же, когда, казалось, довольно наплакалась, подняв голову и осушив глаза, сказала: «О многолюбимое сердце, вся моя обязанность относительно тебя совершена, и мне ничего другого не остается сделать, как явиться с моей душою, чтобы быть ей в сообществе с твоею». Сказав это, она велела подать себе кувшин, где была вода, приготовленная ею за день назад, вылила ее в чашу на сердце, орошенное многими ее слезами, и, бесстрашно поднеся ее ко рту, всю ее выпила; выпив, с чашей в руке возлегла на свою постель, устроилась на ней насколько возможно приличнее, приложила к своему сердцу сердце мертвого любовника и, не говоря ни слова, стала ждать смерти. Ее девушки, увидев все это и услышав, хотя и не знали, что то за вода, которую она выпила, послали сказать обо всем Танкреду; он, опасаясь того, что и случилось, тотчас же спустился в комнату дочери, куда пришел как раз, когда она легла на кровать, но, явившись слишком поздно утешить ее нежными словами, видя, в каком она положении, начал жалостно плакать. На это она сказала ему: «Танкред, прибереги эти слезы для менее желанного горя, чем это, и не проливай их надо мною, которая их не желает. Кто видел когда-либо человека, разве только тебя, плачущего о том, чего он сам желал? Но если в тебе хотя отчасти жива любовь, которую ты питал ко мне, дозволь мне, в виде последнего дара, чтобы, если тебе не по сердцу было мое тихое и скрытое сожительство с Гвискардо, мое тело легло открыто с его телом, куда бы ты ни велел бросить его мертвого». Удушье от слез не позволило принцу ответить. Тогда молодая женщина, чувствуя, что ее конец настал, прижав к груди мертвое сердце, сказала: «Оставайтесь с Богом, ибо я кончаюсь». Ее глаза помутились, онемели чувства, и она удалилась из этой горестной жизни.
Таков, как вы слышали, был печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, которых Танкред, много оплакав и поздно раскаявшись в своей жестокости, при общем сетовании всех жителей Салерно, велел почетно похоронить в одной гробнице.
Новелла вторая
Монах Альберт уверяет одну женщину, что в нее влюблен ангел, и в его образе несколько раз соединяется с нею; затем, убоявшись ее родственников, бросается из окна ее дома и находит убежище в доме одного бедняка, который на следующий день ведет его, переодетого дикарем, на площадь, где его признали, а братия хватает и заключает его в темницу
Новелла, рассказанная Фьямметтой, не раз извлекала слезы из глаз ее подруг; когда она кончилась, король сказал с суровым видом: «Малоценной показалась бы мне моя жизнь, если б я мог отдать ее за половину того наслаждения, которое было у Гисмонды с Гвискардо, и тому не следует никому из вас удивляться, ибо я, живя, ежечасно испытываю тысячу смертей, а мне не дано за все это ни частички наслаждения. Но оставляя пока мои дела, как они есть, я желаю, чтобы Пампинея продолжала, сказывая жалостные рассказы, отчасти сходные с моими обстоятельствами; если она пойдет путем, открытым Фьямметтой, я без всякого сомнения ощущу падение росы на мое пламя». Услышав обращенный к ней приказ, Пампинея поняла более по чувству желание своих подруг, чем желание короля из его слов, и потому, будучи более расположена развлечь их, чем удовлетворить короля, разве исполнением его приказания, решилась, не выходя из сюжета, сказать смехотворную новеллу и начала: – Среди простых людей в ходу есть поговорка: коли худой человек слывет хорошим, хоть и сделает дурно, тому не поверят. Это дает мне обильное содержание, чтобы побеседовать о предложенной мне задаче, а кстати и доказать, каково и сколь велико ханжество монахов, которые в пространных одеждах, с искусственно бледными лицами, с голосами смиренными и заискивающими при попрошайничестве, громкими и страшными при порицании в других своих собственных пороков, доказывают, что они спасаются побираньем, а остальные отдаваньем, заявляют себя не людьми, имеющими, подобно нам, заслужить рай, а точно его собственниками и владельцами, раздающими всякому умирающему, согласно с завещанным им количеством денег, более или менее хорошее место, чем усиливаются обмануть, во-первых, самих себя, если они в это верят, а затем и тех, кто в этом верит им на слово. Если бы мне дозволено было сказать о них все, что следует, я тотчас доказала бы многим простецам, что они таят в своих обширных капюшонах. Дал бы Бог, за их лганье, чтобы со всеми случилось то же, что с одним миноритом, уже не молодым, но считавшимся в Венеции одним из наибольших казуистов. О нем мне особенно хочется рассказать, дабы, быть может, смехом и потехой поднять ваш дух, исполненный жалости к смерти Гисмонды.
Итак, достойные дамы, жил в Имоле человек преступного и порочного поведения, по имени Берто делла Масса, постыдные дела которого, хорошо знакомые жителям Имолы, довели его до того, что там не верили не только его лжи, но даже когда он говорил и правду; поэтому, увидя, что ему с его проделками здесь не место, он, отчаявшись, переехал в Венецию, вместилище всякой мерзости, рассчитывая найти здесь иной способ для своих злостных деяний, чем находил в других местах. Точно совесть укорила его за все порочное, совершенное им в прошлом, представившись, что его обуяло великое смирение и он стал набожным паче всякого другого, он пошел в монастырь и назвался братом Альбертом из Имолы; в таком облачении он начал представляться, что ведет суровую жизнь, усердно внушал покаяние и воздержание и никогда не ел мяса и не пил вина, – когда они не были ему по вкусу. Не успел никто и оглянуться, как из разбойника, сводника, обманщика и убийцы он сделался великим проповедником, не покидая вследствие этого указанных пороков, когда их можно было совершать втайне. Кроме того, став священником, он у алтаря, когда служил и многие то видели, постоянно проливал слезы о страстях Господних, ибо слезы почти ничего ему не стоили, лишь бы захотел. В скором времени, частью своими проповедями, частью слезами, он сумел так подманить венецианцев, что стал верным исполнителем и хранителем почти всех духовных завещаний, какие там совершались, сберегателем денег у многих, духовным отцом и советодателем почти большей части мужчин и женщин; так поступая, он из волка стал пастырем, и молва о его святости в тех местах была гораздо больше, чем когда-либо слава св. Франциска в Ассизи.
Случилось, что одна молодая женщина, придурковатая и глупая, по прозванию мадонна Лизетта из дома Квирино, жена одного знатного купца, уехавшего на галерах во Фландрию, пошла с другими женщинами исповедоваться у этого святого монаха. Когда она стояла перед ним на коленях и, как венецианка (они все ветреные), рассказала ему кое-что о своих делах, брат Альберт спросил ее, нет ли у нее любовника. На это она ответила с сердитым лицом: «Что это, отец монах, у вас точно нет глаз? Разве моя красота представляется вам такою же, как красота вон тех? У меня любовников было бы с лихвою, если б я того захотела, но не таковы мои прелести, чтобы я дозволила любить меня таковским. Многих ли видите вы, чья красота была бы равна моей? И в раю я была бы красавицей». Кроме того, она столько еще наговорила об этой своей красоте, что было противно слушать. Брат Альберт тотчас же догадался, что она с придурью, и так как ему представилось, что это почва для его орудования, он внезапно и безмерно в нее влюбился, но, оставляя увещанье до более удобного времени, он, дабы показаться святым человеком, принялся на этот раз упрекать ее, говоря, что это тщеславие, и далее в том же роде, почему женщина сказала ему, что он дурак и не понимает, что одна красота стоит более другой. Вследствие этого брат Альберт, не желая слишком ее разгневать, исповедав ее, отпустил с другими.
Обождав несколько дней, взяв с собою верного товарища, он отправился в дом мадонны Лизетты и, отойдя с нею к сторонке в одну комнату, где никто не мог его видеть, бросился перед нею на колени и сказал: «Мадонна, умоляю вас Богом, простите мне, что я сказал вам в воскресенье, когда вы говорили мне о своей красоте, ибо я так жестоко был избит в следующую ночь, что потом не мог встать с постели до сегодня». – «А кто побил вас таким образом?» – спросила дурочка. Сказал брат Альберт: «Я объясню вам это. Когда я ночью стоял на молитве, как то делаю обыкновенно, я внезапно увидел в моей келье великий свет, и не успел я обернуться, дабы посмотреть, что это такое, как узрел над собою прекраснейшего юношу с толстой палкой в руке, который, схватив меня за капюшон и повергнув к своим ногам, столько мне всыпал, что совсем изломал меня. Когда я спросил его потом, зачем он это сделал, он отвечал: „За то, что ты осмелился сегодня порицать небесные прелести мадонны Лизетты, которую я люблю более всего“. Тогда я спросил: „Кто же вы?“ На это он ответил, что он ангел. „О господин мой, – говорю я, – простите меня, умоляю вас“. Тогда он сказал: „Я прощаю тебе с тем условием, чтобы ты отправился к ней, как можешь скорее, и испросил себе прощение; если она не простит тебе, я сюда вернусь и так тебя угощу, что ты будешь охать, пока жив“. То, что он сказал потом, я не осмеливаюсь передать вам, если наперед вы меня не простите».
Мадонна, пустая голова, в которой соли было немного, млела, слушая эти речи, которые считала за чистую истину, а по некотором времени сказала: «Говорила я вам, брат Альберт, что мои прелести небесные; но, видит Бог, мне жаль вас, и дабы вам не учинили более ничего худого, я теперь же прощаю, с тем, однако же, чтобы вы сообщили, что такое сказал вам ангел». Брат Альберт ответил: «Мадонна, так как вы мне простили, я охотно скажу вам об этом, но об одном напомню вам: что бы я ни открыл вам, берегитесь говорить о том кому бы то ни было на свете, если вы, счастливейшая, какая обретается ныне на свете, женщина, не хотите испортить вашего дела. Этот ангел поручил мне сказать вам, что вы так ему нравитесь, что он много раз явился бы побыть с вами ночью, если б не опасался испугать вас. Ныне он велит передать вам через меня, что желает прийти к вам как-нибудь ночью и пробыть с вами некоторое время; а так как он ангел, и если б явился во образе ангела, вы не могли бы дотронуться до него, он и говорит, что, в удовольствие вам, он хочет предстать в человеческом образе и потому велит послать ему сказать, когда вы желаете, чтобы он явился, и в каком образе, он и явится; почему вы можете считать себя блаженной, более чем какая иная из живущих женщин». Мадонна-разиня сказала тогда, что ей очень приятно быть любимой ангелом, ибо и она очень его любит и никогда не обходится без того, чтобы не зажечь свечу в четыре сольда, где лишь увидит его намалеванным; в какой бы час он ни пожелал прийти, он будет доброжеланным, ибо найдет ее совсем одну в ее комнате; но с одним условием, что он не должен покидать ее ради Девы Марии, что ей сказали о его любви и что повсюду, где она только его видит, она становится перед ним на колени; от него зависит, в каком образе он желает показаться, лишь бы она не ощутила страха. Тогда брат Альберт сказал: «Мадонна, вы говорите разумно, и я хорошо улажу с ним все, о чем вы мне говорите, но вы можете оказать мне великую милость, которая ничего не будет вам стоить, а милость эта – та, чтобы вы пожелали, чтобы он явился в моем теле. И послушайте, чем вы мне окажете милость: он вынет душу мою из тела и поместит ее в рай, а сам войдет в меня, и пока он будет с вами, до той поры душа моя будет в раю». Говорит тогда мадонна-ума не напрядешь: «Хорошо, я согласна, я желаю, чтобы в возмещение ударов, которые он дал вам из-за меня, вы удостоились этого утешения». Тогда брат Альберт сказал: «Итак, устройте, чтобы в эту ночь дверь вашего дома была открытой, дабы он мог войти, ибо, являясь в человеческом теле, как он и явится, он может войти только через дверь». Женщина ответила, что это будет исполнено. Брат Альберт удалился, а она пришла в такое восторженное состояние, что сорочка отставала у ней от спины, и за тысячу лет показалось ей время, пока не посетит ее ангел.
А брат Альберт, сообразив, что ночью ему надо быть наездником, не ангелом, начал подкреплять себя сластями и всякими хорошими вещами, чтобы его не так-то легко сбросили с коня. Получив отпуск из монастыря, как настала ночь, он с товарищем пошел в дом одной своей приятельницы, откуда и в другие разы отправлялся, когда ходил гоняться за кобылами; отсюда, когда ему показалось, что настало время, он, переодевшись, отправился в дом той женщины; войдя в него, преобразил себя, с помощью разных принесенных им безделушек, в ангела и, взобравшись наверх, вступил в комнату дамы.
Та, как увидела что-то белое, пала перед ним на колени, а ангел благословил ее, поднял и сделал ей знак лечь в постель, что она, охотно повинуясь, тотчас же и исполнила, а ангел прилег к своей поклоннице. Был брат Альберт красивый телом и крепкий, ноги отлично прилажены к туловищу; потому, когда он сошелся с мадонной Лизеттой, свежей и нежной, он показал ей другие виды, чем муж, и в течение ночи часто летал без крыльев, чем она признала себя очень довольной; да кроме того, он многое порассказал ей о небесной славе. Затем, с приближением дня, условившись относительно возвращения, он вышел со своими снарядами и вернулся к своему товарищу, которому, дабы не боязно было спать ночью одному, добрая служанка дома доставила любезное общество. А дама после обеда пошла со своими подругами к брату Альберту и сказала ему об ангеле и о том, что слышала от него о славе вечной жизни, и каков он с виду, присоединяя к тому невероятные басни. На это брат Альберт сказал: «Мадонна, не знаю, как вам было с ним; знаю только, что сегодня ночью, когда он явился мне и я сообщил ему о вашем поручении, он внезапно поместил мою душу среди стольких цветов и стольких роз, что такого количества здесь никогда и не видели, и я обретался в одном из восхитительнейших мест, какие когда-либо были, до нынешнего утра об утрени; что было тем временем с моим телом, не ведаю». – «А я-то вам этого и не говорю! – сказала дама. – Ваше тело всю ночь было в моих объятиях, с ангелом, а если вы мне не верите, посмотрите у себя под левой грудью, куда я задала ангелу такой большущий поцелуй, что знак останется на несколько дней». Сказал тогда брат Альберт: «Так сделаю же я сегодня, чего давным-давно не делал: разденусь и погляжу, правду ли вы говорите».
После долгой болтовни дама вернулась домой, а брат Альберт в образе ангела ходил к ней много раз, не встречая никакого препятствия. Случилось однажды, что, когда мадонна Лизетта была с одной своей кумой и обе спорили о красоте, она, желая поставить свою красоту выше всех других, будучи пустоголовой, сказала: «Если бы вы знали, кому нравится моя красота, вы бы умолчали о других!» Кума, любопытствуя о том услышать, ибо хорошо ее знала, сказала: «Мадонна, вы, может быть, и правду говорите, но во всяком случае, не узнав, кто это такой, свое мнение не так-то легко изменить». Тогда дама, будучи невысокого полета, ответила: «Об этом не следует говорить, кума, но моя страсть – ангел, любящий меня более самого себя, как самую красивую, по его словам, женщину, какая есть на свете или в приморье». У кумы явилось тогда желание расхохотаться, но она, однако, удержалась, чтобы дать ей поговорить далее, и сказала: «Бог мне судья, мадонна, коли ангел ваша страсть и говорит вам это, то так, вероятно, и должно быть; но я не воображала, что ангелы занимаются такими делами». – «Кума, – возразила женщина, – вы ошибаетесь: клянусь небом, он делает это лучше, чем мой муж, и говорит мне, что то же делают и там, наверху, но потому что я кажусь ему более красивой, чем кто-либо на небе, он влюбился в меня и часто приходит побыть со мной. Теперь видите ли, в чем дело?»
Когда кума ушла от Лизетты, время показалось ей за тысячу лет, пока она добралась до места, где могла все это пересказать: сойдясь на одном празднике с большим обществом женщин, она по порядку передала им эту быль. Те женщины сообщили это мужьям и другим женщинам, а эти другим, так что менее чем в два дня вся Венеция была полна этим слухом. Но в числе прочих, до сведения которых дошло это дело, были и зятья той женщины, которые, ничего ей не говоря, задумали отыскать этого ангела и разузнать, умеет ли он летать; несколько ночей они были настороже.
Случайно кое-какие вести о том дошли до сведения брата Альберта, который отправился раз ночью, чтобы укорить свою даму, и только что разделся, как ее зятья, видевшие, как он шел, уже были у двери ее комнаты. Как услышал это брат Альберт, понял, что это значит, встал и, не находя другого убежища, растворив окно, выходившее на главный канал, бросился оттуда в воду. Глубина была большая, а он умел плавать, так что никакого вреда себе не сделал; переплыв на другую сторону канала, он быстро вошел в один незапертый дом и попросил бывшего там человека, ради Бога, спасти ему жизнь, причем рассказал ему небылицы, каким образом он здесь в такой час, да еще и голый. Добрый человек, движимый жалостью, уложил его в свою постель, так как ему самому надо было пойти по своим надобностям, и сказал ему, чтобы он побыл здесь до его возвращения; заперев его, он отправился по своим делам. Зятья дамы, войдя в комнату, нашли, что ангел, оставив крылья, улетел; рассердившись, что их провели, они наговорили даме больших грубостей и под конец, оставив ее неутешною, вернулись к себе домой со снарядами ангела.
Между тем уже рассвело, и тот добрый человек, находясь на Риальто, услышал, как сказывали, что ангел ходил на ночлег к мадонне Лизетте, найден был там ее зятьями, со страху бросился в канал и неизвестно, что с ним сталось; потому он скоро догадался, что это и есть тот, что у него на дому. Вернувшись и узнав его, он после многих переговоров поставил ему такое условие, что если он не желает, чтобы он выдал его зятьям, пусть доставит ему пятьдесят дукатов, что и было сделано. Но когда после того брат Альберт захотел выйти оттуда, тот сказал ему: «На это нет никакого средства, коли вы не решитесь на одно. Сегодня мы справляем праздник: кто ведет человека, одетого наподобие медведя, кто наподобие дикаря, кто так, кто иначе, а на площади св. Марка устраивается охота, по окончании которой кончается и праздник, а затем всякий уходит с тем, кого привел, куда угодно. Если вы хотите, прежде чем разведают, что вы здесь, чтобы я повел вас туда одним из этих способов, я могу повести вас, куда хотите; иначе я не вижу для вас возможности удалиться отсюда неузнанным; ведь зятья дамы, предполагая, что вы где-нибудь здесь, всюду расставили сторожей, чтобы схватить вас».
Хотя и тяжело показалось брату Альберту пойти таким образом, тем не менее из страха перед родственниками дамы он решился, сказав тому человеку, чтобы он повел его, куда желает, и что, в каком бы виде его ни повели, он согласен. Тот, обмазав всего его медом и обсыпав сверху пухом, наложил на него цепь и надел на лицо маску, дал в одну руку большую палку, в другую на своре двух громадных псов, приведенных им с бойни, и послал человека оповестить на Риальто, что кто хочет видеть ангела, пусть идет на площадь св. Марка: это была «верность венецианца». Сделав это, он немного спустя вывел его, поставил впереди себя, а сам пошел сзади, держа его за цепь, и при крике многих, говоривших: «Что это такое? Что это такое?» (che xe quel? che xe quel?), повел его на площадь, где частью из тех, кто увязался за ними, частью из тех, которые, услышав оповещение, пришли с Риальто, народу собралось бесчисленное множество. Когда он туда добрался, в ожидании начала охоты, привязал своего дикаря к столбу на видном, высоком месте, где мухи и слепни сильно досаждали ему, так как он был обмазан медом. Когда тот человек увидел, что площадь порядком наполнилась, показав вид, что хочет спустить своего дикаря с цепи, сорвал с брата Альберта маску, говоря: «Господа, так как кабан не явился для охоты, а без него охоты нет, я желаю, чтобы вы не прошлись даром, а увидали бы ангела, спускающегося ночью с неба на землю развлекать венецианских женщин».
Лишь только спала маска, все тотчас же узнали брата Альберта, против которого подняли крик, осыпая его самыми обидными словами и величайшей бранью, которая когда-либо доставалась мошеннику, да кроме того бросая ему в лицо кто одну мерзость, кто другую. Так они продержали его долго, пока, на счастье, весть о том не дошла до его братии, из которой явились туда человек шесть; они, набросив на него рясу и отвязав его, не без великого гама им вслед повели его в свою обитель, где, говорят, он и умер в заключении после горестной жизни.
Так-то этот человек, которого считали добродетельным, не веря, когда он творил злое, осмелился выдать себя за ангела и, обратившись из него в дикаря, с течением времени был по заслугам опозорен и втуне оплакал совершенные им грехи. Да устроит Бог, чтобы то же соделалось и с другими, ему подобными.
Новелла третья
Трое молодых людей любят трех сестер, с которыми и бегут в Крит; старшая из ревности убивает своего любовника; вторая, отдавшись герцогу Крита, спасает первую от смерти, но убита своим любовником, который и бежит с первой. В этом убийстве обвинен третий любовник с третьей сестрой; будучи схвачены, они берут на себя вину, но от страха смерти, подкупив деньгами стражу, бегут, обедневшие, в Родос, где умирают в нищете
Выслушав заключение новеллы Пампинеи, Филострато несколько задумался, но потом сказал, обратившись к ней: «Есть кое-что хорошее в конце вашего рассказа, и он мне понравился, но перед тем уж слишком много было смеха, чего я не желал бы, чтобы там было». Затем, обратившись к Лауретте, он сказал: «Мадонна, продолжайте, по возможности, более подходящей новеллой, чем эта». Сказала, смеясь, Лауретта: «Вы уже очень жестоки к любящим, если только и желаете их злополучного конца; я же, исполняя ваше приказание, расскажу вам о троих, одинаково дурно кончивших, мало насладившись своею любовью». Так сказав, она начала:
– Юные дамы, как вам хорошо известно, всякий порок может обратиться в величайший вред для отдающегося ему, а часто и других; в числе прочих, наиболее необузданно увлекающих нас в опасности, представляется мне гнев, а это не что иное, как внезапное и неразумное движение, которое, будучи вызвано ощущением горя, отогнав разум и наведя мрак на наши умственные очи, возжигает в нашей душе пламя ярости. Хотя чаще это бывает с мужчинами, у одних более, у других слабее, тем не менее то же видели, и с еще более вредными последствиями, и на женщинах, ибо в них оно легче возгорается, горит более ярким пламенем и движет ими с меньшим удержем. И этому нечего удивляться, коли подумаем, что огонь по своей природе скорее охватывает легкие и рыхлые вещества, чем твердые и плотные; а ведь мы (да не поставят нам это мужчины в укор) нежнее их и подвижнее. Потому, видя, что мы к этому естественно расположены, и принимая в соображение, что как наша мягкость и благодушие являются успокоением и удовольствием мужчинам, с которыми нам приходится общаться, так гнев и ярость – большим досаждением и опасностью, я намерена, дабы нам с тем большею твердостью духа уберечься от этого, показать вам в моей новелле, каким образом любовь трех юношей и стольких же девушек стала, вследствие гнева одной из них, из счастливой – несчастнейшею.
Марсель, как вам известно, находится в Провансе у моря, древний и именитейший город, когда-то более изобиловавший богатыми людьми и знатными купцами, чем то видать теперь. Между ними был некто, по имени Нарнальдо Клуада, человек низкого происхождения, но добросовестный и честный купец, безмерно богатый поместьями и деньгами; у него было от жены несколько детей, из них три дочери, старше возрастом сыновей. Двум из них, близнецам, было по пятнадцати лет, третьей четырнадцать, и их родственники ничего иного не ждали, чтобы выдать их замуж, как возвращения Нарнальдо, отправившегося со своим товаром в Испанию. Двух первых звали: одну Нинеттой, вторую Маддаленой, а имя третьей было Бертелла. В Нинетту был влюблен, как только можно быть влюбленным, молодой, родовитый, хотя и бедный человек, по имени Рестаньоне, а она в него; и они так сумели устроить, что без ведома кого бы то ни было на свете наслаждались своею любовью, и уже пользовались ею довольно долго, как случилось, что два молодых приятеля, из которых одного звали Фолько, другого Угетто, оставшись богачами по смерти своих отцов, влюбились один в Маддалену, другой в Бертеллу. Когда Рестаньоне, которому указала на то Нинетта, это заметил, он задумал воспользоваться их любовью, чтобы помочь своей бедности. Сойдясь с ними, он стал провожать то одного, то другого, а иногда и обоих на свидание к их возлюбленным, а также и к своей; и когда ему показалось, что он достаточно сблизился и подружился с ними, он сказал им: «Дорогие юноши, наше общение могло убедить вас, какую любовь я к вам питаю и что для вас я сделал бы все, что сделал бы для самого себя; а так как я очень люблю вас, то намерен объявить вам, что мне запало на ум, а затем вы вместе со мною решите, что покажется за лучшее. Если ваши слова не обманывают, и еще судя по тому, что, кажется мне, я уразумел из ваших поступков, денно и нощно вы пылаете величайшей страстью к двум любимым вами девушкам, а я к третьей их сестре; и я берусь, если вы только на это согласитесь, найти для этой любви приятное и желанное средство, и вот какое. Вы – юноши богатейшие, я – нет; если бы вы захотели соединить в одно наши богатства, сделав меня вместе с вами третьим их владельцем, и решили бы, в какую часть света нам отправиться, чтобы проводить с их помощью веселую жизнь, я берусь наверно уладить так, что три сестры с большею частью отцовского имущества поедут с нами, куда мы пожелаем, а там мы станем жить каждый с своею, как три брата, счастливейшими людьми на свете. Теперь за вами – решить: желаете ли вы такого утешения, или оставите это дело».
Оба юноши, безмерно пылавшие, услышав, что девушки будут им принадлежать, не трудились долго над решением, а сказали, что, если последствие будет именно такое, они готовы все сделать. Получив такой ответ от молодых людей, Рестаньоне через несколько дней был у Нинетты, к которой мог ходить не без больших затруднений; побыв с нею некоторое время, он объяснил ей, о чем говорил с юношами, и многими доводами старался склонить ее к этому предприятию. Это было ему не трудно, ибо она гораздо более его желала получить возможность быть с ним, не возбуждая подозрения, потому она решительно ответила ему, что это ей по сердцу, что сестры сделают, что она захочет, особенно в этом деле, и сказала ему, чтобы он, как можно скорее, устроил все для того потребное. Вернувшись к двум юношам, сильно пристававшим к нему по поводу того, что он им говорил, Рестаньоне сообщил им, что относительно их дам дело уже идет на лад. Решив между собою отправиться в Крит, продав некоторые свои имения под предлогом, что желают поехать торговать на эти деньги, обратив в деньги все, что у них было, они купили скороходное судно, тайком отлично вооружили его и стали поджидать назначенного срока. С другой стороны, Нинетта, хорошо знавшая настроение сестер, сладкими речами так возбудила в них желание к этому делу, что им казалось, они не доживут до его исполнения. Поэтому с наступлением ночи, когда им следовало сесть на судно, три сестры, вскрыв большой отцовский сундук, вынув из него большое количество денег и драгоценностей и тихонько выйдя со всем этим из дому, встретили, по условию, своих, поджидавших их, любовников, немедленно сели с ними на судно и, пустив в ход все весла, удалились. Нигде не останавливаясь, они на следующий вечер прибыли в Геную, где недавние любовники впервые вкусили радость и наслаждение своей любви. Подкрепившись здесь, чем было нужно, они отправились далее и, переходя от одной гавани к другой, еще до наступления восьмого дня прибыли без всякого препятствия в Крит, где купили большие, прекрасные поместья, а недалеко от Кандии построили роскошные и прелестные жилища. Здесь, обзаведясь многочисленной прислугой, собаками, ловчими, птицами и конями, среди пиров и празднеств и в веселии они стали жить со своими возлюбленными, точно бары, будучи счастливейшими в свете людьми.
Когда они пребывали таким образом, случилось (как мы то видим, бывает ежедневно, что хотя известная вещь и нравится, но при избытке надоедает), что Рестаньоне, очень любившему Нинетту, с той поры, как он без всякого опасения мог наслаждаться ею по желанию, она стала надоедать, и вследствие того его любовь к ней умаляться. На одном празднике ему сильно понравилась одна девушка, уроженка того места, красивая и родовитая, и он принялся ухаживать за нею, начал оказывать ей особенное внимание, устраивая для нее празднества; заметив это, Нинетта стала так ревновать его, что он не мог сделать ни шагу, чтобы она не узнала и затем не печалила его и себя попреками и гневными выходками. Но как излишество чего-нибудь порождает отвращение, а отказ в желаемом усиливает к нему стремление, так гневные выходки Нинетты увеличивали в Рестаньоне пламя новой привязанности; что бы там ни вышло с течением времени, добился ли Рестаньоне любви милой ему женщины, или нет, только Нинетта была твердо уверена в первом, кто бы ей о том ни донес; от этого она впала в такую печаль, а из нее в такой гнев, от которого последовательно перешла к такой ярости, что, обратив любовь, которую питала к Рестаньоне, в жестокую ненависть, ослепленная своим гневом, решила смертью отомстить за стыд, который он, казалось, учинил ей. Раздобыв старуху гречанку, большую мастерицу готовить яды, она убедила ее обещаниями и дарами составить смертоносную жидкость, которую, не спросив ни у кого совета, она дала однажды вечером выпить разгоряченному и ничего не остерегавшемуся Рестаньоне. Такова была сила жидкости, что она умертвила его еще до наступления утра. Когда Фолько и Угетто и их дамы о том услышали, не зная, от какого яда он умер, вместе с Нинеттой горько оплакали его и велели похоронить с почестями. Но несколько дней спустя случилось, что за какое-то преступное дело схвачена была старуха, приготовившая для Нинетты ядовитую жидкость, и под пыткой, в числе других преступлений, призналась и в этом, точно объяснив, что от этого произошло; вследствие чего герцог Крита, ничего никому о том не говоря, велел однажды ночью втихомолку окружить дворец Фолько и без какого-либо крика и сопротивления схватил и увел Нинетту, от которой без всякой пытки тотчас же выведал, что желал, относительно смерти Рестаньоне. Фолько и Угетто тайно узнали от герцога, а от них и их дамы, почему взята была Нинетта, что было им очень неприятно, и они прилагали всякое старание, чтобы спасти Нинетту от костра, к которому, по их мнению, ее осудят, как вполне того заслужившую; но, казалось, все это ни к чему не приведет, ибо герцог твердо стоял на том, чтобы правосудие над ней совершилось. Маддалена, которая была молода и красива и за которой долго ухаживал герцог, тогда как она никогда не соглашалась сделать что-либо ему в угоду, вообразила, что, угодив ему, она может спасти сестру от костра, и осторожно дала ему знать через посланного, что она всецело к его услугам, если воспоследует от того двоякое: во-первых, чтобы ее сестра возвращена была ей живой и здоровой, и, во-вторых, чтобы это дело осталось скрытым. Выслушав это послание, которое было ему по сердцу, герцог долго обдумывал сам с собою, следует ли ему так поступить, но, наконец, решился и заявил свое согласие. Для этого он, с ведома дамы, велел однажды ночью задержать Фолько и Угетто под предлогом, что желает разузнать от них о деле, а сам тайно отправился на побывку к Маддалене. Перед тем он притворился, будто приказал посадить Нинетту в мешок и в ту самую ночь утопить в море; теперь он привел ее к сестре, отдал ей в награду за ночь и, удаляясь утром, попросил ее, чтобы эта ночь, первая их любви, не была последней; кроме того, наказал ей отослать виновную женщину, дабы ему не вышло от того поношения и не пришлось снова принять против нее меры строгости.
На следующее утро Фолько и Угетто, слышавшие, что ночью Нинетту утопили, чему они и поверили, были освобождены; когда они вернулись домой, чтобы утешить своих дам в смерти сестры, Фолько догадался, что она здесь, хотя Маддалена и сильно старалась скрыть ее, чему он очень удивился, тотчас же заподозрив Маддалену, ибо до него уже доходили слухи о любви к ней герцога, и спросил ее, как то могло статься, что Нинетта здесь. Маддалена сочинила длинную басню, дабы объяснить ему это, но он, как человек хитрый, плохо тому поверил и заставил ее сказать правду, что она после многих пререканий и сделала. Сраженный горем и воспламенившись гневом, Фолько вынул меч и убил ее, тщетно умолявшую его о милости; убоясь гнева и суда герцога, оставив ее мертвой в комнате, он пошел туда, где находилась Нинетта, и с чрезвычайно веселым видом сказал ей: «Отправимся тотчас же, куда твоя сестра решила, чтоб я повез тебя, дабы ты снова не попалась в руки герцога». Нинетта поверила этому и, исполненная страха и желания удалиться, не простившись с сестрою, вместе с Фолько снарядилась в путь с наступившей уже ночью; с теми деньгами, которые успел захватить Фолько, а их было немного, они, направившись к морскому берегу, сели в лодку, и никто никогда не узнал, куда они пристали.
Когда наступил следующий день и Маддалена найдена была убитою, некоторые, питавшие к Угетто зависть и ненависть, тотчас же донесли о том герцогу; вследствие чего герцог, сильно любивший Маддалену, исполнясь гнева, поспешил в ее дом и, схватив Угетто и его даму, ничего еще не знавших об этом деле, то есть о бегстве Фолько и Нинетты, принудил их к сознанию, что они вместе с Фолько виновны в смерти Маддалены. Вследствие этого сознания, не без причины опасаясь смерти, они с большими предосторожностями подкупили своих стражей, дав им несколько денег, которые тайно спрятали на всякий случай у себя в доме, и, не имея времени захватить с собою что-либо из своего имущества, сев в лодку вместе с стражами, ночью бежали в Родос, где в бедности и нужде прожили недолго. К такому-то исходу привела неразумная любовь Рестаньоне и гнев Нинетты и их самих и других.
Кончен третий день Декамерона и начинается четвертый, в котором, под председательством Филострато, рассуждают о тех, чья любовь имела несчастный исход
Дражайшие дамы, как по слышанным мною изречениям мудрых людей, так и по тому, что я часто видел и о чем читал, я полагал, что бурный и пожирающий вихрь зависти должен поражать лишь высокие башни и более выдающиеся вершины деревьев, но я вижу себя обманутым в моем мнении, ибо, избегая и всегда стремясь избегать дикий напор этого бешеного духа, я постоянно старался идти не то что полями, но и глубокими долинами. Это должно представиться ясным всякому, кто обратит внимание на настоящие новеллы, написанные мною не только народным флорентийским языком, в прозе и без заглавия, но и, насколько возможно, скромным и простым стилем. Несмотря на все это, тот ветер не переставал жестоко потрясать меня, почти вырывать с корнем, а зависть терзать меня своими уколами. Потому я очень ясно понимаю, что говорят мудрецы: что из всего ныне существующего одна лишь посредственность не знает зависти. Нашлись же, разумные мои дамы, люди, которые, читая эти новеллы, говорили, что вы мне слишком нравитесь и неприлично мне находить столько удовольствия в том, чтобы угождать вам и утешать вас; а другие сказали еще худшее за то, что я так вас восхваляю. Иные, показывая, что они хотят говорить более обдуманно, выразились, что в мои лета уже неприлично увлекаться такими вещами, то есть беседовать о женщинах или стараться угодить им. Многие, обнаруживая большую заботливость о моей славе, говорят, что я поступил бы умнее, если б оставался с музами на Парнасе, а не присосеживался к вам с этой болтовнею. Есть еще и такие, которые, выражаясь более презрительно, чем разумно, сказали, что я поступил бы рассудительно, если б подумал о том, откуда мне достать на хлеб, чем, увлекаясь такими глупостями, питаться ветром. А некоторые иные тщатся, в ущерб моему труду, доказать, что рассказанное мною было не так, как я сообщаю его вам. Такие-то и толикие бури, такие-то жестокие, острые зубы, обуревают, утруждают и, наконец, задевают меня за живое, пока я подвизаюсь в услужении вашем, доблестные дамы. Все это я выслушиваю и принимаю, про то ведает Бог, с веселым духом, и хотя вам достоит в этом защищать меня, я тем не менее не хочу щадить своих сил, напротив того, не отвечая, как бы то следовало, я желаю небольшим ответом устранить все это от моего слуха и делаю это без промедления. Ибо, если теперь уже, когда я еще не дошел до трети моего труда, тех людей много и они много берут на себя, я предполагаю, что прежде, чем я доберусь до конца, они могут настолько умножиться, что, не получив наперед никакого отпора, с небольшим трудом низвергнут меня, и как бы ни были велики ваши силы, они не в состоянии будут противостать тому. Но прежде, чем мне ответить кое-кому, я хочу рассказать в мою защиту не целую новеллу, дабы не показалось, что я желаю примешать мои новеллы к рассказам столь почтенного общества, какое я вам представил, а отрывок новеллы, дабы ее недостаток сам по себе доказал, что она не из тех, и, обратясь к моим противникам, скажу:
– В нашем городе, давно-таки тому назад жил гражданин, по имени Филиппе Бальдуччи, очень невысокого происхождения, но богатый, хорошо воспитанный и опытный в делах, какие требовались в его положении; у него была жена, которую он очень любил, как и она его; ведя покойную жизнь, они ни о чем так не заботились, как угодить всецело друг другу. Случилось, как случается со всеми, что добрая женщина покинула этот свет и не оставила Филиппе ничего, кроме одного рожденного от него сына, которому было, быть может, год-два. По смерти своей жены Филиппе остался столь неутешным, как остался бы всякий другой, потеряв, что любил. Очутившись одиноким, лишенный общества, которое было ему всего милее, он не захотел пребывать более в мире, а решился отдаться служению Богу и так же поступить и с своим сыном. Вследствие этого, раздав все свое имущество во имя Божие, он тотчас же ушел на гору Азинайо, поместился здесь в одной келейке с своим сыном и, живя с ним от милостыни и в молитвах, особенно остерегался говорить в его присутствии о каком бы то ни было мирском деле, ни показывать ему что-либо подобное, дабы это не отвлекало его от такого служения; напротив, он всегда беседовал с ним о славе вечной жизни, о Боге и святых, ничему иному не обучая его, как только молитвам; в такой жизни он продержал его много лет, никогда не выпуская его из кельи и никого не давая ему видеть, кроме себя.
У того достойного человека было обыкновение приезжать иногда во Флоренцию, откуда, получив, согласно с своими нуждами, необходимую для них помощь друзей Божиих, он возвращался в свою келью. Случилось, что, когда юноше было уже восемнадцать лет и Филиппе состарился, тот спросил его однажды, куда он отправляется. Филиппе сказал ему. На это парень заметил: «Батюшка, вы уже стары и плохо выносите усталость, почему не поведете вы меня когда-нибудь во Флоренцию и не познакомите с преданными друзьями Бога и вашими для того, чтобы я, как человек юный и могущий лучше, чем вы, работать, мог впоследствии ходить по нашим надобностям во Флоренцию, когда вам угодно, а вы будете оставаться дома?» Почтенный человек, рассчитав, что сын его уже взрослый и так привычен к служению Богу, что мирские дела едва ли могут привлечь его, сказал сам себе: «Ведь он ладно говорит!» Вследствие этого, когда ему пришлось идти туда, он повел его с собою. Здесь, когда юноша увидел дворцы, дома, церкви и все другое, чем полон город и чего он, насколько хватало памяти, никогда не видел, он стал сильно дивиться и о многом спрашивать отца, что это такое и как зовется. Отец сказывал ему о том: он, выслушав, был доволен и спрашивал о другом. Пока таким образом сын спрашивал, а отец отвечал, случилось им встретить толпу красивых и разодетых женщин, возвращавшихся со свадьбы; как увидел их парень, так и спросил отца: «Что это такое?» На это отец сказал: «Сын мой, опусти долу глаза, не гляди на них, ибо это вещь худая». Тогда сын спросил: «А как их звать?» Отец, дабы не возбудить в чувственных вожделениях юноши какой-нибудь плотской склонности и желания, не захотел назвать их настоящим именем, то есть женщинами, а сказал: «Их звать гусынями». И вот что дивно послушать: сын, никогда дотоле не видевший ни одной женщины, не заботясь ни о дворцах, ни о быке или лошади и осле, либо о деньгах и другом, что видел, тотчас сказал: «Отец мой, прошу вас, устройте так, чтобы нам получить одну из этих гусынь». – «Ахти, сын мой, – говорит отец, – замолчи: это вещи худые». – «Разве худые вещи таковы с виду?» – спросил юноша. «Да», – ответил отец. Тогда он сказал: «Не знаю, что вы такое говорите и почему эти вещи худые; что до меня, мне кажется, я ничего еще не видел столь красивого и приятного, как они. Они красивее, чем намалеванные ангелы, которых вы мне несколько раз показывали. Пожалуйста, коли вы любите меня, дайте поведем с собой туда наверх одну из этих гусынь, я стану ее кормить». Отец сказал: «Я этого не желаю, ты не знаешь, чем их и кормить», – и он тут же почувствовал, что природа сильнее его разума, и раскаялся, что повел его во Флоренцию.
Но довольно до сих пор рассказанного из этой новеллы, и мне желательно обратиться к тем, для кого я ее рассказал. Итак, некоторые из моих хулителей говорят, что я дурно делаю, о юные дамы, слишком стараясь понравиться вам, и что вы слишком нравитесь мне. В этом я открыто сознаюсь, то есть, что вы мне нравитесь, а я стараюсь понравиться вам; я и спрашиваю их, соображая, что они не только познали любовные поцелуи и утеху объятий, и наслаждение брачных соединений, которые вы нередко им доставляете, прелестные дамы, но и хотя бы и то одно, что они видели и постоянно видят изящные нравы и привлекательную красоту и прелестную миловидность и сверх всего вашу женственную скромность; спрашиваю, чему тут удивляться, когда человек, вскормленный, воспитанный, выросший на дикой и уединенной горе, в стенах небольшой кельи, без всякого другого общества, кроме отца, лишь только вы показались ему, одних вас вожделел, одних пожелал, к одним возымел склонность? Станут ли они упрекать меня, глумиться надо мною, поносить меня за то, что я, тело которого небо устроило всецело расположенным любить вас, чья душа с юности направлена к вам, познав силу ваших взоров, нежность медоточивых речей и горячее пламя сострадательных вздохов, – увлекаюсь вами или стараюсь вам нравиться, особенно если сообразить, что вы одни паче всего другого понравились молодому отшельнику, юноше безо всякого понятия, скорее – дикому зверю? Поистине лишь тот, кто не любит вас и не желает быть вами любимым, лишь человек не чувствующий и не знающий удовольствия и силы природной склонности – так порицает меня, и мне до него мало дела.
Те, что издеваются над моими годами, показывают, что не знают, почему у порея головка бывает уже белая, когда стебель остается еще зеленым. Таким людям я, оставив в стороне шутки, отвечу, что я никогда не вменю себе в стыд до конца жизни стараться угодить тем, угождать которым считали за честь и удовольствие Гвидо Кавальканти и Данте Алигьери, уже старые, и мессер Чино из Пистойи, уже дряхлый. И если бы не та причина, что пришлось бы оставить принятый мною способ изложения, я привел бы исторические свидетельства и показал бы, что они полны древних и доблестных мужей, ревностно тщившихся уже в зрелых годах угождать женщинам; коли они того не знают, пусть пойдут и поучатся.
Что мне следовало бы пребывать с музами на Парнасе – это, я утверждаю, совет хороший, но ни мы не можем постоянно быть с музами, ни они с нами, и если случится кому с ними расстаться, то находить удовольствие в том, что на них похоже, не заслуживает порицания. Музы – женщины, и хотя женщины и не стоят того, чего стоят музы, тем не менее на первый взгляд они похожи на них, так что, если в чем другом они не нравились бы мне, должны были бы понравиться этим. Не говоря уже о том, что женщины были мне поводом сочинить тысячу стихов, тогда как музы никогда не дали мне повода и для одного. Правда, они хорошо помогали мне, показав, как сочинить эту тысячу, и, может быть, и для написания этих рассказов, хотя и скромнейших, они несколько раз являлись, чтобы побыть со мною, может быть, в угоду и честь того сходства, какое с ними имеют женщины; почему, сочиняя эти рассказы, я не удаляюсь ни от Парнаса, ни от муз, как, может быть, думают многие.
Но что сказать о тех, столь соболезнующих о моей славе, которые советуют мне озаботиться снисканием хлеба? Право, не знаю; полагаю только, сообразив, какой был бы их ответ, если бы по нужде я попросил у них хлеба, что они сказали бы: «Пойди поищи, не найдешь ли его в баснях!» А между тем поэты находили его в своих баснях более, чем иные богачи в своих сокровищах. Многие из них, занимаясь своими баснями, прославили свой век, тогда как, наоборот, многие, искавшие хлеба более, чем им было надобно, горестно погибли. Но к чему говорить более? Пусть эти люди прогонят меня, когда я попрошу у них хлеба: только, слава Богу, пока у меня нет в том нужды, а если бы нужда и наступила, я умею, по учению апостола, выносить и изобилие и нужду; потому никто да не печется обо мне более меня самого.
Те же, которые говорят, что все рассказанное не так было, доставили бы мне большое удовольствие, представив подлинные рассказы, и если б они разногласили с тем, что я пишу, я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться; но пока ничто не предъявляется, кроме слов, я оставляю их при их мнении и буду следовать своему, говоря о них, что они говорят обо мне.
Полагая, что на этот раз я ответил довольно, я заявляю, что, вооружившись помощью Бога и вашей, милейшие дамы, на которых я возлагаю надежды, и еще хорошим терпением, я пойду с ним вперед, обратив тыл к ветру, и пусть себе дует; ибо я не вижу, что другое может со мной произойти, как не то, что бывает с мелкой пылью при сильном ветре, который либо не поднимает ее с земли, либо, подняв, несет в высоту, часто над головами людей, над венцами королей и императоров, а иногда и оставляет на высоких дворцах и возвышенных башнях; если она упадет с них, то ниже того места, с которого была поднята, упасть не может. И если когда-либо я был расположен изо всех моих сил угодить вам в чем-нибудь, теперь я расположен к тому более, чем когда-либо, ибо знаю, что никто не может иметь основания сказать иное, как только то, что как другие, так и я, любящий вас, поступаем согласно с природой. А чтобы противиться ее законам, на это надо слишком много сил, и часто они действуют не только напрасно, но и к величайшему вреду силящегося. Таких сил, сознаюсь, у меня нет, и я не желаю обладать ими для этой цели; да если б они и были у меня, я скорее ссудил бы ими других, чем употребил бы для себя. Потому да умолкнут хулители, и если не в состоянии воспылать, пусть живут, замерзнув и оставаясь при своих удовольствиях или, скорее, испорченных вожделениях, пусть оставят меня, в течение этой коротко отмеренной нам жизни, при моем. Но пора вернуться, ибо мы поблуждали довольно, прекрасные дамы, вернуться к тому, от чего мы отправились, и продолжать заведенный порядок.
Уж солнце согнало с неба все звезды, а с влажной земли ночную тень, когда Филострато, поднявшись, велел подняться и всему обществу. Отправившись в прекрасный сад, они принялись здесь гулять, а с наступлением обеденной поры пообедали там же, где ужинали прошлым вечером. Отдохнув, пока солнце стояло всего выше, и встав, они обычным порядком уселись у прелестного фонтана, и Филострато приказал Фьямметте начать рассказы. Не дожидаясь дальнейшего, она игриво начала так.
Новелла первая
Танкред, принц Салернский, убивает любовника дочери и посылает ей в золотом кубке его сердце; полив его отравленной водою, она выпивает ее и умирает
– Грустную задачу дал нам сегодня для рассказов наш король, когда подумаешь, что нам, собравшимся повеселиться, предстоит повествовать о чужих слезах, о которых нельзя рассказать так, чтобы и сказывающие и слушающие не возымели к ним сострадания. Может быть, он сделал это с целью умерить несколько веселье, испытанное в прошлые дни; что бы ни побудило его, но так как мне не пристало изменять его решение, я расскажу вам об одном жалостном приключении, несчастном и достойном ваших слез.
Танкред, принц Салернский, был очень человечный и милостивый властитель (если бы только на старости своих лет не обагрил рук в крови влюбленных), и у него во всю его жизнь была одна лишь дочь, но он был бы счастливее, если б не имел ее вовсе. Он так нежно любил ее, как когда-либо дочь бывала любима отцом, и вследствие этой нежной любви, хотя она на много лет перешла брачный возраст, он, не будучи в состоянии расстаться с нею, не выдавал ее замуж; когда, наконец, он выдал ее за сына Капуанского герцога, она, пожив с ним недолго и оставшись вдовою, вернулась к отцу. Она была так красива телом и лицом, как когда-либо бывала женщина, молодая, мужественная и умная, может быть, более, чем женщине пристало. Живя при любящем отце в большой роскоши, как высокородная дама, и видя, что отец, по любви к ней, мало заботится выдать ее замуж, а ей казалось неприличным попросить его о том, она задумала тайно завести себе, коли возможно, достойного любовника. Глядя на многих мужчин, благородных и других, являвшихся к двору ее отца, как то мы часто видим при дворах, она обращала внимание на обхождение и нравы многих, и в числе прочих понравился ей один молодой слуга отца, по имени Гвискардо, человек очень низкого происхождения, но по своим качествам и нравам благороднее всякого другого; к нему, видя его часто, она тайно и страстно воспылала, все более и более находя удовольствие в его обществе. Юноша, также неглупый, заприметил в ней это и так отдался ей всем сердцем, что отвратил свои мысли почти от всего другого, кроме любви к ней.
Когда, таким образом, они тайно любили друг друга и молодая женщина ничего так не желала, как сблизиться с ним, и не хотела доверяться в этой любви кому бы то ни было, она поднялась на особую хитрость, чтобы дать ему знать о способе к тому. Она написала письмо и в нем объяснила, что ему надлежит сделать на следующий день, дабы сойтись с нею; вложив письмо в колено тростинки, она дала ее Гвискардо и сказала шутливо: «Сегодня вечером ты устроишь из этого трубочку для твоей служанки, чтобы ей раздуть огонь». Гвискардо взял тростинку и, поняв, что она дала ему ее и так сказала не без причины, вернулся с нею домой; осмотрев тростинку, раскрыл ее по найденной трещине, нашел внутри ее письмо, прочел его и, хорошо уяснив себе, что ему надлежало делать, обрадовался, как никто другой, и стал готовиться, чтобы пойти к своей даме указанным ею способом.
Рядом с дворцом принца находилась вырытая в горе пещера, устроенная давно тому назад, и в эту пещеру проникало немного света через отверстие, искусственно сделанное в горе, и так как пещера была заброшена, почти закрыта поросшим вокруг тернием и травою, в эту пещеру можно было проникнуть по потаенной лестнице из одной комнаты нижнего этажа дворца, занятой дамою, хотя вход туда был заперт крепкой дверью. Эта лестница настолько вышла у всех из памяти, с давнишних времен не будучи в употреблении, что не было почти никого, кто бы помнил, где она; но Амур, для взоров которого нет ничего столь потаенного, что бы до них не доходило, обновил ее в памяти влюбленной женщины. Дабы никто о том не догадался, она многие дни работала орудиями, какие у ней были, прежде чем ей удалось отворить дверь; открыв ее и одна спустившись в пещеру, она увидела отверстие и послала сказать Гвискардо, чтобы он постарался проникнуть через него; она обозначила ему и расстояние, какое могло отделять его от земли. Чтобы устроить это, Гвискардо тотчас приготовил себе веревку с разными узлами и петлями, дабы можно было по ней спускаться и взбираться, и, одевшись в кожаное платье, которое защитило бы его от терний, не говоря никому ни слова, на следующую ночь отправился к отверстию; привязав один конец веревки к крепкому стволу, выросшему у входа, он спустился по ней в пещеру и стал поджидать даму. Она же на другой день, притворившись, что желает спать, услав своих девушек и одна запершись в своей комнате, отворив дверь, спустилась в пещеру, где нашла Гвискардо, и оба невыразимо обрадовались друг другу; вернувшись вместе в ее комнату, они с величайшим удовольствием провели здесь большую часть дня; распорядившись осмотрительно, как соблюсти свою любовь в тайне, Гвискардо вернулся в пещеру, она, заперев дверь, вышла к своим девушкам, а Гвискардо впоследствии, с наступлением ночи, взобравшись по веревке, вышел отдушиной, через которую вошел, и вернулся домой. Узнав этот путь, он несколько раз в течение времени возвращался туда, но судьба, завидуя такому продолжительному и столь великому наслаждению, грустным происшествием обратила веселье обоих любовников в печальный плач.
У Танкреда было обыкновение приходить одному в комнату дочери и затем, побывав у ней и поговорив немного, удаляться. Однажды, когда он явился туда после обеда, дама, по имени Гисмонда, была в своем саду с своими девушками; войдя в комнату, когда его никто не видел и не слышал, и не желая отвлечь ее от ее удовольствия, он, найдя окна комнаты запертыми и полог постели опущенным, сел около нее в углу на скамейку и, прислонив голову к постели и надернув на себя полог, точно с умыслом там спрятался, заснул. Когда он таким образом спал, Гисмонда, на беду велевшая в тот день прийти Гвискардо, оставив своих девушек в саду, тихо вошла в комнату и, заперев ее и не заметив, был ли там кто-нибудь, открыла дверь ожидавшему ее Гвискардо. В то время как они, отправившись, по обыкновению, на кровать, шалили и забавлялись друг с другом, случилось, что Танкред проснулся и услышал и увидел, что творили Гвискардо и его дочь; безмерно опечаленный этим, он сначала хотел накричать на них, но затем решился смолчать и остаться по возможности скрытым, дабы осторожнее и к меньшему своему стыду сделать то, что уже решил в душе. Оба любовника, пробыв, по обыкновению, долго вместе, не замечая Танкреда, поднялись с постели, когда им показалось, что пора, Гвискардо вернулся в пещеру, а она вышла из комнаты. Танкред, хотя и старик, спустился из нее через окно в сад и, не увиденный никем, смертельно огорченный, вернулся в свой покой. По данному им приказанию два человека схватили на следующую же ночь, о первом сне, при выходе из отдушины Гвискардо, неповоротливого в своей кожаной одежде, и повели к Танкреду. Когда он увидел его, сказал, едва не плача: «Гвискардо, моя доброта к тебе не заслуживала оскорбления и стыда, которые ты учинил моему роду, как я видел сегодня моими глазами». На это Гвискардо ничего иного не сказал, как только следующее: «Любовь сильнее вас и меня». Затем Танкред приказал тайком сторожить его в одной комнате поблизости, что и было сделано. Когда настал следующий день, а Гисмонда ничего еще об этом не знала, Танкред, передумав о многих и различных мерах, пошел по обычаю после обеда в комнату дочери, куда велел позвать ее, и, запершись с нею, начал со слезами говорить ей: «Гисмонда, казалось, я так был уверен в твоей добродетели и честности, что мне никогда не пришло бы на ум, хотя бы мне о том сказали, а я того не видел моими глазами, чтобы ты не только решилась, но даже подумала отдаться какому-нибудь мужчине, кто бы не был твоим мужем; отчего я в короткий остаток жизни, какой уготовит мне моя старость, всегда буду горевать, вспоминая о том. И еще дал бы Бог, если уж следовало тебе дойти до такого бесчестия, чтобы ты избрала человека достойного твоего рода, но изо всех, находящихся при моем дворе, ты избрала Гвискардо, юношу самого низкого происхождения, как бы ради Бога воспитанного при нашем дворе от младенческого возраста поднесь, чем ты повергла меня в большую душевную тревогу, ибо я не знаю, что мне с тобою предпринять. Относительно Гвискардо, которого я велел взять прошлой ночью, когда он вылезал из отдушины, и которого держу в заключении, я уже решил, что мне делать; но что начать с тобою, не знаю, Бог ведает. С одной стороны, меня влечет любовь, которую я всегда питал к тебе более, чем отец питал когда-либо к дочери, с другой – влечет справедливое негодование, вызванное твоим великим безрассудством: та желает, чтобы я простил тебе, эта требует, чтобы я свирепствовал против тебя наперекор моей природе. Но прежде, чем мне решиться, я желаю узнать, что ты на это ответишь». Сказав это, он склонил голову, так плача, как то сделал бы ребенок, которого порядком побили.
Выслушав отца и узнав, что не только открыта их тайная любовь, но схвачен и Гвискардо, Гисмонда ощутила невообразимое горе и много раз была близка к тому, чтобы выразить его воплями и слезами, как то большею частью делают женщины; но ее горделивый дух победил эту слабость, она овладела с удивительной силой своим лицом и решила сама с собой, скорее чем предъявить какую-нибудь просьбу о себе, расстаться с жизнью, ибо полагала, что Гвискардо уже убит. Потому, не как сетующая женщина, уличенная в своем проступке, а как не озабоченная этим и мужественная, она, не плача, с лицом открытым и ничуть не смущенным, так сказала отцу: «Танкред, я не расположена ни отрекаться, ни просить, ибо то не помогло бы мне; что же до этого, то я и не желаю, чтобы оно помогло; кроме того, я не намерена ни одним действием склонить твое благодушие и любовь, а, сознавшись в истине, во-первых, действительными доводами защитить мою честь, затем делом мужественно выразить величие моего духа. Правда, я любила и люблю Гвискардо, и пока жива, что будет недолго, буду любить его, но к этому побудила меня не столько моя женская слабость, сколько твоя малая озабоченность выдать меня замуж и его достоинства. Тебе должно было быть известным, Танкред, что ты, будучи сам из плоти, произвел и дочь из плоти, а не из камня или железа, и тебе следовало бы и еще следует памятовать, хотя ты теперь и стар, какие и каковы и с какой силой объявляются законы юности; и хотя, будучи мужчиной, ты провел часть твоих лучших лет в воинских упражнениях, тем не менее должен был понимать, что безделье и роскошь могут сделать со старыми людьми, не только что с молодыми. Итак, как рожденная от тебя, я из плоти, и пока так мало жила, что еще молода, и по той и другой причине полна чувственного вожделения, которому удивительную силу придало то, что, побывав замужем, я познала, каково наслаждение удовлетворять такому желанию. Не будучи в состоянии противодействовать этой силе, я решилась, как молодая женщина, последовать тому, к чему она меня влекла, – и полюбила. И, поистине, я употребила все мои старания, чтобы из того греха, к которому меня увлекала природа, не вышло позора ни тебе, ни мне, насколько я могла это устроить; и сострадательный Амур и благосклонная судьба нашли мне и показали для этого потаенный путь, которым я без чьего-либо ведома достигала цели моих желаний; кто бы тебе ни указал на то и как бы ты о том ни узнал, этого я не отрицаю. Гвискардо я выбрала не случайно, как то делают многие, но по зрелом размышлении избрала его преимущественно перед другими, с разумным расчетом допустила до себя и с мудрым постоянством, моим и его, долго наслаждалась исполнением моего желания. За это, кажется, более чем за мой любовный проступок, ты с особой горечью и упрекаешь меня, следуя более обычному мнению, чем истине, и говоря, что я сошлась с человеком низкого происхождения, как будто тебе нечего было бы гневаться, если б для этого я избрала человека благородного. При этом ты не замечаешь, что коришь не мой грех, а грех фортуны, очень часто возвышающей недостойных и оставляющей внизу достойнейших. Но оставим пока это, и взгляни немного на сущность вещей; ты увидишь, что у всех нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все души созданы одним творцом с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродетель впервые различила нас, рождавшихся и рождающихся одинаковыми, и те, у которых ее было больше и они в ней были деятельней, были названы благородными, а остальные остались неблагородными. И хотя противоположный обычай прикрыл впоследствии этот закон, он еще не уничтожен и не искоренен ни из природы, ни из добрых нравов; потому, кто поступает добродетельно, открыто заявляет себя благородным, и если называют его иначе, то виновен в этом не названный, а тот, кто называет. Оглянись среди всех твоих дворян, разбери их жизнь, нравы и обращение, а с другой стороны, обрати внимание на Гвискардо: если ты захочешь обсудить без раздражения, ты его назовешь благороднейшим, а своих дворян – худородными. Относительно доблестей и достоинств Гвискардо я не доверялась суждению кого бы то ни было, кроме твоих слов и моих глаз. Кто хвалил его, как хвалил его ты во всех достойных похвалы делах, за которые подобает поощрять достойного человека? И, поистине, не без основания, ибо, если меня не обманывали мои глаза, ты не расточил ему ни одной похвалы, которую я не видела бы оправданной делом, и гораздо лучше, чем в состоянии были выразить твои слова; но если и в этом отношении я вовлечена была как-нибудь в обман, я была обманута тобою. Скажешь ли ты еще, что я связалась с человеком низкого происхождения? Ты скажешь неправду. Если бы, пожалуй, ты назвал его бедняком, в этом можно было бы согласиться с тобою к твоему стыду, что ты сумел поставить достойного человека, твоего слугу, в столь хорошее положение; но бедность ни у кого не отнимает благородства, а только достояние. Много королей, много великих властителей были бедняками, и многие из тех, которые копают землю и пасут скот, были и пребывают богачами. Последнее сомнение, выраженное тобою, что тебе со мною сделать, отгони вовсе от себя, и если ты думаешь поступить на краю старости, как не приобык поступать, будучи молодым, то есть свирепствовать, обрати твою жестокость на меня, вовсе не расположенную обратиться к тебе с какою бы то ни было просьбой, на меня, как на первую причину этого проступка, если уж допустить проступок; ибо уверяю тебя, если ты не сделаешь со мною того же, что сделал или велишь сделать с Гвискардо, то мои собственные руки совершат это. Итак, ступай пролить слезы с женщинами и, ожесточившись, убей одним ударом его и меня, если тебе кажется, что мы того заслужили».
Принц познал величие духа своей дочери, но тем не менее не был вполне уверен, что она так твердо решилась привесть в исполнение содержание своих речей, как то говорила. Потому, уйдя от нее и оставив мысль проявить на ней каким бы то ни было способом свою жестокость, он захотел во вред другому охладить ее пылкую любовь и приказал двум сторожам Гвискардо без всякой огласки задушить его на следующую ночь и, вынув из него сердце, принести ему; все это, как было им приказано, они и сделали. Затем, на другой день, велев принести себе большую и красивую золотую чашу и положив в нее сердце Гвискардо, послал его с своим приближеннейшим слугою дочери, наказав ему сказать ей, отдавая: «Отец твой посылает тебе это, дабы утешить тебя тем, что ты наиболее любишь, как ты утешала его тем, что он всего более любил».
Гисмонда, не оставившая своего жестокого намерения, велела принести себе ядовитых трав и корней, и когда ушел отец, сварив их, сделала настой, дабы иметь его в готовности, если бы случилось то, чего она опасалась. Когда пришел к ней слуга с подарком и словами принца, она с твердым лицом взяла чашу и, открыв ее, увидев сердце и поняв слова, получила полную уверенность, что это – сердце Гвискардо. Потому, подняв глаза на слугу, она сказала: «Не подобало гробницы менее достойной, чем золотая, для такого сердца, как это; разумно в этом случае поступил мой отец». Так сказав, поднеся сердце к устам, она поцеловала его и затем продолжала: «Во всем и всегда, до этого последнего дня моей жизни, я видела полнейшую любовь ко мне моего отца, но теперь более чем когда-либо; потому воздай ему от меня за столь великий дар последнюю благодарность, какую мне придется воздать».
Так сказав, обратившись к чаше, которую крепко держала, и глядя на сердце, она проговорила: «О сладчайшая обитель всех моих радостей, да будет проклята жестокость того, кто заставил меня теперь взглянуть на тебя плотскими очами. Мне было совершенно достаточно во всякий час созерцать тебя очами духовными. Ты окончил свое странствие и совершил все, что уделила тебе судьба: ты достиг цели, к которой спешит всякий, покинул бедствия мира и его заботы и от своего собственного врага получил гробницу, какую заслуживала твоя доблесть. Ничего тебе недоставало, чтоб завершить погребение, кроме слез той, которую ты при жизни так любил; дабы и они у тебя были, Господь вложил в сердце моего безжалостного отца мысль послать мне тебя, и я отдам тебе мои слезы, хотя решилась умереть без слез на глазах, и с лицом, ничем не устрашенным; отдав тебе их, я без всякого промедления устрою так, что при твоей помощи моя душа соединится с тою, которую ты так заботливо хранило. В каком сообществе могла бы я пойти более довольная и спокойная в неведомые обители, как именно в ее сообществе? Я убеждена, она еще здесь и глядит на места своего и моего блаженства и, любя меня, в чем я уверена, ждет мою, которая ее выше всего любит».
Так сказав, точно у нее в голове был источник влаги, без всякого женского вопля склонившись над чашей, она принялась, плача, изливать слезы так обильно, что дивно было смотреть, причем бесконечное число раз целовала мертвое сердце. Ее девушки, стоявшие вокруг, не понимали, что то было за сердце и что означали ее слова, но, увлеченные жалостью, все плакали, напрасно спрашивая ее о причине ее плача и более того стараясь, как лучше умели и могли, ее утешить. Она же, когда, казалось, довольно наплакалась, подняв голову и осушив глаза, сказала: «О многолюбимое сердце, вся моя обязанность относительно тебя совершена, и мне ничего другого не остается сделать, как явиться с моей душою, чтобы быть ей в сообществе с твоею». Сказав это, она велела подать себе кувшин, где была вода, приготовленная ею за день назад, вылила ее в чашу на сердце, орошенное многими ее слезами, и, бесстрашно поднеся ее ко рту, всю ее выпила; выпив, с чашей в руке возлегла на свою постель, устроилась на ней насколько возможно приличнее, приложила к своему сердцу сердце мертвого любовника и, не говоря ни слова, стала ждать смерти. Ее девушки, увидев все это и услышав, хотя и не знали, что то за вода, которую она выпила, послали сказать обо всем Танкреду; он, опасаясь того, что и случилось, тотчас же спустился в комнату дочери, куда пришел как раз, когда она легла на кровать, но, явившись слишком поздно утешить ее нежными словами, видя, в каком она положении, начал жалостно плакать. На это она сказала ему: «Танкред, прибереги эти слезы для менее желанного горя, чем это, и не проливай их надо мною, которая их не желает. Кто видел когда-либо человека, разве только тебя, плачущего о том, чего он сам желал? Но если в тебе хотя отчасти жива любовь, которую ты питал ко мне, дозволь мне, в виде последнего дара, чтобы, если тебе не по сердцу было мое тихое и скрытое сожительство с Гвискардо, мое тело легло открыто с его телом, куда бы ты ни велел бросить его мертвого». Удушье от слез не позволило принцу ответить. Тогда молодая женщина, чувствуя, что ее конец настал, прижав к груди мертвое сердце, сказала: «Оставайтесь с Богом, ибо я кончаюсь». Ее глаза помутились, онемели чувства, и она удалилась из этой горестной жизни.
Таков, как вы слышали, был печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, которых Танкред, много оплакав и поздно раскаявшись в своей жестокости, при общем сетовании всех жителей Салерно, велел почетно похоронить в одной гробнице.
Новелла вторая
Монах Альберт уверяет одну женщину, что в нее влюблен ангел, и в его образе несколько раз соединяется с нею; затем, убоявшись ее родственников, бросается из окна ее дома и находит убежище в доме одного бедняка, который на следующий день ведет его, переодетого дикарем, на площадь, где его признали, а братия хватает и заключает его в темницу
Новелла, рассказанная Фьямметтой, не раз извлекала слезы из глаз ее подруг; когда она кончилась, король сказал с суровым видом: «Малоценной показалась бы мне моя жизнь, если б я мог отдать ее за половину того наслаждения, которое было у Гисмонды с Гвискардо, и тому не следует никому из вас удивляться, ибо я, живя, ежечасно испытываю тысячу смертей, а мне не дано за все это ни частички наслаждения. Но оставляя пока мои дела, как они есть, я желаю, чтобы Пампинея продолжала, сказывая жалостные рассказы, отчасти сходные с моими обстоятельствами; если она пойдет путем, открытым Фьямметтой, я без всякого сомнения ощущу падение росы на мое пламя». Услышав обращенный к ней приказ, Пампинея поняла более по чувству желание своих подруг, чем желание короля из его слов, и потому, будучи более расположена развлечь их, чем удовлетворить короля, разве исполнением его приказания, решилась, не выходя из сюжета, сказать смехотворную новеллу и начала: – Среди простых людей в ходу есть поговорка: коли худой человек слывет хорошим, хоть и сделает дурно, тому не поверят. Это дает мне обильное содержание, чтобы побеседовать о предложенной мне задаче, а кстати и доказать, каково и сколь велико ханжество монахов, которые в пространных одеждах, с искусственно бледными лицами, с голосами смиренными и заискивающими при попрошайничестве, громкими и страшными при порицании в других своих собственных пороков, доказывают, что они спасаются побираньем, а остальные отдаваньем, заявляют себя не людьми, имеющими, подобно нам, заслужить рай, а точно его собственниками и владельцами, раздающими всякому умирающему, согласно с завещанным им количеством денег, более или менее хорошее место, чем усиливаются обмануть, во-первых, самих себя, если они в это верят, а затем и тех, кто в этом верит им на слово. Если бы мне дозволено было сказать о них все, что следует, я тотчас доказала бы многим простецам, что они таят в своих обширных капюшонах. Дал бы Бог, за их лганье, чтобы со всеми случилось то же, что с одним миноритом, уже не молодым, но считавшимся в Венеции одним из наибольших казуистов. О нем мне особенно хочется рассказать, дабы, быть может, смехом и потехой поднять ваш дух, исполненный жалости к смерти Гисмонды.
Итак, достойные дамы, жил в Имоле человек преступного и порочного поведения, по имени Берто делла Масса, постыдные дела которого, хорошо знакомые жителям Имолы, довели его до того, что там не верили не только его лжи, но даже когда он говорил и правду; поэтому, увидя, что ему с его проделками здесь не место, он, отчаявшись, переехал в Венецию, вместилище всякой мерзости, рассчитывая найти здесь иной способ для своих злостных деяний, чем находил в других местах. Точно совесть укорила его за все порочное, совершенное им в прошлом, представившись, что его обуяло великое смирение и он стал набожным паче всякого другого, он пошел в монастырь и назвался братом Альбертом из Имолы; в таком облачении он начал представляться, что ведет суровую жизнь, усердно внушал покаяние и воздержание и никогда не ел мяса и не пил вина, – когда они не были ему по вкусу. Не успел никто и оглянуться, как из разбойника, сводника, обманщика и убийцы он сделался великим проповедником, не покидая вследствие этого указанных пороков, когда их можно было совершать втайне. Кроме того, став священником, он у алтаря, когда служил и многие то видели, постоянно проливал слезы о страстях Господних, ибо слезы почти ничего ему не стоили, лишь бы захотел. В скором времени, частью своими проповедями, частью слезами, он сумел так подманить венецианцев, что стал верным исполнителем и хранителем почти всех духовных завещаний, какие там совершались, сберегателем денег у многих, духовным отцом и советодателем почти большей части мужчин и женщин; так поступая, он из волка стал пастырем, и молва о его святости в тех местах была гораздо больше, чем когда-либо слава св. Франциска в Ассизи.
Случилось, что одна молодая женщина, придурковатая и глупая, по прозванию мадонна Лизетта из дома Квирино, жена одного знатного купца, уехавшего на галерах во Фландрию, пошла с другими женщинами исповедоваться у этого святого монаха. Когда она стояла перед ним на коленях и, как венецианка (они все ветреные), рассказала ему кое-что о своих делах, брат Альберт спросил ее, нет ли у нее любовника. На это она ответила с сердитым лицом: «Что это, отец монах, у вас точно нет глаз? Разве моя красота представляется вам такою же, как красота вон тех? У меня любовников было бы с лихвою, если б я того захотела, но не таковы мои прелести, чтобы я дозволила любить меня таковским. Многих ли видите вы, чья красота была бы равна моей? И в раю я была бы красавицей». Кроме того, она столько еще наговорила об этой своей красоте, что было противно слушать. Брат Альберт тотчас же догадался, что она с придурью, и так как ему представилось, что это почва для его орудования, он внезапно и безмерно в нее влюбился, но, оставляя увещанье до более удобного времени, он, дабы показаться святым человеком, принялся на этот раз упрекать ее, говоря, что это тщеславие, и далее в том же роде, почему женщина сказала ему, что он дурак и не понимает, что одна красота стоит более другой. Вследствие этого брат Альберт, не желая слишком ее разгневать, исповедав ее, отпустил с другими.
Обождав несколько дней, взяв с собою верного товарища, он отправился в дом мадонны Лизетты и, отойдя с нею к сторонке в одну комнату, где никто не мог его видеть, бросился перед нею на колени и сказал: «Мадонна, умоляю вас Богом, простите мне, что я сказал вам в воскресенье, когда вы говорили мне о своей красоте, ибо я так жестоко был избит в следующую ночь, что потом не мог встать с постели до сегодня». – «А кто побил вас таким образом?» – спросила дурочка. Сказал брат Альберт: «Я объясню вам это. Когда я ночью стоял на молитве, как то делаю обыкновенно, я внезапно увидел в моей келье великий свет, и не успел я обернуться, дабы посмотреть, что это такое, как узрел над собою прекраснейшего юношу с толстой палкой в руке, который, схватив меня за капюшон и повергнув к своим ногам, столько мне всыпал, что совсем изломал меня. Когда я спросил его потом, зачем он это сделал, он отвечал: „За то, что ты осмелился сегодня порицать небесные прелести мадонны Лизетты, которую я люблю более всего“. Тогда я спросил: „Кто же вы?“ На это он ответил, что он ангел. „О господин мой, – говорю я, – простите меня, умоляю вас“. Тогда он сказал: „Я прощаю тебе с тем условием, чтобы ты отправился к ней, как можешь скорее, и испросил себе прощение; если она не простит тебе, я сюда вернусь и так тебя угощу, что ты будешь охать, пока жив“. То, что он сказал потом, я не осмеливаюсь передать вам, если наперед вы меня не простите».
Мадонна, пустая голова, в которой соли было немного, млела, слушая эти речи, которые считала за чистую истину, а по некотором времени сказала: «Говорила я вам, брат Альберт, что мои прелести небесные; но, видит Бог, мне жаль вас, и дабы вам не учинили более ничего худого, я теперь же прощаю, с тем, однако же, чтобы вы сообщили, что такое сказал вам ангел». Брат Альберт ответил: «Мадонна, так как вы мне простили, я охотно скажу вам об этом, но об одном напомню вам: что бы я ни открыл вам, берегитесь говорить о том кому бы то ни было на свете, если вы, счастливейшая, какая обретается ныне на свете, женщина, не хотите испортить вашего дела. Этот ангел поручил мне сказать вам, что вы так ему нравитесь, что он много раз явился бы побыть с вами ночью, если б не опасался испугать вас. Ныне он велит передать вам через меня, что желает прийти к вам как-нибудь ночью и пробыть с вами некоторое время; а так как он ангел, и если б явился во образе ангела, вы не могли бы дотронуться до него, он и говорит, что, в удовольствие вам, он хочет предстать в человеческом образе и потому велит послать ему сказать, когда вы желаете, чтобы он явился, и в каком образе, он и явится; почему вы можете считать себя блаженной, более чем какая иная из живущих женщин». Мадонна-разиня сказала тогда, что ей очень приятно быть любимой ангелом, ибо и она очень его любит и никогда не обходится без того, чтобы не зажечь свечу в четыре сольда, где лишь увидит его намалеванным; в какой бы час он ни пожелал прийти, он будет доброжеланным, ибо найдет ее совсем одну в ее комнате; но с одним условием, что он не должен покидать ее ради Девы Марии, что ей сказали о его любви и что повсюду, где она только его видит, она становится перед ним на колени; от него зависит, в каком образе он желает показаться, лишь бы она не ощутила страха. Тогда брат Альберт сказал: «Мадонна, вы говорите разумно, и я хорошо улажу с ним все, о чем вы мне говорите, но вы можете оказать мне великую милость, которая ничего не будет вам стоить, а милость эта – та, чтобы вы пожелали, чтобы он явился в моем теле. И послушайте, чем вы мне окажете милость: он вынет душу мою из тела и поместит ее в рай, а сам войдет в меня, и пока он будет с вами, до той поры душа моя будет в раю». Говорит тогда мадонна-ума не напрядешь: «Хорошо, я согласна, я желаю, чтобы в возмещение ударов, которые он дал вам из-за меня, вы удостоились этого утешения». Тогда брат Альберт сказал: «Итак, устройте, чтобы в эту ночь дверь вашего дома была открытой, дабы он мог войти, ибо, являясь в человеческом теле, как он и явится, он может войти только через дверь». Женщина ответила, что это будет исполнено. Брат Альберт удалился, а она пришла в такое восторженное состояние, что сорочка отставала у ней от спины, и за тысячу лет показалось ей время, пока не посетит ее ангел.
А брат Альберт, сообразив, что ночью ему надо быть наездником, не ангелом, начал подкреплять себя сластями и всякими хорошими вещами, чтобы его не так-то легко сбросили с коня. Получив отпуск из монастыря, как настала ночь, он с товарищем пошел в дом одной своей приятельницы, откуда и в другие разы отправлялся, когда ходил гоняться за кобылами; отсюда, когда ему показалось, что настало время, он, переодевшись, отправился в дом той женщины; войдя в него, преобразил себя, с помощью разных принесенных им безделушек, в ангела и, взобравшись наверх, вступил в комнату дамы.
Та, как увидела что-то белое, пала перед ним на колени, а ангел благословил ее, поднял и сделал ей знак лечь в постель, что она, охотно повинуясь, тотчас же и исполнила, а ангел прилег к своей поклоннице. Был брат Альберт красивый телом и крепкий, ноги отлично прилажены к туловищу; потому, когда он сошелся с мадонной Лизеттой, свежей и нежной, он показал ей другие виды, чем муж, и в течение ночи часто летал без крыльев, чем она признала себя очень довольной; да кроме того, он многое порассказал ей о небесной славе. Затем, с приближением дня, условившись относительно возвращения, он вышел со своими снарядами и вернулся к своему товарищу, которому, дабы не боязно было спать ночью одному, добрая служанка дома доставила любезное общество. А дама после обеда пошла со своими подругами к брату Альберту и сказала ему об ангеле и о том, что слышала от него о славе вечной жизни, и каков он с виду, присоединяя к тому невероятные басни. На это брат Альберт сказал: «Мадонна, не знаю, как вам было с ним; знаю только, что сегодня ночью, когда он явился мне и я сообщил ему о вашем поручении, он внезапно поместил мою душу среди стольких цветов и стольких роз, что такого количества здесь никогда и не видели, и я обретался в одном из восхитительнейших мест, какие когда-либо были, до нынешнего утра об утрени; что было тем временем с моим телом, не ведаю». – «А я-то вам этого и не говорю! – сказала дама. – Ваше тело всю ночь было в моих объятиях, с ангелом, а если вы мне не верите, посмотрите у себя под левой грудью, куда я задала ангелу такой большущий поцелуй, что знак останется на несколько дней». Сказал тогда брат Альберт: «Так сделаю же я сегодня, чего давным-давно не делал: разденусь и погляжу, правду ли вы говорите».
После долгой болтовни дама вернулась домой, а брат Альберт в образе ангела ходил к ней много раз, не встречая никакого препятствия. Случилось однажды, что, когда мадонна Лизетта была с одной своей кумой и обе спорили о красоте, она, желая поставить свою красоту выше всех других, будучи пустоголовой, сказала: «Если бы вы знали, кому нравится моя красота, вы бы умолчали о других!» Кума, любопытствуя о том услышать, ибо хорошо ее знала, сказала: «Мадонна, вы, может быть, и правду говорите, но во всяком случае, не узнав, кто это такой, свое мнение не так-то легко изменить». Тогда дама, будучи невысокого полета, ответила: «Об этом не следует говорить, кума, но моя страсть – ангел, любящий меня более самого себя, как самую красивую, по его словам, женщину, какая есть на свете или в приморье». У кумы явилось тогда желание расхохотаться, но она, однако, удержалась, чтобы дать ей поговорить далее, и сказала: «Бог мне судья, мадонна, коли ангел ваша страсть и говорит вам это, то так, вероятно, и должно быть; но я не воображала, что ангелы занимаются такими делами». – «Кума, – возразила женщина, – вы ошибаетесь: клянусь небом, он делает это лучше, чем мой муж, и говорит мне, что то же делают и там, наверху, но потому что я кажусь ему более красивой, чем кто-либо на небе, он влюбился в меня и часто приходит побыть со мной. Теперь видите ли, в чем дело?»
Когда кума ушла от Лизетты, время показалось ей за тысячу лет, пока она добралась до места, где могла все это пересказать: сойдясь на одном празднике с большим обществом женщин, она по порядку передала им эту быль. Те женщины сообщили это мужьям и другим женщинам, а эти другим, так что менее чем в два дня вся Венеция была полна этим слухом. Но в числе прочих, до сведения которых дошло это дело, были и зятья той женщины, которые, ничего ей не говоря, задумали отыскать этого ангела и разузнать, умеет ли он летать; несколько ночей они были настороже.
Случайно кое-какие вести о том дошли до сведения брата Альберта, который отправился раз ночью, чтобы укорить свою даму, и только что разделся, как ее зятья, видевшие, как он шел, уже были у двери ее комнаты. Как услышал это брат Альберт, понял, что это значит, встал и, не находя другого убежища, растворив окно, выходившее на главный канал, бросился оттуда в воду. Глубина была большая, а он умел плавать, так что никакого вреда себе не сделал; переплыв на другую сторону канала, он быстро вошел в один незапертый дом и попросил бывшего там человека, ради Бога, спасти ему жизнь, причем рассказал ему небылицы, каким образом он здесь в такой час, да еще и голый. Добрый человек, движимый жалостью, уложил его в свою постель, так как ему самому надо было пойти по своим надобностям, и сказал ему, чтобы он побыл здесь до его возвращения; заперев его, он отправился по своим делам. Зятья дамы, войдя в комнату, нашли, что ангел, оставив крылья, улетел; рассердившись, что их провели, они наговорили даме больших грубостей и под конец, оставив ее неутешною, вернулись к себе домой со снарядами ангела.
Между тем уже рассвело, и тот добрый человек, находясь на Риальто, услышал, как сказывали, что ангел ходил на ночлег к мадонне Лизетте, найден был там ее зятьями, со страху бросился в канал и неизвестно, что с ним сталось; потому он скоро догадался, что это и есть тот, что у него на дому. Вернувшись и узнав его, он после многих переговоров поставил ему такое условие, что если он не желает, чтобы он выдал его зятьям, пусть доставит ему пятьдесят дукатов, что и было сделано. Но когда после того брат Альберт захотел выйти оттуда, тот сказал ему: «На это нет никакого средства, коли вы не решитесь на одно. Сегодня мы справляем праздник: кто ведет человека, одетого наподобие медведя, кто наподобие дикаря, кто так, кто иначе, а на площади св. Марка устраивается охота, по окончании которой кончается и праздник, а затем всякий уходит с тем, кого привел, куда угодно. Если вы хотите, прежде чем разведают, что вы здесь, чтобы я повел вас туда одним из этих способов, я могу повести вас, куда хотите; иначе я не вижу для вас возможности удалиться отсюда неузнанным; ведь зятья дамы, предполагая, что вы где-нибудь здесь, всюду расставили сторожей, чтобы схватить вас».
Хотя и тяжело показалось брату Альберту пойти таким образом, тем не менее из страха перед родственниками дамы он решился, сказав тому человеку, чтобы он повел его, куда желает, и что, в каком бы виде его ни повели, он согласен. Тот, обмазав всего его медом и обсыпав сверху пухом, наложил на него цепь и надел на лицо маску, дал в одну руку большую палку, в другую на своре двух громадных псов, приведенных им с бойни, и послал человека оповестить на Риальто, что кто хочет видеть ангела, пусть идет на площадь св. Марка: это была «верность венецианца». Сделав это, он немного спустя вывел его, поставил впереди себя, а сам пошел сзади, держа его за цепь, и при крике многих, говоривших: «Что это такое? Что это такое?» (che xe quel? che xe quel?), повел его на площадь, где частью из тех, кто увязался за ними, частью из тех, которые, услышав оповещение, пришли с Риальто, народу собралось бесчисленное множество. Когда он туда добрался, в ожидании начала охоты, привязал своего дикаря к столбу на видном, высоком месте, где мухи и слепни сильно досаждали ему, так как он был обмазан медом. Когда тот человек увидел, что площадь порядком наполнилась, показав вид, что хочет спустить своего дикаря с цепи, сорвал с брата Альберта маску, говоря: «Господа, так как кабан не явился для охоты, а без него охоты нет, я желаю, чтобы вы не прошлись даром, а увидали бы ангела, спускающегося ночью с неба на землю развлекать венецианских женщин».
Лишь только спала маска, все тотчас же узнали брата Альберта, против которого подняли крик, осыпая его самыми обидными словами и величайшей бранью, которая когда-либо доставалась мошеннику, да кроме того бросая ему в лицо кто одну мерзость, кто другую. Так они продержали его долго, пока, на счастье, весть о том не дошла до его братии, из которой явились туда человек шесть; они, набросив на него рясу и отвязав его, не без великого гама им вслед повели его в свою обитель, где, говорят, он и умер в заключении после горестной жизни.
Так-то этот человек, которого считали добродетельным, не веря, когда он творил злое, осмелился выдать себя за ангела и, обратившись из него в дикаря, с течением времени был по заслугам опозорен и втуне оплакал совершенные им грехи. Да устроит Бог, чтобы то же соделалось и с другими, ему подобными.
Новелла третья
Трое молодых людей любят трех сестер, с которыми и бегут в Крит; старшая из ревности убивает своего любовника; вторая, отдавшись герцогу Крита, спасает первую от смерти, но убита своим любовником, который и бежит с первой. В этом убийстве обвинен третий любовник с третьей сестрой; будучи схвачены, они берут на себя вину, но от страха смерти, подкупив деньгами стражу, бегут, обедневшие, в Родос, где умирают в нищете
Выслушав заключение новеллы Пампинеи, Филострато несколько задумался, но потом сказал, обратившись к ней: «Есть кое-что хорошее в конце вашего рассказа, и он мне понравился, но перед тем уж слишком много было смеха, чего я не желал бы, чтобы там было». Затем, обратившись к Лауретте, он сказал: «Мадонна, продолжайте, по возможности, более подходящей новеллой, чем эта». Сказала, смеясь, Лауретта: «Вы уже очень жестоки к любящим, если только и желаете их злополучного конца; я же, исполняя ваше приказание, расскажу вам о троих, одинаково дурно кончивших, мало насладившись своею любовью». Так сказав, она начала:
– Юные дамы, как вам хорошо известно, всякий порок может обратиться в величайший вред для отдающегося ему, а часто и других; в числе прочих, наиболее необузданно увлекающих нас в опасности, представляется мне гнев, а это не что иное, как внезапное и неразумное движение, которое, будучи вызвано ощущением горя, отогнав разум и наведя мрак на наши умственные очи, возжигает в нашей душе пламя ярости. Хотя чаще это бывает с мужчинами, у одних более, у других слабее, тем не менее то же видели, и с еще более вредными последствиями, и на женщинах, ибо в них оно легче возгорается, горит более ярким пламенем и движет ими с меньшим удержем. И этому нечего удивляться, коли подумаем, что огонь по своей природе скорее охватывает легкие и рыхлые вещества, чем твердые и плотные; а ведь мы (да не поставят нам это мужчины в укор) нежнее их и подвижнее. Потому, видя, что мы к этому естественно расположены, и принимая в соображение, что как наша мягкость и благодушие являются успокоением и удовольствием мужчинам, с которыми нам приходится общаться, так гнев и ярость – большим досаждением и опасностью, я намерена, дабы нам с тем большею твердостью духа уберечься от этого, показать вам в моей новелле, каким образом любовь трех юношей и стольких же девушек стала, вследствие гнева одной из них, из счастливой – несчастнейшею.
Марсель, как вам известно, находится в Провансе у моря, древний и именитейший город, когда-то более изобиловавший богатыми людьми и знатными купцами, чем то видать теперь. Между ними был некто, по имени Нарнальдо Клуада, человек низкого происхождения, но добросовестный и честный купец, безмерно богатый поместьями и деньгами; у него было от жены несколько детей, из них три дочери, старше возрастом сыновей. Двум из них, близнецам, было по пятнадцати лет, третьей четырнадцать, и их родственники ничего иного не ждали, чтобы выдать их замуж, как возвращения Нарнальдо, отправившегося со своим товаром в Испанию. Двух первых звали: одну Нинеттой, вторую Маддаленой, а имя третьей было Бертелла. В Нинетту был влюблен, как только можно быть влюбленным, молодой, родовитый, хотя и бедный человек, по имени Рестаньоне, а она в него; и они так сумели устроить, что без ведома кого бы то ни было на свете наслаждались своею любовью, и уже пользовались ею довольно долго, как случилось, что два молодых приятеля, из которых одного звали Фолько, другого Угетто, оставшись богачами по смерти своих отцов, влюбились один в Маддалену, другой в Бертеллу. Когда Рестаньоне, которому указала на то Нинетта, это заметил, он задумал воспользоваться их любовью, чтобы помочь своей бедности. Сойдясь с ними, он стал провожать то одного, то другого, а иногда и обоих на свидание к их возлюбленным, а также и к своей; и когда ему показалось, что он достаточно сблизился и подружился с ними, он сказал им: «Дорогие юноши, наше общение могло убедить вас, какую любовь я к вам питаю и что для вас я сделал бы все, что сделал бы для самого себя; а так как я очень люблю вас, то намерен объявить вам, что мне запало на ум, а затем вы вместе со мною решите, что покажется за лучшее. Если ваши слова не обманывают, и еще судя по тому, что, кажется мне, я уразумел из ваших поступков, денно и нощно вы пылаете величайшей страстью к двум любимым вами девушкам, а я к третьей их сестре; и я берусь, если вы только на это согласитесь, найти для этой любви приятное и желанное средство, и вот какое. Вы – юноши богатейшие, я – нет; если бы вы захотели соединить в одно наши богатства, сделав меня вместе с вами третьим их владельцем, и решили бы, в какую часть света нам отправиться, чтобы проводить с их помощью веселую жизнь, я берусь наверно уладить так, что три сестры с большею частью отцовского имущества поедут с нами, куда мы пожелаем, а там мы станем жить каждый с своею, как три брата, счастливейшими людьми на свете. Теперь за вами – решить: желаете ли вы такого утешения, или оставите это дело».
Оба юноши, безмерно пылавшие, услышав, что девушки будут им принадлежать, не трудились долго над решением, а сказали, что, если последствие будет именно такое, они готовы все сделать. Получив такой ответ от молодых людей, Рестаньоне через несколько дней был у Нинетты, к которой мог ходить не без больших затруднений; побыв с нею некоторое время, он объяснил ей, о чем говорил с юношами, и многими доводами старался склонить ее к этому предприятию. Это было ему не трудно, ибо она гораздо более его желала получить возможность быть с ним, не возбуждая подозрения, потому она решительно ответила ему, что это ей по сердцу, что сестры сделают, что она захочет, особенно в этом деле, и сказала ему, чтобы он, как можно скорее, устроил все для того потребное. Вернувшись к двум юношам, сильно пристававшим к нему по поводу того, что он им говорил, Рестаньоне сообщил им, что относительно их дам дело уже идет на лад. Решив между собою отправиться в Крит, продав некоторые свои имения под предлогом, что желают поехать торговать на эти деньги, обратив в деньги все, что у них было, они купили скороходное судно, тайком отлично вооружили его и стали поджидать назначенного срока. С другой стороны, Нинетта, хорошо знавшая настроение сестер, сладкими речами так возбудила в них желание к этому делу, что им казалось, они не доживут до его исполнения. Поэтому с наступлением ночи, когда им следовало сесть на судно, три сестры, вскрыв большой отцовский сундук, вынув из него большое количество денег и драгоценностей и тихонько выйдя со всем этим из дому, встретили, по условию, своих, поджидавших их, любовников, немедленно сели с ними на судно и, пустив в ход все весла, удалились. Нигде не останавливаясь, они на следующий вечер прибыли в Геную, где недавние любовники впервые вкусили радость и наслаждение своей любви. Подкрепившись здесь, чем было нужно, они отправились далее и, переходя от одной гавани к другой, еще до наступления восьмого дня прибыли без всякого препятствия в Крит, где купили большие, прекрасные поместья, а недалеко от Кандии построили роскошные и прелестные жилища. Здесь, обзаведясь многочисленной прислугой, собаками, ловчими, птицами и конями, среди пиров и празднеств и в веселии они стали жить со своими возлюбленными, точно бары, будучи счастливейшими в свете людьми.
Когда они пребывали таким образом, случилось (как мы то видим, бывает ежедневно, что хотя известная вещь и нравится, но при избытке надоедает), что Рестаньоне, очень любившему Нинетту, с той поры, как он без всякого опасения мог наслаждаться ею по желанию, она стала надоедать, и вследствие того его любовь к ней умаляться. На одном празднике ему сильно понравилась одна девушка, уроженка того места, красивая и родовитая, и он принялся ухаживать за нею, начал оказывать ей особенное внимание, устраивая для нее празднества; заметив это, Нинетта стала так ревновать его, что он не мог сделать ни шагу, чтобы она не узнала и затем не печалила его и себя попреками и гневными выходками. Но как излишество чего-нибудь порождает отвращение, а отказ в желаемом усиливает к нему стремление, так гневные выходки Нинетты увеличивали в Рестаньоне пламя новой привязанности; что бы там ни вышло с течением времени, добился ли Рестаньоне любви милой ему женщины, или нет, только Нинетта была твердо уверена в первом, кто бы ей о том ни донес; от этого она впала в такую печаль, а из нее в такой гнев, от которого последовательно перешла к такой ярости, что, обратив любовь, которую питала к Рестаньоне, в жестокую ненависть, ослепленная своим гневом, решила смертью отомстить за стыд, который он, казалось, учинил ей. Раздобыв старуху гречанку, большую мастерицу готовить яды, она убедила ее обещаниями и дарами составить смертоносную жидкость, которую, не спросив ни у кого совета, она дала однажды вечером выпить разгоряченному и ничего не остерегавшемуся Рестаньоне. Такова была сила жидкости, что она умертвила его еще до наступления утра. Когда Фолько и Угетто и их дамы о том услышали, не зная, от какого яда он умер, вместе с Нинеттой горько оплакали его и велели похоронить с почестями. Но несколько дней спустя случилось, что за какое-то преступное дело схвачена была старуха, приготовившая для Нинетты ядовитую жидкость, и под пыткой, в числе других преступлений, призналась и в этом, точно объяснив, что от этого произошло; вследствие чего герцог Крита, ничего никому о том не говоря, велел однажды ночью втихомолку окружить дворец Фолько и без какого-либо крика и сопротивления схватил и увел Нинетту, от которой без всякой пытки тотчас же выведал, что желал, относительно смерти Рестаньоне. Фолько и Угетто тайно узнали от герцога, а от них и их дамы, почему взята была Нинетта, что было им очень неприятно, и они прилагали всякое старание, чтобы спасти Нинетту от костра, к которому, по их мнению, ее осудят, как вполне того заслужившую; но, казалось, все это ни к чему не приведет, ибо герцог твердо стоял на том, чтобы правосудие над ней совершилось. Маддалена, которая была молода и красива и за которой долго ухаживал герцог, тогда как она никогда не соглашалась сделать что-либо ему в угоду, вообразила, что, угодив ему, она может спасти сестру от костра, и осторожно дала ему знать через посланного, что она всецело к его услугам, если воспоследует от того двоякое: во-первых, чтобы ее сестра возвращена была ей живой и здоровой, и, во-вторых, чтобы это дело осталось скрытым. Выслушав это послание, которое было ему по сердцу, герцог долго обдумывал сам с собою, следует ли ему так поступить, но, наконец, решился и заявил свое согласие. Для этого он, с ведома дамы, велел однажды ночью задержать Фолько и Угетто под предлогом, что желает разузнать от них о деле, а сам тайно отправился на побывку к Маддалене. Перед тем он притворился, будто приказал посадить Нинетту в мешок и в ту самую ночь утопить в море; теперь он привел ее к сестре, отдал ей в награду за ночь и, удаляясь утром, попросил ее, чтобы эта ночь, первая их любви, не была последней; кроме того, наказал ей отослать виновную женщину, дабы ему не вышло от того поношения и не пришлось снова принять против нее меры строгости.
На следующее утро Фолько и Угетто, слышавшие, что ночью Нинетту утопили, чему они и поверили, были освобождены; когда они вернулись домой, чтобы утешить своих дам в смерти сестры, Фолько догадался, что она здесь, хотя Маддалена и сильно старалась скрыть ее, чему он очень удивился, тотчас же заподозрив Маддалену, ибо до него уже доходили слухи о любви к ней герцога, и спросил ее, как то могло статься, что Нинетта здесь. Маддалена сочинила длинную басню, дабы объяснить ему это, но он, как человек хитрый, плохо тому поверил и заставил ее сказать правду, что она после многих пререканий и сделала. Сраженный горем и воспламенившись гневом, Фолько вынул меч и убил ее, тщетно умолявшую его о милости; убоясь гнева и суда герцога, оставив ее мертвой в комнате, он пошел туда, где находилась Нинетта, и с чрезвычайно веселым видом сказал ей: «Отправимся тотчас же, куда твоя сестра решила, чтоб я повез тебя, дабы ты снова не попалась в руки герцога». Нинетта поверила этому и, исполненная страха и желания удалиться, не простившись с сестрою, вместе с Фолько снарядилась в путь с наступившей уже ночью; с теми деньгами, которые успел захватить Фолько, а их было немного, они, направившись к морскому берегу, сели в лодку, и никто никогда не узнал, куда они пристали.
Когда наступил следующий день и Маддалена найдена была убитою, некоторые, питавшие к Угетто зависть и ненависть, тотчас же донесли о том герцогу; вследствие чего герцог, сильно любивший Маддалену, исполнясь гнева, поспешил в ее дом и, схватив Угетто и его даму, ничего еще не знавших об этом деле, то есть о бегстве Фолько и Нинетты, принудил их к сознанию, что они вместе с Фолько виновны в смерти Маддалены. Вследствие этого сознания, не без причины опасаясь смерти, они с большими предосторожностями подкупили своих стражей, дав им несколько денег, которые тайно спрятали на всякий случай у себя в доме, и, не имея времени захватить с собою что-либо из своего имущества, сев в лодку вместе с стражами, ночью бежали в Родос, где в бедности и нужде прожили недолго. К такому-то исходу привела неразумная любовь Рестаньоне и гнев Нинетты и их самих и других.