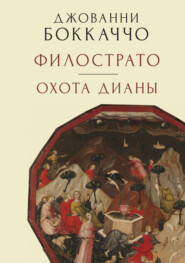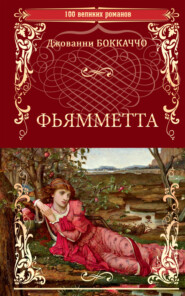По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Декамерон. Пир во время чумы
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Противоречие итальянского Возрождения
I
Понятие итальянского Возрождения – сложное, и разъяснения ему я не нахожу в новейших трудах Гейгера и Кертинга, специально ему посвященных. Возрождение предполагает нечто отжившее и мертвое, снова возникающее к жизни; дело идет об образовательном классическом предании; между тем именно в Италии оно никогда не замирало не только в школе, но и в бытовом обиходе и в остатках древних институтов, в обилии вещественных памятников древности. Нормандские школы XII века произвели более блестящую латинскую поэзию, чем современные ей в Италии, но это было делом старания и выучки, скоро уступившим схоластическому течению мысли. В Италии классическая традиция не знала таких проблесков, но держалась ровнее, потому что ее средой была не школа, а общество, сознававшее в ней нечто свое, элемент делового и культурного общения. Оттого здесь долее, чем где-либо, латинский язык сохранил значение литературного, в известном смысле живого языка, а итальянский явился в первой роли позже других романских, ибо в его обособлении дольше не чувствовалось нужды. Зато, когда итальянская поэзия освободилась от влияния провансальских и сицилианских образцов, формально ее определивших, она сразу заявляет себя в руках болонских поэтов и флорентийских представителей нового поэтического стиля продуктом страны, в которой образовательное предание древности издавна питало и философское сознание, и вкус к изящному, разумеется, в границах своей доступности и сохранности и в пределах, допускаемых христианством. На вершине этого развития стоит Данте; он заканчивает собою средневековый период итальянского развития. Кертинг[91 - Die Anfange der Renaissance in Italien, I, с. 106–107.] не допускает этого термина для Италии: в ней не было ничего «mittelalterlich»[92 - Средневекового (нем.)]; он не в меру принижает в ее развитии значение христианского элемента и спасается от наглядного противоречия заявлением, что Данте не столько итальянский, сколько общечеловеческий (средневековый, христианский) поэт. Построение совершенно не нужное, по крайней мере, для Кертинга; оно понятно было бы в системе, которая усмотрела бы в явлении Возрождения лишь крайнее и более яркое выражение никогда не прекращавшегося процесса; в этом процессе пришлось бы отвести место и для Данте и в угоду целостного впечатления затушевать христианские силуэты картины. Но ведь, по Кертингу, почин Возрождения принадлежит Петрарке; и Альбертино Муссато, и Брунетто Латини, и Феретто – лишь его провозвестники. Стало быть, преувеличение оказывается лишним.
Рассказчики Декамерона. Миниатюра XIV века
Говоря о «средних веках» в Италии, я не смешиваю их понятия с параллельным развитием по ту сторону Альп, которое мы отмечаем тем же названием. Разница между тем и другим явлением в количестве образовательных факторов. Вне Италии таким фактором являлась Церковь: она – носительница и христианского учения, и латинской грамотности; под ее сенью показываются и первые всходы того, что названо было, едва ли правильно, средневековым Renaissance (Карл Великий; Отгоны), всходы, быстро увядшие, ибо под ними не было питающей почвы. Чем-то не церковным, классически плотским отзываются лишь резвые песни голиардов, странствующих клириков; но их протест – протест фаблио: он не принципиален, не опирается на направление, которое в силах было бы потягаться с влиянием Церкви. Все эти движения, отрицательные по виду, и выходили из нее, и к ней возвращались; когда, позднее, влияния итальянского Возрождения коснулись Германии, они быстро вошли в течение церковной реформы.
В Италии рядом с Церковью, вооруженной преданиями римской администрации и латинской школы, всегда существовало светское образовательное предание классицизма, начиная от учителей и риторов готско-лангобардской поры до традиции средневекового ученого нотариата. Здесь, стало быть, находились налицо два образовательных фактора, не практически, но принципиально противоположных. На деле между ними происходило примирение, характерное для всех средних веков, не выключая и Италии: содержание классической образованности, насколько оно было доступно, втягивалось в жизнь и литературу христианского общества, располагаясь по его клеткам, обогащая его, но и поступаясь частью своей сущности. Как классические образы троянских героев и Александра Македонского приняли в средневековой эпике обличие и нравы современных рыцарей, так Вергилий явился провозвестником Христа, а в мудрости древних философов искали подтверждения изречениям Соломона и Отцов Церкви. При таких условиях происходило насыщение новой культуры содержанием, если не духом, античной; что в Италии, при богатстве ее народно-классических воспоминаний, этот процесс должен был совершаться быстрее и полнее, понятно само собой. Как далеко можно было идти в этом направлении, – показывает лучше всего «Божественная комедия», поэма средневековая, но возможная лишь в Италии.
Но в Италии же должно было совершиться и то обратное движение, которому специально дают название Возрождения, привязывая его почин к имени Петрарки. Не римляне опускаются, как прежде, на землю, чтобы обратиться в итальянцев, а итальянцев зовут назад, ко временам Римской республики и империи. Центр симпатии переместился, и понятно почему. Именно в Италии обилие и народность классических воспоминаний должны были ранее всего повести к специальному занятию ими, к выделению их в особую область ведения, к объективизации науки о древности. В научном смысле это был шаг вперед: устранялась та чересполосица, то наивное смешение своего и чужого, древнего и нового, которое еще характеризует миросозерцание Данте; в обособлении древности, как чего-то самостоятельного, получилась точка отправления для критики, и критическое чувство изощрялось. Но тут же начинаются и недочеты: пристальное занятие древностью достигалось усидчивым, поглощающим трудом, притупляющим живой интерес к жизни и ее практическим спросам. Так было с Петраркой: отчуждение от жизни тем более опасное, что оно им не ощущалось, ибо и в его сознании, как в сознании людей предшествовавшего ему поколения, современная Италия была лишь продолжением старого Рима, могучего и славного, обязывавшего своей славой к подражанию. Там он искал политических откровений для итальянцев XIV в.: империя или республика, Карл IV или Кола di Rienzo – все равно, практически это безразлично, ибо то и другое можно обосновать достоверно на свидетельствах римских классиков.
Так разошлись, в противоположность к простодушному синкретизму Средних веков, жизненные требования с идеалами, навеянными ученым уединением. Если впоследствии они спускались к жизни, чтобы римскою параллелью оправдать свершившийся факт, тиранницида или республики, то это явление совершенно другого рода.
К этому противоречию присоединилось и другое. Чем отвлеченнее и объективнее занимались Петрарка и люди Renaissance классической древностью, тем шире раскрывалась пропасть между ними и христианством, обусловившим новую культуру. Если старому равеннскому грамматику Вильгарду явились демоны – любимые им классические поэты, чтобы поблагодарить его за предпочтение, которое он им оказывал перед Священным Писанием, то это – наивная церковная легенда додантовской поры; Петрарке демоны сомнения проникали в душу, идеи аскетизма и славы, личного счастья и христианского самоотречения боролись в нем, одни, унаследованные воспоминанием, другие, воспитанные его увлечением. Борьба не новая, хорошо знакомая средневековому человеку, с той разницей, что многое грешное и мирское, что прежде относилось на счет демонского соблазна, получило теперь освещение римского прецедента и, являясь в ореоле древнего величия, и пугало, и привлекало вместе. Борьба, знакомая и блаженному Августину, которого так любил цитировать Петрарка; но тот выходил из расторженности религиозных и философских учений своего времени к успокоительному синтезу христианства; этот всецело стоит в нем, но подновляет в его временном, церковном проявлении элементы разлада, которые ни в нем самом, ни в следующих поколениях никогда не окрепли в цельное миросозерцание, равносильное христианскому. Оттуда внутренняя и новая расторженность Петрарки; оттуда, в известной мере, и так называемая безнравственность Renaissance: естественный продукт быстрого роста итальянского общества, она не создана была противоречиями христианской и языческой этики, но могла находить себе оправдание в существовании двух нравственных критериев, из которых один был обязателен, как христианский, другой принадлежал народно-классической традиции, обновленной гуманизмом, поддержанной идеей римской солидарности и эстетическими предпочтениями народа-художника.
Архитектурное каприччио.
Художник – Дирк ван Дален. 1640 г.
Итак, противоречия практики и теории, язычества и христианства, христианской и языческой нравственности, этики и эстетики – таково впечатление итальянского Renaissance, разложившего видимую цельность итальянской средневековой культуры. Присоедините к этому и исконную двойственность ее источников, классических и христианских, привнесенных со стороны и туземных литературных направлений, и я оправдал заглавие предлагаемого обзора некоторых новых книг, посвященных Италии.
Итальянские республики были первые, попытавшиеся отменить у себя законодательным порядком крепостное право, явления рабства и личной зависимости. Первые шаги в этом отношении сделаны были еще в начале XIII в. Сиеной, затем Падуей (1235) и Брешией (1239): в 1256 г. Болонская коммуна скупила всех сервов своей области, запрещая им под страхом смерти вступать в какие бы то ни было отношения личной зависимости к частному лицу. Наконец, в 1289 году флорентийский народ положил, чтоб отныне никто не имел права ни продавать, ни покупать сервов, колонов и т. п. ни в постоянную, ни во временную собственность, ибо подобные сделки будут признаны недействительными и обложены пеней; право такого приобретения переходило всецело к Флорентийской коммуне, личный сервитут заменен государственным.
Что не одни соображения человечности руководили итальянскими городами в этом деле освобождения, понятно само собой. Занелли представляет себе, что до горожан и правительственных лиц могли доноситься стоны закрепощенного деревенского населения, и что эти стоны могли вызвать реакцию чувства в обществе, снова водворившем у себя рабство полстолетия спустя после акта освобождения! Последнее обусловлено было практическими нуждами горожан, борьбой Флорентийской коммуны, в которой только что восторжествовала партия гвельфов, с гибеллинскими баронами пригородья, опиравшимися именно на своих вассалов и колонов. Освобождая их, город отнимал главную силу у своих врагов, но интересно заметить, какими общими соображениями обосновывалась эта мера, внушенная необходимостью самозащиты: флорентийский закон начинается с заявления прирожденной человеку свободы и свободной воли, которую люди (jus gentium) склонили под иго рабства; болонский «Paradisus voluptatis» – книга, в которую вписаны были имена освобожденных – говорит о том же, но начинает с воспоминания об искупительной жертве Христа за человечество. Христианский принцип явился освещением свершившегося факта.
Немногим более полстолетия спустя после приведенного нами флорентийского закона рабство было восстановлено во Флоренции (около половины XIV в.) и в других итальянских городах; и не только восстановилось, но и нашло себе новое принципиальное оправдание. На этот раз дело шло не о туземных сервах и колонах, а о факте другого разбора. Уже начиная с VIII в. слышатся нарекания на торговлю рабами, которую вели венецианцы: с развитием итальянских колоний в Крыму определяется и ее главный рынок для Италии. Генуэзские колонисты Каффы, потворствовавшие генуэзской торговле рабами, сами начинают принимать в ней деятельное участие; впоследствии к ним присоединяются и флорентийцы, и итальянские семьи наполняются невольными представительницами всех возможных народностей. Из 339 рабынь, купленных во Флоренции в промежуток между 1366 и 1397 г., – 259 были татарки, 27 гречанок, 7 русских, 7 турчанок, 3 славянки, 3 черкешенки, 2 из Боснии и Албании, одна арабка, одна сарацинка и одна родом из Кандии. Акты купли и продажи дают точные подробности: 9 апреля 1412 г. десятилетняя русская девочка Маргерита была продана во Флоренции за 36 дукатов; в 1414 г. девятилетняя боснячка Andreola за 20; в 1422 – болгарка Катерина за 50: встречаются абхазки; под 1467 г. значится, что какие-то славянские торговцы во Флоренции привезли на продажу рабынь из Рагузы. Вообще, начиная с конца XV в., татарские рабыни встречаются реже, зато чаще сербки, болгарки, гречанки и албанки. Они входят в семьи в качестве мамок, служанок, чернорабочих, но нередко приобретают в ней хотя незаконное, но влиятельное положение. Их умеют выбирать; когда Филипп Строцци затевает жениться, его мать пишет ему в Неаполь в 1465 г.: советую обзавестись рабыней; русские нежнее комплексией и красивее, говорит она, – черкешенка крепка (forts sangue), хотя все они этим отличаются; лучше и выносливее всех татарки.
Новому бытовому факту личного рабства отвечало и новое законодательство, черпавшее свои положения из идей римского права. Торговля и обладание рабами обставлены были целым законоположением, выработанным до мелочей и все предусмотревшим: внешние приметы и число лет, наказание за побег и за совращение к бегству, наконец, факт беременности, если он не был оговорен в купчей крепости, ибо он умалял ценность рабыни.
Как примирялось это новое закрепощение личности с торжественным заявлением закона 1289 г. – о прирожденной человеку свободе? Евреи и язычники исключались из благодеяний того закона, и это исключение легко было перенести на новых рабов, между которыми большинство были язычники и магометане. Но дело в том, что новые хозяева их обыкновенно крестили, и инородческие имена вроде Stimati, Zoniaek, Cali, Cadobala, Cullofa и т. п. заменялись христианскими: Маргерита, Магдалина и т. п. Факт рабства с этим не прекращался, и явилась казуистика, упрочивавшая неволю христианина. На вопрос, дозволено ли продавать и покупать иноверного раба, крестившегося уже в состоянии рабства, известный новеллист XIV в. Саккетти отвечает утвердительно, ибо раб крестился будучи уже таковым и находился как бы в положении заключенного в тюрьму, лишенного права поручаться за себя и вступать в какие бы то ни было сделки. Крестить таких людей то же, что крестить быков; ничто не мешает отпустить невольника, если он добрый человек и христианин, но освобождать людей, каковы в большинстве рабы, хотя бы они были и христиане, дурно и грешно, ибо, лишив их страха палки, ты даешь ему возможность чинить зло. Подобные воззрения приводил и св. Антонин, епископ Флоренции, опирая существование рабства на божественном, человеческом и каноническом праве и допуская, что раб, крестившийся в неволе, может оставаться рабом, ибо «что не запрещено, считается допущенным». Юрист Marquado de Susanis говорит существенно то же самое; явилось даже оправдание рабства с гуманной точки зрения. «Слышал я от стариков, – говорит Понтано, – что купцы, торгующие в Черном море, выкупали из скифского (татарского) плена фракийцев и греков, дабы они не были в рабстве у варваров, ибо достойнее казалось, чтоб они прожили некоторое время в услужении, пока не окупят заплаченного за каждого из них, чем быть им добычей варваров и в вечной неволе, к посрамлению христианства». То же делается и ныне по отношению к тем, которых зовут черкесами и болгарами («quos burgaros et circassos vocant»), прибавляет автор.
Подобно освобождению сервов в 1289 г., и обновление рабства в половине XVI в. имело основание в жизни флорентийской коммуны, лишь впоследствии обобщенное в принцип и мотивированное законом. Бонги («Le schiave orientali in Italia[93 - Рабы с Востока в Италии (ит.)]», в «Nuova An-tologia», v. II, 1868) усматривает причину развития рабства в чуме 1348 г., умалившей число рабочих рук и поднявшей заработную плату; это и усилило спрос на привозных невольников и невольниц. Иначе понимает дело Занелли, связывая явление рабства с упадком древних флорентийских порядков, который обнаруживается с начала XIV в. в постепенном ограничении демократических учреждений, приведшем к тирании Медичи. Упадок политической свободы шел об руку с общественным, с понижением нравственного уровня и семейного строя; здесь и пустило корни рабство. Полагаю, что оба объяснения могут быть приняты совместно, не выключая друг друга в известных границах.
Древние формы итальянского брака, заключавшегося от рода к роду и от касты к касте, без счетов с чувствами брачующихся, должны были расшататься под влиянием индивидуализма, ранее, чем где-либо, проснувшегося в Италии и характерного для весенней поры ее Возрождения. Унаследованные условия семьи более не удовлетворяли, и личная жизнь искала себе пищи вне ее. В XIV в. женщина так же связана законом и обычаем, как и прежде; ее по-старому выдают и продают в чужой род, но она выработала в себе ловкость и хитрую сметку и характер, позволяющие ей пользоваться известной свободой в отношениях семейного рабства. При тех же условиях личного развития мужчина ищет удовлетворения вне семьи; браки становятся так редки, что Флорентийская коммуна поощряет наградами тех, кто женится к известному сроку, и налагает пени на нежелающих. Развитие содомии во Флоренции, в Венеции XV и XVI вв. достигло ужасающих размеров; венецианский совет издает против нее строгие постановления, куртизанки жалуются в 1511 г. патриарху Антонио Контарини, что у них отбивают заработок, тогда как флорентийские приоры пытаются остановить развитие порока, покровительствуя проституток. Все это дополняет картину начавшегося разложения семьи, в которой редко встречается строгий дантовский образ жены-матери, домовитой, прядущей и сторожащей у очага. Умаление численности рабочих рук вследствие чумы 1348 г. и упадок семейной деловитости вследствие отвлечения интересов в сторону индивидуальной жизни: обе причины могли одинаково содействовать усилению спроса на рабский труд. Мы уже слышали совет одной флорентийской gentildonna[94 - Благородная дама (ит.)] сыну: обзаводясь женой, обзавестись и работницей-невольницей. Что эти черкешенки, боснячки и татарки, введенные в семью, могли способствовать ее дальнейшему разложению и из положения рабынь переходить к рангу любовниц – не трудно себе представить (Zanelli, с. 31). «Нет большего горя, говорит в XIV в. Саккетти, – как видеть рабыню, мамку или служанку в роли барышни, за которой ухаживают родовитые люди, и не только ухаживают, но и женятся на них и заводят семью».
Е qual maggior dolore
che veder la fancella,
schiava, balia о ancella
damigella – mostrarsi?
E li gentili con loro infardara
e spesso ammogliarsi – e far famiglia.
(Morpurgo, 1. c, p. 59).
Правда, показания, собранные Занелли, представляют нам флорентийских рабынь последней трети XIV в. в далеко не привлекательном свете: в их «паспортных» отметках преобладает отдел увечий, порезов, встречаются даже указания на тавро, на следы оспы и т. п. Это, разумеется, не устраняет исключений, влиявших на разложение семейной среды. Роль рабов и рабынь в итальянской комедии XVI в. не была лишь отражением популярных тогда комедий Теренция, а вместе и известной роли, какую получил в обществе восстановленный римский институт рабства. И в этом случае, как в вопросе о безнравственности Возрождения, самостоятельно выработавшиеся формы жизни покрывались и оправдывались, случайно или нет, формулами римской. Я готов присоединить к этой параллели и другую: гетер обновленной традиции римской комедии и итальянских cortegiane[95 - Куртизанки (ит.)] XVI в., среди которых нередко встретишь образованных и по-своему развитых писательниц, вроде Вероники Франко или знаменитой Tullia D’Aragona, которую герцог Козимо освободил от позорной обязанности – носить вуаль или кайму желтого цвета, знак ее профессии. Льгота давалась ей как поэтессе, действительно отблагодарившей герцога посвящением ему своего «Диалога о бесконечности любви»[96 - См. S. Bongi, II velo giallo de Tullia DAragona, в Riv. Crit. Delia Litterat. Italiana, III, 3].
Безнравственность Renaissance, ее Unsittlichkeit, которую Кертинг[97 - Boccaccio’s Leben und Werke, c. 657] вменяет, между прочим, «Декамерону» – факт необходимой общественной эволюции, совершившейся в Италии ранее, чем в других странах Европы. Мы можем определить его несколькими словами: разложение бытовой семьи под влиянием индивидуализма. Общество, изображаемое средневековыми фаблио, не менее представляет соблазнов, чем общество «Декамерона», но оно цельнее, и его смех над какой-нибудь неблаговидной проделкой монаха или шашнями неверной жены не исключает их осуждения перед лицом христианской морали, хотя бы она и не высказывалась. Иначе в «Декамероне»: те же соблазнительные рассказы и тот же смех, но вместо одностороннего осуждения или признания является обсуждение, анализ мотивов, интерес к эстетической стороне поступка вне его нравственной оценки, ибо критерий нравственности стал разнообразнее с тех пор, как индивидуализм расшатал исключительность старого этического кодекса. Из того, что иные скабрезные новеллы рассказываются именно дамами, еще нельзя делать заключения (K?rting, там же, р. 658) о нравственном уровне общества: ведь сюжеты новелл были унаследованы вместе с наивным отношением к некоторым явлениям половой жизни, о которых позже нельзя было говорить без зазора; если осуждать эту сторону дела, то осуждение распространится и на фаблио, и на целые полосы средневекового развития. Дело не в содержании, а в новых отношениях к содержанию рассказов, в стремлении отыскать в них учительный элемент, отношение к общим вопросам жизни.
На эту дидактическую сторону «Декамерона», которую слишком часто забывают за его потешною и сатирической, обратил недавно внимание Биаджи[98 - Riv. Crit. Delia litterat. Italiana, 1, 2, с. 61–62], сообщая один любопытный, дотоле неизданный отзыв современника Боккаччо: о том, какими глазами смотрели на «Декамерон» и что в нем ценили современные ему люди. Да будут похвалены те, кто обращает свои труды на утешение прелестным дамам, ибо они – утеха света; так начинает свою речь безымянный автор. Чем больше у кого добродетели и знания, тем более он должен к тому стремиться: мудрые поэты пусть пишут книги, соединяя приятное с обилием поучений, дабы, читая их, либо слушая их чтение, дамы получали и удовольствие, и пользу: музыканты пусть сочиняют баллаты и мадригалы, дабы они наслаждались, их распевая или слушая их пение. Такое служение дамам не новое: глубокие ученые отдавали им свое знание, храбрые рыцари сражались ради них до смерти на турнирах, поэты называли их ангелами. Сказать по правде: нет такого строгого проповедника, осуждающего красоту и роскошь нарядов, который застоялся бы долго на кафедре, если бы в числе его слушателей не было замужних и вдовых дам. Чтоб их развеселить, он вставляет в проповедь, рядом с евангельским рассказом, какую-нибудь потешную новеллу; если бы довериться ему, то от смеха недалеко было бы и до чего другого. Иной раз в церкви какой-нибудь магистр или бакалавр толкует сидящим вокруг него дамам о житиях святых, внушая слушательницам необходимость чаще посещать монастырь, т. е. живущих в нем монахов, и не поднимется с места, если в то время келарь позвонит к трапезе, готов отказаться от еды и питья, лишь бы продолжить беседу. Одной он даст свою сорочку, другой – скапуларий и говорит: эти портные портят нам платья, шить не умеют, а вот дамы, те строчат ровно, точно бисером нижут. Так, порицая их с амвона, он тайно их похваливает; но Господь да накажет ту, которая пойдет, по отношению к ним, далее шитья и починки! И автор рассказывает по этому поводу совершенно боккаччиевский анекдот о своей соседке, пошедшей исповедоваться в келью и унесшей на своем белом платье слишком ясные следы черной монашеской рясы. Но не будем говорить об этом из уважения к священному сану, а похвалим тех, которые, во уважение нас, приложили труд к написанию некоторых прекрасных и приятных творений. Между теми, которых я теперь припоминаю, особой славы и похвалы заслуживает мессер Giovanni di Boccaccio, которому Господь да продлит жизнь и пошлет все по его желанию. Некоторое время тому назад он начал писать, в прозе и стихах, прекрасные и потешные книги в честь прелестных дам, которых помыслы обращены на хорошее и добродетельное и которые с удовольствием слушают или читают те книги и рассказы, отчего ему прибывает хвалы, а вам удовольствия. Между прочим, он сочинил одну прекрасную и потешную книгу, под названием «Декамерон», и т. д.
Так выделяется в «Декамероне», в оценке современника, элемент реального и скандального от поучительного, вызывающего на размышление, и последнему дается перевес: соединение и предпочтение, которые могли казаться немыслимыми, пока его не обновил современный французский роман реалистического направления. Я не приравниваю друг к другу оба явления, но только указываю на параллели. Та, что отделяет новеллу «Декамерона» от средневекового фаблио, общество Renaissance от средневекового, это элемент личной рефлексии, обращенный хотя бы и к низменным сторонам жизни. Зарождалась индивидуальность; «Декамерон» – выражение общества, тронутого ее новым поднятием, развитием самоопределенной личности, тогда как – мы видели – в его основах и нижних слоях человек не только не преуспевал в свободе, но и сильнее закрепощался в новом явлении рабства. Эту черту, может быть, не следует упускать из вида при оценке итальянского Renaissance, по крайней мере, его начал. Развитие гуманной, обогащенной самосознанием личности и параллельное развитие личной неволи указывает, что первое в известной мере совершалось на счет и силами второго, что одни освобождались для себя, перенося тяжелое иго труда на чужие плечи. Противоречие ли это Renaissance, и случайна ли аналогия с римским миром?
II
Разбирая сложение ранней итальянской Renaissance, как она выразилась в рассказах и миросозерцании «Декамерона», не следует упускать из вида и момент рыцарства. В Италии это был захожий, не выросший из жизни институт, явившийся со своим условным кодексом нравственности и выражавшей его поэзией в среду, представлявшую совершенно другие условия развития. Занесенные в Италию песни трубадуров говорили о служении даме сердца, выделенной из связи семьи и брака, о любви, обставленной целым ритуалом феодально-рыцарских отношений и искусственных поэтических формул. Поэты сицилианской и старофлорентийской школы подражали этим формулам, как чему-то данному, непререкаемому, не углубляя и не будучи в состоянии углубить их идеального содержания, ибо углубление не давалось жизнью. Она была слишком реальна и среди бесконечных перепевов провансальских образцов нередко давала себя знать проблесками реализма, начиная от Cielo dal Camo до флорентийских веристов XIII–XIV веков. Обновление провансальско-рыцарской поэзии совершилось на почве поэзии так называемого «нового стиля», среди которой стоит Данте: Мадонна провансальцев осталась, сохранился и ее культ, но содержание любви одухотворилось: Мадонна стала символом, олицетворением чего-то высшего; любовь, обращенная к ней, переходит за свою непосредственную, земную цель к добродетели, к высшему благу; поэзия получает символический и аллегорический характер; ее настоящей задачей становится представление какой-нибудь философской истины, облеченной в красивые образы, как определял поэзию Данте[99 - Gaspari у Crescini, 1. с, с. 136]. Образ дан действительностью, реальным увлечением, но ему дается поэтическое значение лишь под условием, что оно может быть обобщено до какого-нибудь этического принципа, просветляющего и материальный образ любимой женщины. Такова любовь Данте к Беатриче; таково и последнее слово рыцарско-провансальского течения – в области итальянской поэзии.
Иное значение получил рыцарский кодекс в отражениях итальянской жизни и быта. Здесь он застал семью, в которой индивидуализм уже начал проявлять свое разрушительное действие, создавая новые отношения, освобождая чувство любви от стеснений ригористического обычая. Рыцарский кодекс помог упорядочить эти отношения, сообщив им прочность своего этикета и внешний блеск, не изменяя их сущности. Богатые горожане подражают рыцарям не только в Провансе, но и в Италии: устраивают турниры, охотятся, ухаживают за дамами, толкуют о вопросах любви в corti d’amore, занесенных из Прованса; но содержание любви осталось свое, реальное, ограниченное ближайшими целями удовлетворения, узкое и вместе более полное, пластически-определенное. В этом сложном понимании любви, в котором итальянский реализм прикрыт идеалистическими отношениями рыцарства, первый элемент должен был найти поддержку и оправдание в эстетических критериях древней поэзии, вновь раскрытой Возрождением XIV и последующих веков. Такова любовь в «Декамероне», такова любовь и самого Боккаччо. Петрарка воспевает Лауру, в сущности, как трубадур; новое в его поэзии – не содержание идеала, а мощный субъективизм поэта, его художественная виртуозность, воспитанная чтением классиков. По отношению к содержанию идеала Лаура настолько архаистичнее Беатриче, насколько поэзия нового флорентийского стиля была хотя бы и односторонним прогрессом против провансальской. Итальянское Возрождение и его понимание любви мы находим в отношениях Боккаччо к его Фьямметте.
Фреска с портретом Джованни Боккаччо на вилле Кардуччо. Художник – Андреа дель Кастаньо. 1450 г.
Благодаря остроумным работам Крешини, мы можем теперь глубже заглянуть в историю этой привязанности, которую Кертинг пытался недавно обелить, удалив из нее все казавшееся ему предосудительным, главным образом момент действительной, чувственной страсти. Опровержение этого взгляда не заставило себя долго ждать; странным кажется, как близко, так сказать, на виду лежали некоторые автобиографические откровения Боккаччо, мимо которых проходили без внимания, пока не указал на них Крешини. Боккаччо родился в Париже в 1313 г.; мать его, Жанна, была из дворянского рода: преимущество, которым сын впоследствии любил гордиться. Отец его, приезжавший в Париж по торговым делам, увлек бедную девушку обещанием брака к связи, плодом которой был наш Джованни Боккаччо. Покинув Жанну, отец уехал в Тоскану, женился там на Маргарите di Gian Donato de’ Martoli и выписал к себе малолетнего сына. Жизнь в отцовском доме была невеселая: отец был практик, помешанный на обогащении и скряжничавший, когда дела, по обыкновению, шли плохо; если Боккаччо не может простить ему поступка с его матерью, то в этом едва ли не следует видеть отголоска отношений, установившихся между мачехой и пасынком. Этим объясняется, почему еще мальчиком Боккаччо был отдан на сторону, в выучку к купцу, а впоследствии послан в Неаполь, чтоб усовершенствоваться в торговом деле, которое, впрочем, с дозволения отца он оставил для канонического права. Но и это занятие не было по сердцу молодому поэту: его более интересовали беседы с неаполитанским астрономом Andalone del Negro, кружок ученых, собравшихся под сенью двора короля Роберта, общество юного итальянского Renaissance, где блестящие формы французского рыцарства легли на чувственный фон итальянского быта, народно-классические воспоминания жили на Байском берегу, у гробницы Вергилия, и новая наука древности находила себе привет у короля, покровителя Петрарки. В этом обществе сложился эротический идеал Боккаччо, дающий нам ключ к его «Декамерону», пережитый им по всей лестнице увлечений – до той страсти включительно, которая надолго и серьезно им овладела, до страсти к Марии, побочной дочери короля, которую Боккаччо воспевал на все лады под именем Огонька, Fiammetta. Это была страстная, чувственная красавица, окруженная толпой обожателей, которых она капризно меняла, без жалости «разбивая сосуд, из которого напилась». Беззаветная страсть Боккаччо заинтересовала ее, она обнадежила его, робкого и нерешительного, и, отдавшись ему, завладела им всецело. Его canzoniere полон мотивов этой начинающей и торжествующей любви; его «Filostrato» написан им в пору томительных ожиданий, что и ему будет то же, что Троилу, и его осчастливит своей любовью Fiammetta – Criseida. Еще более подобных автобиографических указаний в другом романе Боккаччо, «Filocolo», в котором, по желанию своей милой, он пересказал старую поэтическую сагу о Florio и Blancheflore[100 - Флуар и Бланшефлер]; Florio – это он, Blancheflore – Fiammetta. Но роман и действительность вскоре разошлись. Fiammetta изменила; начатый в Неаполе, «Filocolo» дописан во Флоренции уже под впечатлением утраты и жгучих воспоминаний. В серой, будничной обстановке, в доме нелюбимого отца-старика Боккаччо снится лазурная декорация Байского берега и красавица Fiammetta. Он любит ее так же страстно, как и прежде, и все еще надеется; его «Filocolo», «Ameto», «Amorosa visione»[101 - «Любовное видение» (ит.)] говорят все о том же: несколько раз, в разных эпизодах и по разным поводам он рассказывает историю своей любви, свое первое посещение Фьямметты в отсутствие мужа, когда, изумленная, она сопротивлялась лишь тому, чего сама желала. Прелесть первого свидания – вот образ, который он постоянно лелеет; он не в силах отвязаться от него; анализ ощущений, вызванных изменой и разлукой, является для него необходимостью, наслаждением. Его чувство не ослабело, но оно должно было стать более спокойным и объективным, когда вслед за откровениями «Filocolo» и «Ameto» он писал свою «Fiammetta». Мы знаем, что его покинули, и он томится ревностью: в «Fiammetta» отношения воображаются обратные: оставлена Фьямметта, и на нее перенесены все муки ожидания и постоянно обманутых надежд, что ее милый еще вернется. Самая возможность такого художественного акта, переносящего вне себя, в иную личность историю глубоко выстраданного чувства, показывает, что его страстный тон понизился. Отношения к Фьямметте более не восстановились, но благодарная память любовника еще долго будет хранить ее образ. В этом образе нет ничего идеального, что называется платоническим. То и другое могло явиться и явилось в самом деле в посмертных воспоминаниях – когда Фьямметта умерла, все счеты с землею кончены, страстным мотивам не было более места, и усопшая могла явиться в обычном просветлении небожительницы, с ореолом Беатриче и Лауры – по смерти. Вообразить себе подобное просветление при жизни, представить себе чувственные формы Фьямметты на стезях неземного видения, по которым так воздушно парит Беатриче, едва ли кому удастся. Не удалось это и Боккаччо; если он попытался это сделать, то это одно из противоречий, насилующих вкус, нередких в переходный период стилей и идеалов, когда старые еще окружены уважением и участием и обязывают к подражанию, когда интимное их понимание уже ослабело. Поэты «нового стиля» выработали особые приемы поэтической идеализации, в которой аллегории и отвлечению отводилось первое место; а Боккаччо был поклонником Данте. На путях его страсти к Фьямметте недостижим был достойный ее апофеоз; и вот Боккаччо заимствует его внешние формы у поэтов другого направления, как бы не замечая противоречий. Так в «Amorosa visione», где и в образах, и в сновидениях так резко бьет струя чувственности, Фьямметта могла явиться символом руководящей добродетели, ее дщерью, figlinola di virtu[102 - Дочь добродетели (ит.)]. Еще страннее поражает это сочетание своего и чужого в Ameto. Мы в классическом пейзаже: Лия и шесть других нимф просвещают грубого охотника Ameto, воспитывая в нем человечность; в заключение является Венера. В числе нимф названа и Фьямметта: под личиной классических кличек живые люди и местные воспоминания, которые отчасти удалось разгадать. До сих пор сочетание естественно, классическая травестия стоит в уровень с содержанием рассказов, посвященных любви. Мопса рассказывает о себе, что она с юности посвятила себя служению Палладе, когда же пришла в лета, ее выдали замуж за человека, одно имя которого, Нерон, наводило на нее ужас. Недовольство мужем заставило ее тем прилежнее отдаться культу своей богини. Однажды она увидела с берега красивейшего юношу в ладье, боровшегося с морскими волнами; впоследствии она узнала, что его зовут Афрон. Увлеченная им по велению Венеры, она манит его к берегу, но напрасно; ее мольбы и просьбы не трогают юноши, который продолжает отдаваться бешеной игре волн. Ее страсть растет: забыв женскую стыдливость, она обнажает свои прелести, и побежденный ими Афрон поворачивает ладью к берегу.
В том же роде рассказы других нимф, и мы останавливаемся в раздумье над загадочным их значением, когда по мановению жезла аллегории и нимфы, и вся классическая фантасмагория неожиданно разъясняются: Мопса – не что иное, как мудрость; Афрон – неразумный человек, пускающийся в житейское море, не слушая советов благоразумия и мудрости, которая становится деятельной, во благо людям, по побуждению госпожи – Венеры. Вначале ее помощь оказывается недействительной, но ее красота производит в конце концов свое действие на неразумных и преобразует их нравственно. Так было и с Афроном, говорит Мопса: когда он вышел на берег и удостоился моих объятий, он преложил грубость на мягкость, и нет теперь во всей нашей области и нашем деле имени, которое было бы окружено большей похвалой, чем его имя.
В этой связи и все другие нимфы разрешаются в аллегории добродетелей, их любовные рассказы – в повесть об обращении на путь истины; Фьямметта – не что иное, как надежда, поддерживающая Caleone – Боккаччо, который сам изображает отчаяние.
Эти попытки Боккаччо в области «нового стиля», непоэтические сами по себе, любопытны для его литературного положения и для требований, какие в то время предъявлялись читателем. Если рассказ Мопсы мог представиться поучительным, почему бы и новелла «Декамерона» не могла получить такое же значение? При оценке его этической стороны надо принять в расчет привычку читать за строками, воспитанную литературой аллегоризма.
Когда, забывая о ней, Боккаччо ограничивался сочетанием современного или нового содержания с фабулами и формулами древней поэзии, указанным противоречиям не было места, хотя и не всюду достигалось желанное единство стиля. Иной раз, как, например, в мифологических партиях Filocolo, классический элемент является со стороны, как условно-торжественная обстановка, обременяющая ход рассказа, не овладевающая им. В других случаях Боккаччо глубоко проникается интересом античного сказания, когда, например, пользуется «Фиваидой» Стация для своей «Тезеиды». Что он способен был на лучшее в этом направлении, тому служит блестящим доказательством литературная история его «Fiammetta». На психологический момент, представленный этим романом в жизни поэта, указано было выше: Боккаччо долго страдал и не раз повествовал о своих страданиях; когда вслед затем у него явилась мысль перенести эту внутреннюю борьбу на другое лицо, в сердце обманувшей его красавицы, нам интересно узнать литературный повод к такому объективированию. Была ли здесь простая виртуозность поэта, продолжавшего играть остывшим чувством по старой любви к его анализу? Это вероятно, хотя несомненно также, после указаний Крешини, что именно «Героиды» Овидия навели Боккаччо на сюжет любящей женщины, покинутой неверным любовником и рассказывающей о своем неутешном горе. Вместо Филлиды, оплакивающей своего Демофонта, явилась Фьямметта, сетующая о Panfilo – Boccaccio; тот и другой удалились на родину, обещая вернуться через четыре месяца; срок прошел, а милого все нет. И вот Фьямметта плачет, обращаясь к отсутствующему другу: «Скажи мне, Панфило, сделала ли я что-либо такое, чем заслужила быть преданною тобой с таким коварством? Никакого проступка я не совершила, кроме того разве, что неразумно влюбилась в тебя и больше чем должно доверилась тебе и полюбила тебя, – но за этот поступок я не заслужила от тебя такого наказания. Одно злодеяние я знаю за собой, совершив которое навлекла на себя гнев богов: это то, что я приняла тебя, преступного и безжалостного юношу, на свое ложе, допустила твоим чреслам коснуться моих… Увы! отчего день, предшествовавший той ночи, не был мне последним, чтоб умереть мне честной!.. Не подумал ты разве, как мало тебе чести в том, что ты обманул доверившуюся тебе женщину? Моя простота заслуживала большей правдивости, чем твоя, а я не менее доверилась тебе, чем призванным тобой богам, которых умоляю: пусть будет лучшей частью твоей славы то, что ты обманул женщину, любившую тебя более самой себя».
Все эти излияния оказываются нередко дословным переводом Овидиевой «Героиды» (II, 27–30; 57–66), где так жалуется Филлида:
Die mini, quid feci, nist non sapienter amavi?
Crimine te potui, demeruisse meo.
Unum in me scelus est quod te, scelerate, recept;
Sed scelus hoc merit) pondus et instar habet.
………………………………………………………..
Turpiter hospitium lecto cumulasse jugali
Poenitet, et lateri conseruisse latus.
Quae fuit ante illam, mallem suprema fuisset
Nox mini, dum potui Phyllis honesta mori.
Speravi melius, quia me meruisse putavi.
Quaecunque ex merito spes venit, arque venit.
Fallere credentum non est operosa puellam
Gloria: simplicitas digna favore fuit.
Sum decepta tuis, et amans et femina, verbis.
Dii faciant, laudis summa sit ista tuae.
Подражание не могло быть более близким; подобных параллелей к Овидию и заимствований у него можно указать еще несколько. В пору страстных волнений ревности эта выборка из классика для выражения своих личных ощущений поразила бы нас своей деланностью и набросила бы тень на характер чувства; но «Fiammetta» представляет как бы выход из страстного периода к более спокойной, хотя еще и волнующей, жизни воспоминаний, и здесь мыслимо художественно-объективное отношение к пережитому. Так создался первый психологический роман в европейских литературах, как по справедливости назвали «Fiammetta»: условия его даны итальянским Возрождением, почин принадлежит Боккаччо, формы указаны «Героидами» Овидия.
Если их материал и общие места, насколько они были пригодны, вошли, так сказать, без остатка в содержание «Fiammetta», так что без знакомства с ее литературными образцами мы никогда не заподозрили бы ее цельности, то в «Ninfale Fiesolano»[103 - «Фьезоланские нимфы» (ит.)] Боккаччо стоит еще выше в смысле непосредственно-поэтического воспроизведения античного стиля. Античного и вместе с тем нового: таково впечатление сказки, напоминающей сюжет Овидиевых «Метаморфоз», с классическим чудесным, вдвинутым в совершенно тосканский пейзаж; простая история любви, поэзия которой выгадывает от удаления в древность и вместе ощущается как свое и близкое. Такое соединение старого и нового, такое наивно-интимное соприкосновение древних образцов с течениями современности не давалось только эксцерпированием классиков, а всем характером среды, где оба течения сосуществовали в живом обращении, где и очертания ландшафта и памятники древности, освященные незабытой легендой, говорили, что старое не прошло, а лишь медленно влилось в новое русло, указанное историей. Здесь Аристей мог в самом деле влюбиться в Сафо, оставляя для нее прежние низменные привязанности: Аристей – Боккаччо, как он назвал себя в XII-й эклоге, Сафо – древнее искусство и поэзия.
III
Вопрос о том, насколько то и другое и вообще струя классического предания удержались в народном обиходе, надолго, если не навсегда, останется не разрешенным. Ученое Возрождение XIV и следующих веков ввело в оборот так много обновленных им классических понятий и имен, что, встречаясь с иными из них, трудно бывает решить: имеем ли мы дело с фактами Возрождения или унаследования. Когда итальянец клянется: per Bacco, наше решение может двоиться с одинаковой вероятностью в том и другом направлении. Ясен для нас лишь древний количественный перевес классического предания на стороне Италии, каким бы источником он ни определялся. Типические народные легенды о Христе и святых являются общим достоянием всей Европы, не исключая и Италии; легенды о Вергилии и недавно записанные сульмонские предания об Овидии принадлежат, как народные, ей одной, если только в понятие народности включать и древнее ее взаимодействие с преданиями светской школы. Укажу в пример на несколько наивных рассказов из Абруцц, собранных De Nino («Ovidio nelle tradizione popolare di Sulmona», в «Usi e costumi abruzzesi», vol. IV): о папе Целестине, вычитавшем будто бы в творениях Овидия, что в развалинах его виллы у Monte Morone хранится клад, который и был употреблен на построение монастыря Santo Spirito; об Овидии, волшебнике и первом «проповеднике» Сульмоны, вблизи которой, в «fonte d’amore», он жил с прекрасной феей и теперь еще стоит на страже своих сокровищ; о богородице, обучавшейся в языческой школе у святой Сивиллы (Sacra Subillia) и в свою очередь обучавшей сверстниц читать требник, пока учительница не дозналась о том и не велела девочкам сжечь все требники. Одна лишь богородица догадалась спрятать свою книгу под мышкой; с тех пор и образовалась у человека та впадина у верха руки, которая так зовется.
Титульный лист первого издания. 1492 г.