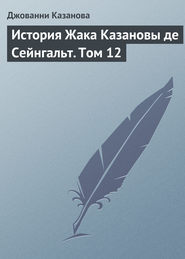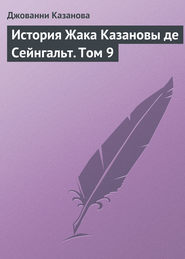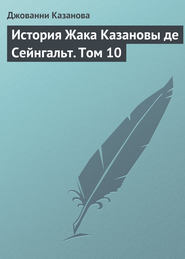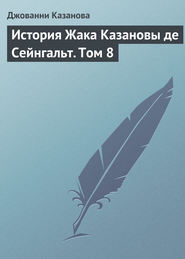По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя последняя любовь. Философия искушения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дон Якопо Казанова, рожденный в Сарагоссе, столице Арагона, был побочным сыном дона Франциско и в 1428 году похитил из монастыря донну Анну Палафокс, как раз на следующий день после принятия ею монашеского обета. Дон Якопо состоял секретарем короля дона Альфонсо. Он бежал с монахиней в Рим, где, после года тюрьмы, папа Мартин III освободил Анну от обета и, по ходатайству дона Хуана Казановы, дяди дона Якопо и распорядителя святейшего дворца, благословил их союз. Все дети от этого брака умерли в раннем возрасте, исключая дона Хуана, который в 1475 году взял себе в жены донну Элеонору Альбини, от которой имел одного сына по имени Марк-Антонио.
В 1481 году дон Хуан убил неаполитанского офицера и был принужден покинуть Рим, укрывшись в Комо с женой и сыном, но в поисках удачи уехал и оттуда. Он умер во время путешествия с Христофором Колумбом в 1493 году.
Что касается Марка-Антонио, то он сделался весьма приличным поэтом в духе Марциала и служил секретарем у кардинала Помпео Колонны. Из-за сатиры на Джулио Медичи он был вынужден оставить Рим и возвратиться в Комо, где женился на Абондии Реззонике.
Тот же Джулио Медичи, сделавшись папой под именем Климента VII, простил его и возвратил в Рим. В 1526 году город этот был взят и разграблен императорским войском, а Марк-Антонио умер от чумы.
Впрочем, не случись сей напасти, он все равно отправился бы на тот свет по причине разорения, так как солдаты Карла V забрали все принадлежавшее ему имущество.
Через три месяца после его смерти вдова произвела на свет Джакомо Казанову, который умер во Франции в глубокой старости полковником армии Фарнезе, сражавшегося против Генриха Наваррского, ставшего потом королем Франции. Он оставил в Парме сына, тот женился на Терезе Конти, у них родился Джакомо, взявший в 1680 году в жены Анну Роли. Джакомо имел двух сыновей, Джованни-Батисту и Гаэтано-Джузеппе-Джакомо. Старший выехал из Пармы в 1712 году и более не возвращался. Младший через три года также покинул свое семейство в возрасте восемнадцати лет.
Вот то, что я нашел в записях моего отца. Все остальное, о чем я собираюсь рассказать, мне стало известно от матери.
Гаэтано-Джузеппе-Джакомо покинул отчий дом, увлеченный прелестями некой актрисы по имени Фраголетта. Влюбленному нечем было жить, и он решился зарабатывать хлеб, используя собственные способности, для чего занялся танцами, а через пять лет уже играл в комедиях, отличаясь, впрочем, скорее своим благонравием, нежели талантом.
То ли вследствие непостоянства, то ли по причине ревности он оставил Фраголетту и поступил в труппу венецианских комедиантов, игравших в театре Св. Самюэля. Напротив дома, где он обитал, жил башмачник по имени Джеронимо Фаруси вместе со своей женой Марией и единственной дочерью Занеттой, необыкновенной красавицей шестнадцати лет. Молодой комедиант влюбился в девицу и сумел уговорить ее дать себя похитить. Это представлялось единственным средством, поскольку, будучи актером, он никогда бы не получил согласия Марии, не говоря уже о самом Джеронимо, ибо в их глазах ничто не могло быть хуже ремесла лицедея. Юные любовники, запасшись нужными бумагами и в сопровождении двух свидетелей, предстали перед венецианским патриархом, который и дал им брачное благословение. Мать Занетты была безутешна, а отец умер с горя.
От этого союза я и родился через девять месяцев, а именно 2 апреля 1725 года. В следующем году матушка оставила меня на руках бабки – та простила ее, узнав, что муж обещал никогда не принуждать Занетту идти на подмостки. Комедианты всегда дают подобные обещания городским девушкам, на которых женятся, и никогда не держат свое слово, поскольку сами жены того и не требуют. А матери моей изрядно посчастливилось научиться играть в комедиях, ибо в противном случае у нее не было бы средств воспитывать шестерых своих детей, когда через девять лет она оказалась вдовой.
Итак, мне был год, когда отец оставил меня в Венеции и отправился на лондонские подмостки. Именно в этом великом городе мать моя впервые вышла на сцену, и там же в 1727 году она разрешилась от бремени моим братом Франческо, ныне знаменитым живописцем баталий, который с 1783 года живет в Вене.
К концу 1728 года матушка возвратилась с отцом в Венецию, а поскольку сделалась к тому времени комедианткой, то и продолжала заниматься своим ремеслом.
Еще через два года она произвела на свет моего брата Джованни, скончавшегося в Дрездене, будучи уже директором Академии живописи. За три последующих года она сделалась матерью двух дочерей, одна из которых умерла в раннем возрасте, а другая вышла замуж в Дрездене, где и жила еще в 1798 году. У меня был и третий брат, родившийся после смерти отца; он скончался пятнадцать лет назад в Риме.
Отец мой покинул этот мир в расцвете жизни. Хотя ему было всего тридцать шесть лет, он сошел в могилу, сопровождаемый сожалением общества: все ценили его выше занимаемого им положения по причине образцовой нравственности и глубочайших познаний в механике.
Годы детства в Падуе
В сие печальное время мать моя была на шестом месяце, а потому не могла появляться на подмостках до конца пасхальных праздников. Несмотря на свою молодость и красоту, она отказывала всем, кто искал ее руки, и, поручив себя Провидению, надеялась воспитать нас собственными средствами.
Прежде всего она посчитала необходимым заняться мною, и отнюдь не по особому расположению, а вследствие моей болезни, из-за которой никак не могли понять, что со мной делать. Я был очень слаб, совершенно лишен аппетита, ничем не умел занять себя и с виду казался почти слабоумным. Врачи не могли договориться между собой о причине моего недуга. Каждую неделю, говорили они, он теряет два фунта крови из имеющихся шестнадцати или восемнадцати. Откуда же берется столь обильное кровотечение?
Синьор Баффо, большой приятель моего покойного отца, обратился к знаменитому падуанскому врачу Макопу, который прислал ему свой диагноз в письменном виде. В этом документе, сохраняющемся у меня до сего времени, говорится, что кровь человека есть эластическая жидкость, способная увеличивать и уменьшать свою густоту, и мое кровотечение происходит по причине именно чрезмерной густоты. Он заключал, что это может быть порождено лишь вдыхаемым мною воздухом, а посему следует или увезти меня, или готовиться к вечной разлуке. Согласно его мнению, выражение тупости на моем лице также объясняется густотой крови.
По получении сего оракула аббат Гримани взялся найти для меня в Падуе подходящий пансион, обратившись к помощи одного знакомого химика, жившего в этом городе. Фамилия химика была Оттавиани, и служил он, кроме всего прочего, еще и антикваром. За несколько дней пансион отыскался, и 2 апреля 1734 года, в день, когда мне исполнилось девять лет, меня по Брентскому каналу отвезли на барке в Падую.
Мы приехали в ранний час и явились к Оттавиани, жена которого осыпала меня ласками. Он сразу же повел нас в тот дом, не далее чем в пятидесяти шагах, где я должен был остаться на пансионе у старухи-словенки. Перед нею открыли мой маленький сундучок и перебрали все его содержимое, после чего отсчитали шесть цехинов – плату за полгода вперед. Из этих денег она должна была кормить меня, содержать в чистоте и платить учителю; жалобы ее, что на все никак не хватит, остались без внимания. Меня расцеловали, велели беспрекословно слушаться и покинули. Вот так избавились от забот о моей персоне.
Как только мы оказались одни, словенка повела меня на чердак и указала мою кровать среди четырех других. Три из них принадлежали мальчикам моего возраста, которые в то время были в школе, а четвертая – служанке, присматривавшей за ними. Потом хозяйка показала мне сад и оставила гулять там до обеденного часа.
Я не испытывал ни радости, ни печали и не чувствовал даже малейшего любопытства. Меня ужасала сама хозяйка: не имея никакого представления ни о красоте, ни о безобразии, я не мог преодолеть отвращения при виде ее лица, всей наружности и манеры разговаривать. Она была высокой и плотной, как солдат, с желтой кожей, черными волосами и украшенным заметной растительностью подбородком. Безобразная и наполовину открытая грудь, свисавшая почти до пояса, завершала портрет. Ей было, наверное, лет пятьдесят.
То, что называлось «садом», представляло собой квадрат тридцать на сорок шагов, где глаз не встречал ничего приятного, кроме зелени.
К полудню явились трое моих товарищей и, словно мы были уже давно знакомы, стали рассказывать о множестве всяких предметов, почитая само собой разумеющимся то, о чем у меня не было ни малейшего представления.
Я ничего не отвечал им, но это никого не обескуражило, и под конец меня принудили разделить их невинные забавы. Я с готовностью согласился бегать, ездить друг на друге и кувыркаться. Потом нас позвали обедать. Я уселся за стол, но, видя перед собой деревянную ложку, отбросил ее и потребовал свой серебряный прибор, который очень любил как подарок своей доброй бабки. Служанка возразила мне, что у хозяйки заведено для нас все одинаковое; я вынужден был подчиниться сему обычаю и принялся есть суп, удивляясь, что моим товарищам разрешают поглощать его с такой поспешностью. После этого весьма дурного супа нам дали по маленькому кусочку трески – день был постный, – потом по яблоку, и обед закончился. На столе не было ни чашек, ни стаканов, и все прикладывались к одной глиняной кружке с отвратительным пойлом, приготовлявшимся из очищенного винограда и горячей воды. Дальше я пил только чистую воду. Подобный стол поразил меня, хоть я и не понимал, можно ли считать его плохим.
После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику доктору Гоцци, с которым словенка сговорилась на сорока су в месяц, то есть одиннадцатую часть цехина. Меня надо было учить письму, и я попал к шестилетним детям, тут же принявшимся смеяться надо мной.
По возвращении мне дали ужин, оказавшийся еще хуже обеда. Я был удивлен, что на мои жалобы никто не обратил внимания.
Меня уложили в постель, где известные всем насекомые трех разновидностей не дали даже сомкнуть глаз.
К тому же крысы, бегавшие по всему чердаку и забиравшиеся на кровати, заставляли меня леденеть от ужаса.
Пожиравшие мое тело паразиты несколько умеряли страх перед крысами, а страх, в свой черед, отвлекал меня от укусов. Что касается служанки, то она не обращала на мои крики никакого внимания.
С первыми же лучами солнца я покинул отвратительное ложе и, пожаловавшись служанке на перенесенные тяготы, попросил у нее другую рубашку, так как на мою было страшно смотреть. Она же отвечала, что перемену делают только по воскресеньям, а мои угрозы пожаловаться хозяйке лишь рассмешили ее.
Впервые в жизни я плакал от огорчения и злости. В школе я все утро спал, и один из моих товарищей рассказал учителю о причине, желая посмеяться надо мной. Но ниспосланный самим Провидением добрый священник отвел меня к себе в комнату и, удостоверившись собственными глазами в правдивости моего рассказа, тут же пошел со мной в пансион и указал ведьме на покрывавшие мою кожу волдыри. Изобразив удивление, та обвинила во всем служанку. Священник пожелал осмотреть мою постель, и я, не менее чем он, был поражен нечистотой белья, на котором провел ночь. Проклятая баба твердила свое, присовокупляя угрозы прогнать девушку, но когда последняя через некоторое время появилась, то не пожелала терпеть обвинений и заявила, что виновата сама хозяйка. При этом она открыла постели моих товарищей, и мы могли убедиться, что с ними обходились ничуть не лучше. Обозлившаяся хозяйка влепила ей пощечину, но служанка не осталась в долгу, после чего спаслась бегством. Учитель ушел, сказав, что не примет меня в школу, если я не буду таким же опрятным, как и остальные ученики. А на мою долю остались брань и угрозы выставить меня за дверь, если подобная история повторится.
Учитель взял на себя особливую заботу о моем образовании. Он даже усадил меня за свой стол, и я, дабы доказать, что чувствителен к такому отличию, изо всех сил принялся учиться: уже через месяц я писал настолько хорошо, что мне велено было приниматься за грамматику.
Новый образ жизни, неутихающие муки голода и прежде всего, конечно, падуанский воздух принесли мне здоровье, о котором ранее я не смел и помышлять. Но это же здоровье еще более усиливало голод, становившийся совсем непереносимым. Я рос на глазах, непробудно спал по девять часов и постоянно видел один и тот же сон: будто я сижу за столом, уставленным кушаньями, и насыщаюсь. А наутро приходилось убеждаться, сколь разочаровывают сладкие сны. Всепожирающий голод совсем извел бы меня, если бы я не принялся похищать и поедать все, что только можно было найти и взять, когда никто не видит.
Нужда делает человека изобретательным. Я заприметил в кухонном шкафу штук пятьдесят копченых селедок и понемногу съел их все, равно как и подвешенные у дымохода колбасы. Для этого я вставал ночью и тихонько прокрадывался на кухню. Самым большим лакомством для меня были только что снесенные яйца, которые я таскал из птичника еще теплыми. Я занимался грабительством даже на кухне моего учителя.
Словенка, отчаявшаяся изловить вора, стала прогонять прислугу. Все же случай стащить что-нибудь представлялся далеко не всегда, и поэтому я был тощий, словно скелет.
За пять-шесть месяцев я сделал такие успехи, что учитель назначил меня старостой школы. В мои обязанности входило проверять уроки тридцати учеников, исправлять ошибки и подавать учителю с похвальным или порицательным отзывом. Однако же лентяи быстро нашли способ смягчить меня. Когда в их латыни обнаруживались ошибки, они покупали мою снисходительность жареными котлетами, а иногда и деньгами. В скором времени я уже не довольствовался контрибуцией с невежд и, как истинный тиран, отказывал в своем благоволении каждому, кто не сумел задобрить меня. Не в силах сносить больше такую несправедливость, они пожаловались учителю. Я был уличен и низвергнут. Несомненно, это падение принесло бы мне большую беду, если бы судьба не положила вскоре конец моему первоначальному искусу.
Учитель все-таки любил меня и однажды, приведя в свою комнату, спросил, не хочу ли я последовать некоторым его советам, дабы распроститься с пансионом словенки и перейти к нему в дом. Видя восторг, вызванный этим предложением, он дал мне переписать три письма, которые я затем должен был отослать аббату Гримани, моему благожелателю синьору Баффо и доброй моей бабке. В этих письмах я описывал все свои страдания, изображая неизбежность смерти, если не заберут меня от словенки и не поместят к моему учителю, который, однако, желает иметь два цехина в месяц.
Синьор Гримани даже не удостоил меня ответом и лишь велел своему другу Оттавиани выговорить мне за то, что я дал совратить себя с правильного пути. Однако синьор Баффо поговорил с моей бабкой и в письме сообщил мне, что в скором времени я могу надеяться на перемену. Так оно и вышло – через неделю, как раз в ту минуту, когда я садился обедать, появилась моя добрейшая бабка. Она вошла вместе с хозяйкой, и я, едва завидев ее, тут же бросился ей на шею, обливаясь слезами. Она села и поставила меня меж колен, уже одним присутствием сообщив мне спокойствие и уверенность. Тут же при самой словенке я перечислил ей все свои злоключения и, указав на нищенский стол, который составлял единственное мое пропитание, отвел ее к своей постели. Закончил я просьбой накормить меня настоящим обедом после шести месяцев голодного существования. Сама словенка только твердила, что не могла предоставить ничего лучшего за те деньги, которые ей заплатили. Это была сущая правда, но кто принуждал ее держать пансион и быть мучительницей детей, которых родительская скаредность оставляла на ее попечение?
Моя бабка с совершенным спокойствием объявила ей, что намеревается забрать меня, и велела уложить в сундучок все мои пожитки. Я с восторгом увидел свой серебряный прибор и, схватив его, поспешил спрятать в карман. Радость моя при виде приготовлений не поддается описанию. Впервые в жизни я почувствовал то удовлетворение, которое заставляет все простить и изгладить из памяти.
Бабка отвела меня в гостиницу, где она остановилась, и мы сели обедать. Впрочем, сама она ни к чему не притрагивалась, настолько поразила ее та жадность, с которой я набросился на еду. Тем временем явился предупрежденный уже доктор Гоцци, достойные манеры которого сразу расположили бабку в его пользу. Благообразный священник двадцати шести лет от роду отличался дородностью, скромным обращением и услужливостью. За четверть часа все было договорено. Добрая моя бабка отсчитала ему двадцать четыре цехина за год вперед и получила в том квитанцию. Однако же она продержала меня у себя еще три дня, чтобы нарядить в одеяния аббата и заготовить парик: вследствие нечистоплотности мне пришлось обрезать волосы.
По прошествии трех дней она пожелала лично водворить меня к доктору Гоцци и просить его мать позаботиться обо мне. Последняя сначала потребовала, чтобы для меня прислали или купили кровать, но доктор возразил, что я могу спать с ним, так как постель его достаточно вместительна. Бабка поблагодарила его, после чего мы пошли проводить ее к барке, на которой она отправлялась обратно в Венецию.
Семейство доктора Гоцци состояло из его матери, относившейся к нему с большим почтением, поскольку родилась она простой крестьянкой и не считала себя достойной иметь сына священника: она была стара, безобразна и сварлива; отца, башмачника, который работал целыми днями и не говорил никому ни слова, даже за столом. Лишь по праздникам он становился общительнее, так как в эти дни неизменно посещал питейное заведение в компании приятелей и возвращался лишь к полуночи, едва держась на ногах и распевая стихи Тассо. В таком состоянии старик никак не мог улечься, а когда его пытались принудить к тому, свирепел. Трезвый он был совершенно лишен сообразительности и не мог рассуждать даже о самом пустячном семейном деле. Жена его говаривала, что он никогда бы на ней не женился, если бы перед тем, как идти в церковь, его не угостили добрым завтраком.
Доктор Гоцци имел также сестру тринадцати лет по имени Беттина. Это была веселая, красивая девица и великая охотница до чтения романов. Отец с матерью непрестанно бранили ее за то, что она слишком много времени проводит у окна, а доктор не одобрял пристрастия сестры к чтению. Сия девица сразу же приглянулась мне, хоть я и не понимал причины этого чувства. Именно тогда мало-помалу возгорелись в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии сделалась для меня господствующей.
Через шесть месяцев после моего водворения в этом доме доктор оказался без учеников – все они перестали ходить к нему, так как я сделался единственным предметом его привязанности. По этой причине он решился открыть небольшую школу с пансионом, однако прошло два года, прежде чем таковой замысел смог осуществиться, а тем временем он передал мне все свои познания, которые, по правде говоря, были весьма скромными. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы познакомить меня со всеми науками. Кроме того, я выучился у него играть на скрипке, чем был принужден воспользоваться при обстоятельствах, о которых читатель узнает в свое время. Добрый доктор Гоцци, не обладая глубиной ни в каком предмете, преподавал мне аристотелеву логику и космографию по древней системе Птолемея: а я непрестанно подсмеивался и выводил его из себя вопросами, на которые он не знал, что ответить. Зато его нравственность была безупречна, а в религии, не будучи ханжой, он отличался величайшей строгостью. Все для него основывалось на вере, и ничто не смущало его разум: потоп был Всемирным; люди до этой катастрофы жили по тысяче лет, и Бог имел обыкновение беседовать с ними; Ной строил ковчег сто лет, а Земля, созданная Богом из ничего, находится в центре Вселенной. Когда я пытался убедить его, что существование «ничто» абсурдно, он обрывал меня и называл глупцом.
Любил он удобную постель, полуштоф и семейное веселье. Его не привлекали ни острое словцо, ни проницательный ум, ни тем более скептицизм, столь легко обращающийся в злословие, и он смеялся над глупостью тех, кто проводит время за чтением газет, которые, по его мнению, всегда лгут и повторяют одно и то же. Он говорил, что нет ничего обременительнее неопределенности, и потому не одобрял ни в ком наличия собственного мнения, порождающего колебания веры.
Его любимым занятием было произносить проповеди, чему способствовали благообразие лица и выразительность голоса. Слушать его приходили только женщины, в которых он тем не менее видел заклятых врагов; а когда ему приходилось разговаривать с какой-нибудь из них, он никогда не смотрел ей в лицо. Плотский грех он почитал наитягчайшим среди всех других. Проповеди его были наполнены изречениями греческих авторов, которые он переводил на латынь. Однажды, когда я осмелился сказать ему, что переводить надо на итальянский, так как прихожанки одинаково не понимают ни латыни, ни греческого, он рассердился настолько сильно, что я уже не решался более заговаривать об этом предмете. Впрочем, он хвастался мною перед своими друзьями как настоящим чудом, поскольку я научился читать по-гречески сам, с помощью одной лишь грамматики.
На Великий пост 1736 года матушка моя в письме сообщила доктору, что, собираясь скоро отправиться в Петербург, желала бы повидать меня, и поэтому просит его приехать вместе со мной на три или четыре дня в Венецию. Приглашение немало смутило моего учителя, ибо он никогда не видывал ни Венеции, ни хорошего общества, но не хотел при этом показаться совершенным профаном. После некоторых колебаний мы собрались ехать, и все семейство проводило нас на барку.
Матушка приняла его с самой благородной непринужденностью, а поскольку она была хороша собой, как ясный день, мой бедный учитель сильно засмущался и не осмеливался даже смотреть в ее сторону, хотя и вынужден был отвечать на вопросы. Что касается меня, то я привлекал внимание всех окружающих, да оно и не удивительно – помня меня чуть ли не слабоумным, они поражались, насколько я выправился за эти два года. Доктор был весьма доволен, видя, что заслугу в таковой метаморфозе относят исключительно на его счет.
Однако же матушку неприятно поразил мой парик, который белел над моим смуглым лицом, являя жестокое несоответствие с темными глазами и ресницами. Доктор, спрошенный, почему мне не причесывают собственные волосы, отвечал, что с париком его сестре легче содержать меня в чистоте. Этот наивный ответ вызвал общий смех, усилившийся еще более, когда вслед за вопросом, замужем ли она, вмешался в разговор я с уверениями в том, что Беттина самая красивая девушка во всем квартале и пока ей только четырнадцать лет. Матушка пообещала доктору сделать его сестре хороший подарок, но при условии, что меня будут причесывать без парика. Он обещал непременно исполнить ее желание. Затем матушка велела позвать парикмахера, который принес подходящий для меня парик.