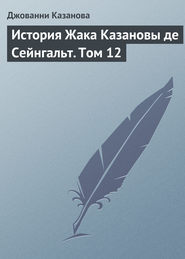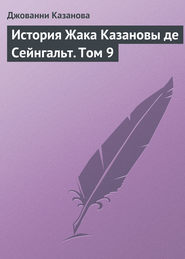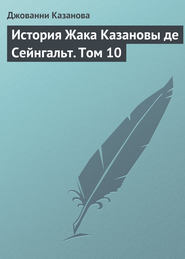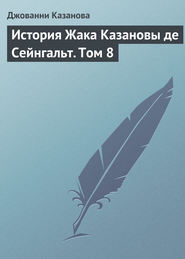По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя последняя любовь. Философия искушения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все общество, исключая моего учителя, село за карты, а я отправился в комнату бабки повидаться со своими братьями. Франческо показал мне свои архитектурные рисунки, которые я из вежливости признал довольно сносными. Джованни не мог ничем похвастать, и поэтому я счел его совершенным ничтожеством. Что касается остальных, то они были еще совсем малы.
За ужином доктор, сидевший возле моей матери, держался с крайней неловкостью и, возможно, не произнес бы ни единого слова, если бы некий сочинитель-англичанин не обратился к нему на латыни. Ничего не поняв, он отвечал, что не разумеет по-английски, чем вызвал всеобщее веселье. Синьор Баффо пришел ему на помощь, заметив, что англичане имеют обыкновение произносить латынь в точности как свой родной язык.
По прошествии четырех дней, когда наступило время расставаться, матушка вручила мне пакет для Беттины, а аббат Гримани подарил четыре цехина на книги. Через неделю после моего отъезда матушка уехала в Петербург.
Возвратившись в Падую, учитель три или четыре месяца чуть ли не каждый день вспоминал о моей матушке, а Беттина, найдя в предназначавшемся ей пакете пять локтей черного люстрина[4 - Полушерстяная или шерстяная материя с глянцем.] и дюжину перчаток, воспылала ко мне такой привязанностью, что менее чем за полгода я смог избавиться от парика. Она ежедневно являлась причесывать меня, часто еще до того, как я вставал, и тогда мыла мне лицо, шею и грудь, что сопровождалось ребяческими шалостями, каковые, против моей воли, вызывали во мне волнение. Усевшись на постель, она говорила, что я толстею, чем приводила меня в крайнее возбуждение.
Я сердился на себя за неумение отвечать ей тем же. Она осыпала меня нежнейшими поцелуями, но я еще не осмеливался возвращать их, несмотря на все свое к тому желание.
В начале осени доктор взял трех новых пансионеров, и один из них, юноша лет пятнадцати, менее чем за месяц сделался с Беттиной весьма близок.
Это наблюдение вызвало во мне чувства, о которых до тех пор я не имел ни малейшего понятия. Это была совсем не ревность, а в некотором роде благородное презрение, ибо Кордиани – невежественный, грубый, лишенный ума и манер, да к тому же сын простого крестьянина, – имел передо мной лишь одно преимущество: свои годы. Мое зарождающееся самолюбие говорило, что я достойнее его, и во мне росло чувство гордости, смешанное с презрением к Беттине, которую, сам того не подозревая, я уже любил.
Она поняла мое отношение по тому, как я стал принимать ее ласки за утренним туалетом: не отвечал на поцелуи и всячески увертывался. Однажды, уязвленная этим, она с притворным сожалением сказала, что я просто ревную к Кордиани. Упрек показался мне унизительной клеветой, и я отвечал, что полагаю их вполне достойными друг друга.
Она лишь улыбнулась в ответ, но сама решила любыми способами заставить меня ревновать.
Однажды утром она явилась к моей постели с парой белых чулок, которые сама связала для меня. Сделав мне прическу, она захотела их примерить, дабы убедиться, все ли хорошо получилось. Доктор как раз в это время служил мессу. Надевая мне чулки, она стала говорить о моих не совсем чистых коленях и, не спрашивая позволения, принялась мыть меня. Я не хотел показать, что мне стыдно, и не сопротивлялся, совершенно не подозревая, чем все это кончится. Беттина зашла слишком далеко в своих заботах о чистоте, и ее любопытство настолько возбудило меня, что ей пришлось остановиться, лишь когда идти далее было уже невозможно. Вернувшись к спокойному состоянию, я счел нужным признать себя виновником всего случившегося и просить у нее прощения. Она не ожидала этого и, недолго поразмыслив, снисходительно отвечала, что, напротив, вся вина лежит на ней, и в будущем подобное никогда не повторится. Сказав это, она оставила меня рассуждать о происшедшем с самим собой.
Я жестоко терзался угрызениями совести. Мне представлялось, что я обесчестил ее, злоупотребил доверием и гостеприимством всего семейства и могу искупить свое ужасное преступление, лишь женившись на ней, если, конечно, Беттина согласится на такого недостойного мужа.
Меня объяла мрачная тоска, усиливавшаяся день ото дня, тем более что Беттина совершенно перестала приходить ко мне по утрам. Первую неделю сдержанность девицы представлялась вполне объяснимой, и печаль моя превратилась бы в чисто платоническую любовь, если бы ее обращение с Кордиани не отравляло мою душу ядом ревности, хоть я и не мог даже предположить, что и с ним она совершила тот же грех.
Рассудив, в конце концов, что все случившееся произошло по собственному ее желанию и лишь раскаяние мешает ей приходить ко мне, я почувствовал себя весьма польщенным, ибо мог в таковом случае рассчитывать на взаимность. Сие заблуждение побудило меня ободрить ее запиской.
Я сочинил короткое письмецо, впрочем, вполне достаточное, чтобы успокоить ее, если бы она полагала себя виновной или подозревала во мне чувства, противоположные тем, каких требовало ее самолюбие. Письмо показалось мне истинным шедевром, который сам по себе мог бы дать мне решительный перевес над Кордиани. Ведь последний, в моем представлении, не мог рассчитывать даже на минутное колебание Беттины при выборе одного из нас. Получив записку, она уже через полчаса сказала мне, что завтра утром будет у меня в комнате. Я ждал ее, но напрасно. Возмущению моему не было границ, и я тем более удивился, когда за обедом она предложила нарядить меня девочкой к балу, который давал через неделю наш сосед доктор Оливо. Я согласился, усматривая в этом случай для возобновления наших нежных отношений. Но вот какие события послужили препятствием этому плану и даже явились причиной разыгравшейся трагикомедии.
Крестный отец доктора Гоцци, богатый старик, живший в деревне, долгое время болел и теперь, полагая себя на пороге смерти, послал доктору свой экипаж и просил незамедлительно приехать, дабы присутствовать при его кончине.
Желая использовать сие обстоятельство в своих целях, я, чтобы не мучиться ожиданием назначенного бала, улучил минуту и шепнул Беттине, что оставлю открытой дверь своей комнаты и, когда все улягутся, буду ждать ее. Она обещала непременно прийти. Я был в восторге, видя, что желанная минута совсем близка.
Возвратившись к себе в комнату, я не стал раздеваться, а только потушил свет. До полуночи я ждал без особого беспокойства. Но пробило два, три и четыре часа ночи, а ее все не было. Кровь во мне разыгралась, я страшно рассердился. Большими хлопьями падал снег, но изнемогал я более от ярости, чем от холода, и за час до рассвета, не в силах сдерживать себя, решился осторожно, без туфель, чтобы не разбудить собаку, спуститься вниз. Дверь Беттины должна была быть открыта, если она вышла. Однако дверь не поддавалась. Поскольку ее могли запереть только изнутри, я решил, что Беттина заснула, и хотел стучать, но побоялся лая собаки. Удрученный, не зная, что делать, уселся я было прямо на лестнице, но от холода и усталости почел за лучшее все же возвратиться к себе. Однако стоило мне подняться, как в тот же миг послышался у Беттины шум. Надежда увидеть ее возвратила мне силы, я подошел к двери, которая вдруг отворилась, но вместо самой девицы я увидел Кордиани, и сильнейший удар ногой в живот свалил меня. Кордиани быстро пошел в залу, где спал вместе с двумя своими товарищами, и заперся там.
Я тут же вскочил, намереваясь выместить обиду на Беттине, которую ничто не спасло бы от моей ярости. Но дверь опять закрылась, и мне оставалось только изо всех сил пинать ее ногами. Залаяла собака, и я принужден был поспешно укрыться в своей комнате, где бросился на постель. Нужно было дать отдохновение душе и телу, ибо чувствовал я себя хуже мертвого.
Обманутый, униженный и избитый, я в течение трех часов перебирал самые страшные планы мести. Отравить обоих казалось мне слишком легким наказанием. Для нее будет много хуже, если рассказать обо всем брату. Мои двенадцать лет еще не выработали во мне способности к хладнокровному возмездию.
Вечером вернулся доктор: Кордиани, страшившийся моей мести, пришел спросить о моих намерениях. Но я бросился на него с перочинным ножом, и он поспешил сбежать. Мысль рассказать доктору про эту скандальную историю уже не приходила мне в голову, поскольку могла зародиться лишь в минуту ослепления.
Должен признаться, что, несмотря на этот превосходный урок, полученный еще в детские годы, урок, который мог бы послужить путеводителем на будущее, в течение всей моей жизни женщины водили меня за нос. Лет двенадцать назад только благодаря моему ангелу-хранителю я не женился в Вене на одной молодой ветренице, в которую был безумно влюблен. Теперь мне семьдесят два года, и я полагаю себя защищенным от подобных сумасбродств. Но, увы, именно это и печалит меня!
Тем временем матушка моя возвратилась из Петербурга, где императрица Анна Иоанновна нашла итальянскую комедию недостаточно занимательной. Приехав в Падую, матушка сразу же послала к доктору Гоцци, который поспешил отвести меня к ней в гостиницу. Мы вместе отобедали, и, прежде чем расстаться, она подарила доктору красивый мех, а для Беттины дала мне превосходную волчью шкуру.
Через полгода матушка снова вызвала меня, уже в Венецию: она собиралась по бессрочному контракту в Дрезден на службу к саксонскому электору[5 - Курфюрст, призывавшийся, в прежние времена, для подания голоса при выборе германского императора.] и королю Польши Августу III. Она взяла с собой моего брата Джованни, которому было тогда восемь лет и который ревел, словно резаный, что показалось мне совсем глупым, поскольку в его отъезде я не видел ничего трагического.
После этого я провел в Падуе еще год и занимался изучением права. Шестнадцати лет я получил степень доктора, представив по гражданскому праву диссертацию «О завещаниях», а по каноническому – «Дозволительно ли евреям строить новые синагоги».
Хотя я чувствовал в себе призвание к медицине, меня не послушали, полагая за наилучшее юриспруденцию, к которой я испытывал неодолимое отвращение. Считалось, что заработать достаточные средства можно лишь профессией адвоката. Если бы мои родные дали себе труд поразмыслить, то предоставили бы мне следовать собственным своим склонностям, и я посвятил бы себя медицине, где шарлатанство необходимо еще более, чем в юриспруденции. Однако я не стал ни лекарем, ни адвокатом, что неудивительно, поскольку никогда не испытывал нужды в услугах тех и других. Судейское крючкотворство разоряет куда больше семейств, чем защищает, а погибающие от руки врача намного превышают число исцеленных.
Необходимость посещать лекции профессоров в университете позволила мне одному выходить на улицу, и, желая воспользоваться всей полнотой свободы, я не замедлил завести весьма дурные знакомства среди наиболее известных студентов. А таковыми были самые отъявленные шалопаи, развратники, картежники, дебоширы, пьяницы, совратители невинных девиц. Все они отличались лживостью, грубостью и неспособностью даже к малейшему добродетельному чувству. Вот в такой компании я начал познавать мир, читая в великой книге опыта.
Влияние нравственной теории на жизнь человека можно уподобить перелистыванию оглавления в книге, которую еще не начал читать. Таковы же проповеди и правила поведения, внушаемые учителями. Мы слушаем со вниманием, но едва представится возможность испытать полученные советы, сразу возникает желание проверить, произойдет ли то, от чего нас предостерегали. Мы не можем удержаться и бываем наказаны. Единственное, что вознаграждает, – это сознание обретенной истины и право поучать других. Но ведь эти «другие» ничем не отличаются от нас, и поэтому мир остается все в том же состоянии, если не идет от плохого к еще худшему.
Пользуясь предоставленной мне доктором Гоцци свободой, я открыл для себя истины, совершенно не известные мне ранее. В первые же дни самые отчаянные из студентов завладели мною и принялись меня испытывать. Видя, что я неопытен, они занялись моим образованием, устраивая всяческие ловушки. Все началось с карт. Завладев теми небольшими деньгами, которые у меня были, они заставили меня играть на слово, и мне пришлось заниматься разными темными делами, чтобы заплатить долги. Вот тут я узнал, что такое заботы! Эти жестокие уроки, тем не менее, были мне полезны, ибо научили не доверять наглецам, восхваляющим вас в лицо, и не принимать лесть за чистую монету. Кроме того, я постиг, что следует всемерно избегать искателей скандалов: их общество подобно тропинке на краю пропасти. И я не попал в сети женщин, сделавших разврат своим ремеслом, лишь потому, что не видел среди них ни одной столь же привлекательной, как Беттина.
В те времена падуанские студенты имели большие привилегии, которые превратились прямо-таки в узаконенное зло. А дабы сохранить их в действии, студенты нередко совершали настоящие преступления, причем виновных не наказывали с должной строгостью: из соображений государственной пользы власти не хотели, чтобы уменьшилось число студентов, стекавшихся в этот славный университет со всей Европы. Венецианское правительство взяло себе за правило платить большое жалованье знаменитым профессорам и предоставлять тем, кто слушает их лекции, полную свободу. Студенты подчинялись лишь старшему чиновнику, который назывался синдиком. Этот синдик нес перед правительством ответственность за соблюдение порядка и в случае нарушения законов должен был передавать провинившихся в руки правосудия. Студенты обычно подчинялись ему, так как если они предоставляли хоть видимость оправдания, он всегда становился на их сторону.
Они, например, носили любое запрещенное оружие, безнаказанно совращали девиц, которых родители не умели защитить от их посягательств, и своими шумными выходками нарушали спокойствие по ночам. Эти необузданные юнцы стремились лишь удовлетворять собственные прихоти и развлекаться, нимало не заботясь о покое своих ближних.
Однажды случилось так, что в кофейню, где сидели два студента, зашел полицейский пристав, чем они были весьма недовольны и велели ему уйти. Пристав не послушался, и тогда один из школяров выстрелил в него из пистолета, но промахнулся. Полицейский оказался ловчее и ответным выстрелом ранил нападавшего. В университет сразу же сбежалось множество студентов, они разделились на отряды, отправились искать по всем кварталам полицейских и в отместку за нанесенное оскорбление убивать их. В одной из стычек полегли на месте двое школяров. Тогда собрался весь университет, и студенты поклялись не складывать оружие до тех пор, пока в Падуе остается хоть один полицейский. Вмешалось правительство, но синдик обещал кончить дело миром, если студенты будут удовлетворены. Полицейского, ранившего студента в кофейне, повесили, и спокойствие восстановилось. В течение всех восьми дней беспорядков я не хотел отставать от других и присоединился к общему потоку школяров.
Вооружившись пистолетами и карабином, я расхаживал по улицам вместе с товарищами и искал врагов. Помню, мне было весьма досадно, что нашему отряду не посчастливилось встретить хоть одного полицейского.
Доктор смеялся надо мной, но Беттина восхищалась моей храбростью.
Начав новый образ жизни, я не хотел казаться беднее своих друзей и впал в непозволительные для меня расходы. Пришлось продать или заложить все, что у меня было, но все равно я оказался не в состоянии заплатить долги. Не зная, на что решиться, я написал письмо моей доброй бабке и попросил о помощи. Вместо того чтобы послать мне денег, она 1 октября 1739 года явилась в Падую собственной персоной и, отблагодарив доктора и Беттину за их заботы, увезла меня в Венецию.
Перед расставанием прослезившийся доктор подарил мне свою самую большую драгоценность – мощи не помню уж какого святого. Возможно, я хранил бы их и до сегодняшнего дня, если бы они не были оправлены в золото. Благодаря последнему обстоятельству смогло произойти чудо, выручившее меня в дни нужды.
Впоследствии, когда я приезжал в Падую для продолжения занятий в университете, то неизменно останавливался у сего доброго священника, хотя мне и было досадно видеть около Беттины этого болвана Кордиани, собиравшегося на ней жениться. Я не мог простить себе, что предрассудок – от него я, впрочем, скоро избавился – принудил меня оставить ему цветок, который легко можно было сорвать самому.
Венеция
«Он приехал из Падуи, где занимается изучением наук», – такими словами меня представляли всюду, куда бы я ни приходил, и это незамедлительно вызывало интерес моих сверстников, похвалы отцов и ласковое отношение старух и женщин, не достигших еще преклонного возраста, но желающих целовать меня, не нарушая приличий.
Принявший меня настоятель церкви Святого Самюэля составил мне протекцию к монсеньору Корреро, венецианскому патриарху, который выстриг мне тонзуру. Радость и удовлетворение моей бабки были безграничны. Сразу нашли достойных учителей для продолжения моего ученья, и синьор Баффо выбрал из них аббата Скиаво: преподавать мне итальянское правописание и стихосложение, к нему я имел решительную склонность. Меня устроили со всеми возможными удобствами у брата Франческо, который обучался театральной архитектуре. Сестра и самый младший из братьев жили у нашей доброй бабки, в доме, где она намеревалась умереть, потому что там скончался ее муж. А мы с Франческо занимали дом, в котором последние годы жил отец, и мать все еще продолжала платить аренду. Дом этот был просторен и превосходно обставлен.
Хотя аббат Гримани и считался моим первейшим покровителем, видел я его чрезвычайно редко. Зато я сильно привязался к синьору Малипьеро. Это был семидесятилетний сенатор, который не желал более вмешиваться в государственные дела и предавался в своем дворце радостям беззаботной жизни. У него каждый вечер собиралось избранное общество: дамы, которые в лучшие свои годы умели ничего не упустить, и мужчины, отличавшиеся умом и осведомленные обо всем, что происходит в городе. Сам он остался холостяком и обладал большим состоянием, но, к несчастью, три-четыре раза в год страдал жесточайшими приступами подагры, которая лишала его возможности пользоваться то одной, то другой частью тела. Лишь голова, легкие и желудок оставались не подверженными этой лютой напасти. Он был недурен собой и любил изысканный стол. Острый ум и глубокое знание света соединялись в нем с той проницательностью, которая остается у сенатора после сорока лет службы. Он перестал волочиться за красавицами, когда, перебрав не менее двадцати любовниц, сознался самому себе, что уже нет никакой надежды понравиться хоть одной из них. Почти совершенно разбитый параличом, он не выглядел, однако же, немощным, когда сидел в креслах, беседовал или находился за столом. Он ел только раз в день и всегда в одиночестве, поскольку, лишившись зубов, мог жевать лишь весьма медленно и не желал ни торопиться сам из любезности к своим гостям, ни утомлять их ожиданием. Подобная деликатность лишала его удовольствия видеть за своим столом приятных ему особ и особенно огорчала его превосходного повара.
Этот человек, отступившийся от всего, исключая самого себя, питал еще, несмотря на лета и подагру, склонность к любовным делам. Он был влюблен в юную девицу по имени Тереза Имер, дочь комедианта, которая жила в соседнем с его дворцом доме и окна которой располагались как раз напротив его спальни. Семнадцатилетнее создание отличалось красотой, кокетством и причудами. Она училась музыке, и ее постоянно можно было видеть в окне, что совершенно выводило старика из равновесия и доставляло ему жестокие мучения. Тереза каждый день являлась к нему с визитом, однако всегда в сопровождении матери, отставной актрисы, которая ежедневно водила дочку слушать мессу и заставляла ее каждую неделю исповедоваться. Однако же не менее исправно ходила она со своим чадом к влюбленному старику, устрашавшему меня своим исступлением, если девица отказывала ему в поцелуе под тем предлогом, что с утра готовится к причастию и боится оскорбить Бога.
Какая картина для меня, имевшего лишь пятнадцать лет от роду, немого свидетеля этих эротических сцен! Бесстыдная мать поощряла сопротивление юной особы и даже осмеливалась поучать старика, который не решался возражать и лишь сдерживался, чтобы не запустить в нее первым попавшим под руку предметом. В таковом состоянии гнев брал верх над вожделением, и, когда они уходили, ему оставалось лишь утешаться философскими рассуждениями.
Благодаря участию в этих сценах я завоевал расположение вельможи. Он допустил меня к своим вечерним собраниям, на которые, как я уже говорил, съезжались престарелые дамы и рассудительные кавалеры. Он говорил мне, что в подобном обществе я постигну науку несравненно более глубокую, чем философия Гассенди; ее я изучал тогда по его рекомендации вместо осмеянного им учения Аристотеля. Сенатор дал мне несколько советов, которым я должен был следовать на этих собраниях. Он дозволил мне говорить лишь в том случае, если нужно ответить на прямой вопрос, и ни при каких обстоятельствах не высказывать своего мнения, поскольку в моем возрасте его вообще не должно иметь.
Я получил письмо от графини де Мон-Реаль, которая приглашала меня приехать к ней в имение Пазеан.
Отправившись туда на Пасху, я нашел там немногочисленное общество, состоящее из старшего в семье графа Даниэля, женатого на некой графине Гоцци, молодого откупщика, только что сочетавшегося браком с крестницей старой графини, и его свояченицы.
Совершенно незнакомая мне доселе фигура новобрачной вызвала у меня живейший интерес, и хотя сестра ее была много красивее, я оказался более чувствителен к неопытности, видя здесь больше чести в достижении цели.
Сия новобрачная лет восемнадцати или двадцати обращала на себя внимание всего общества своими притворными манерами. Чрезмерно говорливая, державшая в памяти множество изречений, которые часто вставляла совершенно не к месту, набожная и настолько влюбленная в своего мужа, что даже не умела скрыть огорчения, когда он слишком красноречиво посматривал на ее сестру, она и во многом другом казалась крайне комичной. Муж ее был вертопрахом, который, может быть, и любил молодую жену, но, подчиняясь требованиям хорошего тона, считал себя обязанным выказывать безразличие, да к тому же из тщеславия забавлялся тем, что давал ей поводы для ревности.
В свою очередь и она, боясь прослыть дурочкой, старалась изображать равнодушие. Хорошее общество стесняло ее как раз потому, что ей хотелось казаться созданной для него.
Когда я нес вздор, она слушала меня внимательно и смеялась в самых неподходящих местах. Ее неловкости и странности возбуждали во мне желание более близкого знакомства, и я принялся волочиться за нею.
Все мои усилия, знаки внимания и даже ужимки – все открыто указывало окружающим на мои намерения. Донесли мужу, но он лишь острил по этому поводу и даже подзадоривал меня. Через пять или шесть дней моих усиленных ухаживаний, прогуливаясь как-то со мною по саду, она бесцеремонно объявила о причинах своей обеспокоенности поведением мужа. Я в дружеском тоне отвечал, что самый подходящий способ заставить его исправиться – это не замечать его внимания к свояченице и прикинуться влюбленной в меня. Стремясь с большей убедительностью склонить ее к моему предложению, я присовокупил, что сделать это будет весьма трудно и нужно обладать немалым умом, дабы сыграть столь двусмысленную роль. Я коснулся чувствительного места, и она уверила меня, что устроит все наилучшим образом, хотя на самом деле и в этом выказала свойственную ей неловкость.