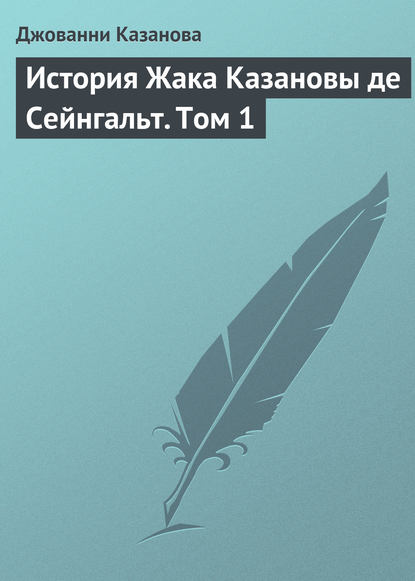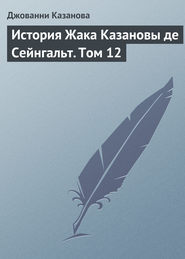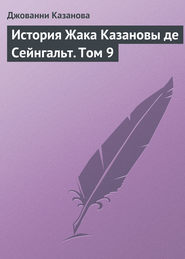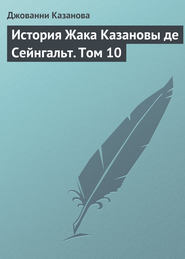По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 1
Жанр
Серия
Год написания книги
1789
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Его фигура была крупна и величественна, возраст – около тридцати, волосы светлые, глаза голубые. Черты лица напоминали Аполлона Бельведерского с той разницей, что они не выражали ни триумфа, ни воли. Ослепительно белокожий, он был и бледен, так что выделялся кармин его губ, позволявших видеть его прекрасные зубы. Он был ни худ, ни толст, и грусть, лежащая на его физиономии, добавляла ему мягкости. Его походка была медленной, вид – застенчивым, что заставляло предположить большую скромность его натуры.
Когда мы вошли, Беттина спала, или делала вид, что спит. Отец Мансиа начал с того, что взял кропильницу и стал обрызгивать её святой водой; она открыла глаза, посмотрела на монаха и через мгновение закрыла их, затем вновь их открыла, посмотрев на него немного внимательнее, повернулась на спину, опустила руки и, красиво склонив голову, погрузилась в сон, являя собой самую нежную картину. Экзорцист, стоя, вынул из кармана требник и епитрахиль, которую надел на шею, и ковчежец, который поставил на грудь спящей. Затем, с видом святого, он попросил всех нас встать на колени, чтобы молиться Богу, прося его дать знать, одержима ли пациентка или страдает от натуральной болезни. Он оставил нас в таком положении на полчаса, продолжая читать тихим голосом. Беттина не шевелилась.
Тогда, как мне кажется, чтобы продолжить играть свою роль, он попросил доктора выслушать его в отдалении. Они вошли в комнату, откуда вышли четверть часа спустя, хохоча над притворщицей, которая, увидев их, повернулась к ним спиной. Отец Мансиа улыбнулся, обмакнув кропило в кропильницу, окропил нас всех и ушел.
Доктор сказал нам, что экзорцист вернется на следующий день, и что он обещал освободить ее за три часа, если она одержима, но ничего не обещал, если она сумасшедшая. Мать сказала, что убеждена, что он освободит ее от бесов, и она благодарила Бога за то, что он явил ей благодать, чтобы увидеть святого, прежде чем ей умереть. Не было ничего забавней растерянности Беттины на другой день. Она стала держать самые безумные речи из тех, что мог придумать поэт, и она их не прерывала при появлении прекрасного экзорциста. Тот четверть часа разыгрывал представление, вооруженный всеми своими предметами, затем попросил нас выйти. Мы повиновались. Дверь осталась открытой, но это было неважно. Кто бы осмелился войти? Мы слышали в течение трех часов лишь глубокую тишину. В полдень он позвал и мы вошли. Беттина была там, грустная и очень спокойная, а монах складывал багаж. Он ушел, сказав, что он надеется на лучшее, попросив доктора сообщать ему новости. Беттина пообедала в своей постели, поужинала за столом, была разумна на следующий день, но вот что произошло, и это дало мне уверенность, что она не была ни безумна, ни одержима.
Это было за день до Сретения Богоматери. Доктор обычно водил нас к причастию в приходскую церковь; но тут он повел нас к исповеди в Сан-Августин, церковь, обслуживаемую падуанскими якобитами. Он сказал нам об этом за столом, где мы расположились на следующий день. Мать сказала: «Вы все должны были бы идти на исповедь к отцу Мансиа, чтобы получить отпущение грехов у такого святого человека. Я намерена тоже идти туда». Кандиани и Фельтрини согласились, я ничего не сказал. Этот проект мне не понравился, но я скрыл это, полный решимости не допустить его выполнение. Я верил в тайну исповеди, и я не был способен на ней солгать, но, зная, что я выбираю сам исповедника, я бы, безусловно, никогда не возымел глупость пойти к отцу Мансиа и рассказать, что случилось с девушкой; он бы сразу догадался, что это может быть только Беттина. Я был уверен, что Кандиани расскажет ему всё, и я был очень зол. Назавтра, рано утром, она подошла к моей кровати, принеся воротничок, и подсунула мне письмо. «Ненавидьте мою жизнь, но уважайте мою честь и мирскую темноту, в которой я живу. Никто из вас не должен идти завтра на исповедь к отцу Мансиа. Вы единственный, кто может сорвать этот план, и я вам предложу для этого средство. Я увижу, действительно ли вы питаете ко мне дружбу». Удивительно, как эта бедная девушка пробудила во мне сострадание этим письмом. Несмотря на это, я ответил ей так: «Я понимаю, что, несмотря на все нерушимые законы исповеди, проект вашей матери должен вас беспокоить, но я не понимаю, почему, для того, чтобы сорвать этот проект, вы собираетесь рассчитывать на меня скорее, чем на Кандиани, который заявил о своём одобрении. Все, что я могу вам обещать, что я не буду в этом участвовать, но я ничего не могу сделать с вашим любовником. Это вам надо поговорить с ним». Вот ответ, который она дала мне: «Я больше не разговаривала с Кандиани с роковой ночи, которая сделала меня несчастной; и я не буду говорить с ним больше, даже если, поговорив с ним, я смогу стать снова счастливой. Вы единственный, кому я хочу доверить свою жизнь и честь». Эта девушка казалась мне более удивительной, чем все те из романов, прочитанных мной, где изображались разные чудеса. Мне казалось, что она играет со мной с беспримерной наглостью. Я видел, что она желает вернуть меня в свои цепи; и хотя меня это не интересовало, я, тем не менее, был расположен сделать щедрый поступок, на который она считала способным единственно меня. Она была уверена в успехе, но в какой школе она научилась так хорошо понимать человеческое сердце? Возможно, чтение некоторых романов является причиной погибели многих девушек, но очевидно, что чтение хороших учит их приятному обхождению и упражняет в социальных добродетелях. Настроившись на то, чтобы проявить по отношению к этой девушке всю доброжелательность, на какую она сочла меня способным, я сказал доктору в момент, когда мы ложились спать, что моя совесть заставляет меня отказаться от того, чтобы идти на исповедь к отцу Мансиа, и что я не хотел бы отделяться при этом от своих товарищей. Он ответил, что проникся моими причинами, и что он поведет всех в Сент-Антуан. Я поцеловал ему руку. Это было проделано хорошо, и я увидел Беттину в полдень, пришедшую за стол с выражением удовлетворения на лице. Открытое обморожение заставило меня оставаться в постели, и доктор пошел в церковь со всеми моими товарищами; Беттина осталась дома одна, она пришла и присела на мою кровать. Я ждал. Я видел, что настало время для большого объяснения, которое, в глубине души, не было мне неприятно.
Она начала с того, что спросила меня, не сержусь ли я на то, что она выбрала такой момент, чтобы со мной говорить. Нет, ответил я ей, потому что вы выбрали его, чтобы сказать, что чувство, которое вы ко мне испытываете – только дружба, и вы должны быть уверены, что в будущем никогда не будет такого, чтобы я мог доставить вам беспокойство. Таким образом, вы можете делать, что хотите. Чтобы поступать иначе, я должен был бы быть влюблен в вас, а этого уже нет. Вы задушили росток страсти в одно мгновенье, когда вошли в мою комнату после пинка, который отвесил мне Кандиани. Я возненавидел вас, потом стал презирать, потом вы стали для меня безразличны, и, наконец, безразличие исчезло, когда я увидел, на что способен ваш ум. Я стал вашим другом. Я прощаю ваши слабости, и, привыкнув видеть вас такой, какая вы есть, я выработал для Вас самую высокую оценку, достойную вашего ума. Я был обманут, но это неважно: существует нечто божественное, которым я любуюсь, его люблю, и я думаю, что данью по отношению к нему было бы чувство самой чистой дружбы. Платите мне той же монетой – искренностью, а не маневрами. Прекращайте же все ваши нелепости, потому что вы уже получили от меня все, на что вы могли претендовать. Сама мысль о любви отталкивает меня, потому что я не могу любить иначе, чем будучи уверен, что любим. Вы властны отнести мою глупую деликатность на счет моего возраста, но дело не может обстоять иначе. Вы написали мне, что вы не разговариваете больше с Кандиани, и если я являюсь причиной этого разрыва, знайте, что я этим недоволен. Ваша честь требует стереть пятно, которое легло на вас, и я должен остеречься в будущем нанести ей малейшую тень. Вообразите, что вы влюбили кого-либо в себя и соблазняете его таким же образом, как вы делали со мной; вы вдвойне неправы, потому что может статься, что если он вас полюбит, вы сделаете его несчастным. Все, что вы сказали мне, ответила Беттина, основано на ошибке. Я не люблю Кандиани и никогда не была им любима. Я возненавидела Кандиани и ненавижу его, потому что он это заслужил, и я заверяю вас в этом, несмотря на то, что обстоятельства сложились против меня. Что касается соблазнения, я прошу избавить меня от этого гнусного упрека. Не кажется ли вам, что если бы вы прежде не соблазнили меня, я бы никогда не сделала того, в чем я раскаиваюсь по причинам, которыми вы пренебрегаете и которые я вам изложу. Ошибка, которую я допустила, велика лишь потому, что я не предугадала вреда, который она может мне нанести в неопытной голове такого неблагодарного, как вы, который может меня в этом обвинить.
Беттина плакала. То, что она мне сказала, было правдоподобно и лестно; но я слишком многое видел. Кроме того, она показала мне, что с помощью своего ума может заставить меня поверить во всё, что она мне предложит, и что ее рассуждение – только результат воздействия её самолюбия, которое заставило бы её переживать мир как мою победу, что слишком её унизит.
Неколебимый в своей мысли, я ей ответил, что верю всему, что она только что рассказала мне о состоянии своего сердца до того момента, когда заставила меня влюбиться в себя, так что я обещал, что сохраню ей в своей душе титул соблазнительницы. Но согласитесь, сказал я ей, что жар вашего огня был кратковременным, и достаточно было небольшого ветерка, чтобы его потушить. Ваша добродетель, которая отрешилась от своих обязанностей только на час, и которая возобладала вдруг над вашими чувствами, введенными в заблуждение, заслуживает некоторой похвалы. Вы, обожавшая меня, стали вдруг нечувствительны ко всем моим огорчениям, которые я сообщил вам. Мне еще надо понять, каким образом эта добродетель могла вам быть столь дорога, в то время как Кандиани не переставал сокрушать её каждую ночь в своих объятиях.
– Вот что я хотела бы, чтобы вы увидели. Вот что я не могла вам объяснить, и что я не смогла вам рассказать, потому что вы отказались от свидания, о котором я вас просила, и на котором сообщила бы вам правду.
Кандиани, – продолжала она, – признался мне в любви через восемь дней после того, как приехал к нам. Он просил моего согласия, чтобы его собственный отец сделал мне предложение от его имени, прежде, чем он завершит свою учебу. Я ответила ему, что я еще недостаточно хорошо его знаю, что у меня нет на это согласия, и попросила его не говорить мне больше об этом. Он сделал вид, что успокоился, но я догадалась вскоре, что это не так, так как не было дня, когда бы он не попросил, чтобы я пришла его причесать. Когда я ответила ему, что у меня нет на это времени, он сказал мне, что вы были счастливее, чем он. Я посмеялась над этим упреком и над его подозрениями, потому что весь дом знал, что я заботилась о вас. Это было через пятнадцать дней после того, как я отказала ему в удовольствии прийти его причесать, – он час провозился с вами в этом фарсе, о котором вы знаете, и из которого, конечно, родился огонь, породивший мысли, которых вы до того не имели. Что касается меня, я была очень довольна; я любила вас, и, отказавшись от естественных для моей страсти желаний, никакого раскаяния не испытывала. Мне не терпелось увидеться с вами на следующий день, но в тот же день после обеда пробил час моих несчастий. Кандиани сунул мне в руки записку и письмо, которое затем я спрятала, с намерением в дальнейшем показать его вам, в свое время и в своем месте.
С этими словами Беттина передала мне письмо и записку. Вот эта записка: «Либо встретьтесь со мной не позже, чем этой ночью в вашей комнате, оставив приоткрытой дверь, ведущую во двор, либо подумайте о ваших делах завтра, при встрече с доктором, которому я передам письмо, копию которого вы видите». Письмо содержало рассказ бессовестного и обозленного доносчика, которое, в действительности, могло иметь весьма скверные последствия. Он говорил доктору, что его сестра проводила со мной утренние часы, когда тот шел служить массу, в преступной связи, и он обещал дать ему затем такие объяснения, которые сняли бы всякие сомнения. После размышления, продолжила Беттина, я, по необходимости, была вынуждена выслушать это чудовище. Я оставила дверь приоткрытой, и я ждала его, положив в карман стилет моего отца. Я ждала его в дверях, чтобы он говорил со мной оттуда, поскольку моя комната отделена от комнаты, где спал мой отец, лишь перегородкой. Малейший шум мог его разбудить. На мой первый вопрос о клевете, содержащейся в письме, которое он грозился передать моему брату, он ответил, что это не клевета, потому что он сам видел все, происходившее между нами утром, через отверстие, которое он проделал в полу мансарды над вашей кроватью. Он решил, что раскроет всё моему брату и моей матери, если я буду упорствовать, отказывая ему в тех же снисхождениях, которые, он был уверен, я оказываю вам. Высказав ему в справедливом гневе самые ужасные обвинения и назвав его трусливым шпионом и клеветником, ибо он не мог видеть ничего, кроме детских шалостей, я кончила, поклявшись ему, что он напрасно обольщается надеждой меня сломить угрозами, касающимися ребячьих игр. Тогда он стал приносить тысячу извинений и доказывать мне, что я должна отнести на счет своей неуступчивости его поступок, который он может оправдать только страстью, что я его спровоцировала и что это сделало его несчастным. Он согласился с тем, что его письмо, может быть, клеветническое, и что он действовал предательски, и он заверил меня, что никогда не использует силу для достижения милостей, которые желает заслужить только постоянством своей любви. Я почувствовала себя обязанной сказать ему, что я могла бы полюбить его в дальнейшем, и обещала ему, что я не подойду больше к вашей кровати, когда доктора не будет; я отослала его счастливым, и он не осмелился попросить у меня даже одного поцелуя, когда я обещала, что мы могли бы поговорить как-нибудь в другой раз в том же месте. Я пошла спать в отчаянии, сознавая, что я не смогу ни видеть Вас, когда нет моего брата, ни дать вам объяснение о сложившихся обстоятельствах. Так прошло три недели, и я страдала невероятно, потому что вы не переставали меня звать, а я все время чувствовала себя обязанной уклоняться. Я боялась остаться наедине с вами, потому что была уверена, что не смогу помешать себе разъяснить вам причину изменения моего поведения. Прибавьте, что я видела себя обязанной по крайней мере раз в неделю выходить к входной двери, чтобы поговорить с мерзавцем и умерить словами его нетерпение. Я, наконец, решилась окончательно прекратить мое страдание, когда увидела, что угрожают и вам. Я предложила вам пойти на бал, одетым как девушка; я собиралась открыть вам всю интригу и предоставить вам возможность всё исправить. Эта бальная вечеринка была неприятна Кандиани, но мое решение было принято. Вы знаете, какого рода возникло препятствие. Отъезд моего брата с моим отцом вдохновил нас обоих на одну и ту же мысль. Я пообещала вам прийти прежде, чем получила записку от Кандиани, в которой он не просил меня о рандеву, но предупредил, что собирается прийти в мою комнату. У меня не было времени, ни для того, чтобы сказать ему, что я имею основания запретить ему приходить, ни для того, чтобы предупредить вас, что я приду к вам лишь после полуночи, как я и собиралась сделать, потому что была уверена, что после часа болтовни отправлю этого несчастного в его комнату; но проект, для которого нужно было связаться с вами, требовал гораздо более длительного времени. Оказалось, что невозможно заставить его уйти. Я вынуждена была слушать его и страдать всю ночь. Его жалобы и его сетования на свое несчастье длились бесконечно. Он жаловался, что я не хочу соглашаться на проект, который, если бы я любила его, я бы одобрила. Он заключался в том, чтобы бежать с ним на святой неделе в Феррару, где жил его дядя, который принял бы нас и легко нашел резоны, понятные его отцу, чтобы быть в дальнейшем счастливыми всю жизнь. Возражения с моей стороны, его ответы, детали, объяснения для устранения затруднений, заняли всю ночь. Мое сердце обливалось кровью при мысли о вас, но мне не в чем упрекнуть себя, и ничего не произошло такого, что сделало бы меня недостойной вашего уважения. Единственным основанием для этого стало бы то, что вы решили бы, что все, сказанное мной вам – сказка, но тогда вы были бы неправы и несправедливы. Если бы я смогла заставить себя пойти на жертву ради любви, я могла бы заставить этого предателя выйти из моей комнаты через час после того, как он туда вошел, но я бы предпочла смерть этому ужасному средству. Могла ли я предположить, что вы находитесь снаружи, на ветру и под снегом? Мы оба достойны жалости, но я более, чем вы. Все это было записано на небесах, чтобы лишить меня здоровья и стать причиной появления конвульсий, причем я даже не уверена, что припадки не возобновятся. Говорят, что я заколдована, и что мной овладели демоны. Я ничего не знаю об этом, но если это правда, я самая несчастная из всех девушек. Тут она замолчала, и у неё полились потоком слёзы и стоны.
История, которую она мне вручила, была возможна, но не внушала доверия, Force era vero, ma non, pero credibile A chi del senso suo fosse signore[21 - Может быть, это была правда, но это не кажется правдоподобным для всех, кто в здравом уме. Ариосто Неистовый Роландо.], и я положился на свой здравый смысл. То, что вызвало мое волнение, были её слезы, реальность которых не оставила у меня сомнения. Я их отнес на счет силы её самолюбия. Мне нужно было доказательство, чтобы уступить, и для его убедительности необходимо было не правдоподобие, но очевидность. Я не мог дать веры ни умеренности Кандиани, ни терпению Беттины, ни использованию семи часов лишь для одного разговора. Несмотря на это, я принял участие в своего рода развлечении, соглашаясь принять за чистую монету те фальшивые купюры, что она мне предлагала.
Вытерев слезы, она впилась своими красивыми глазами в мои, надеясь различить видимые следы своей победы, но я удивил её своим критическим отношением, которым, по своей артистичности, она в своей апологии пренебрегла. Риторика пользуется проявлениями природы только как художник, желающий их имитировать. Всё, что представляется чересчур красивым, ложно.
Тонкий ум этой девушки, не обработанный учебой, претендовал на преимущество казаться чистым и безыскусным, она это сознавала и пользовалась этим знанием, чтобы извлечь из этого выгоду, но этот ум внушил мне слишком высокое представление о своем мастерстве.
– И что теперь? – сказал я ей, – моя дорогая Беттина, весь ваш рассказ меня тронул, но как вы можете ожидать, что я сочту натуральными ваши конвульсии, заблуждением разума ваше красивое безумие и ваши симптомы одержимости, что вы демонстрировали слишком кстати во время сеансов экзорцизма, хотя, как вы очень разумно говорите, по поводу этого пункта у вас есть сомнения?
При этих словах она онемела на пять или шесть минут, уставившись на меня, а потом, опустив глаза, начала плакать, приговаривая только время от времени – «Бедная несчастная». Эта ситуация, в конце концов, стала для меня тягостной, я спросил, что я мог бы для нее сделать. Она ответила мне печальным тоном, что если мое сердце ничего мне не говорит, она не знает, чего могла бы требовать от меня. Я верила, – сказала она, – в возможность вернуть в вашем сердце права, которые потеряла. Но я вас больше не интересую. Продолжайте думать обо мне плохо и предпочитать выдумки реальному злу, которому вы причина и которое вы увеличиваете сейчас. Вы раскаетесь в этом позже и в вашем раскаянии вы не обретёте счастья. Она собралась уходить, но поскольку я считал её способной на всё, она внушила мне страх. Я воззвал к ней, что единственное средство, которым она могла бы вернуть мою любовь, состоит в том, чтобы в течение месяца обойтись без конвульсий и без того, чтобы заставлять нас идти искать прекрасного отца Мансиа. Все это, ответила она, не зависит от меня, но что вы имеете в виду под этим эпитетом «прекрасный», которым вы наделяете якобита? Неужели вы полагаете?.. – Пустяки, пустяки, я ничего не полагаю, потому что я должен был бы ревновать, что-то полагая, но я скажу вам, что предпочтение ваших чертей, отдаваемое экзорцизмам этого красивого монаха перед теми, что выдает мерзкий капуцин, – это сюжет комментариев, которые не делают вам чести. Поступайте, впрочем, как знаете.
Она ушла, и через четверть часа все вернулись. После обеда служанка сказала мне, хотя я её не спрашивал, что Беттина легла с сильным ознобом после того, как передвинула свою кровать в кухню, рядом со своей матерью. Эта лихорадка могла быть естественной, но я в этом сомневался. Я был уверен, что она никогда не даст основания думать, что хорошо себя чувствует, потому что этим дала бы мне слишком сильный аргумент для сомнений в заявляемой невинности своих отношений с Кандиани. Я рассматривал также как хитрость перестановку её кровати в кухню.
На следующий день врач Оливио, найдя у нее сильную лихорадку, сказал доктору, что она болтает всякую ерунду, но это происходит от лихорадки, а не от чертей. Беттина фактически бредила весь день, но доктор стал на точку зрения врача, предоставив матери болтать и не отправляя за якобитом. На третий день лихорадка стала еще сильнее, и пятна на коже заставили предположить ветряную оспу, которая и проявилась на четвертый. Прежде всего, отправили жить в другое место Кандиани и обоих Фельтрини, которые не болели ею, и, не имея основания опасаться заразы, я остался один. Бедная Беттина была настолько покрыта этой чумой, что на шестой день не видно стало её кожи по всему телу. Её глаза были закрыты, пришлось остричь ей все волосы, и отчаялись спасти её жизнь, когда увидели, что её рот и горло так опухли, что удалось ввести ей в пищевод лишь несколько капель меда. Не было заметно у неё никакого движения, кроме дыхания. Ее мать не отлучалась от её постели, и мне были признательны, когда я перенёс к этой постели свой стол со своими тетрадями. Девушка превратилась во что-то ужасное, её голова стала на треть больше, не стало видно носа и опасались за её глаза, которые исчезли. Что беспокоило меня чрезвычайно и от чего я постоянно мучился, был ее зловонный пот. На девятый день пришел священник дать ей отпущение грехов и помазание, а затем произнес, что оставляет её в руках божьих. В этой, столь грустной, сцене диалоги матери Беттины с доктором заставляли меня смеяться. Она хотела бы знать, если дьявол, которым Беттина одержима, мог заставлять её творить безумства, что дьявол станет делать, если она умрет, потому что она не верит, что он настолько глуп, чтобы оставаться в таком отвратительном теле. Она у него спрашивала, сможет ли дьявол овладеть душой бедной девочки. Бедный доктор теологии отвечал на все эти вопросы, которые не имели ни тени здравого смысла и с каждым днем всё больше смущали бедную женщину.
На десятый и одиннадцатый день опасались в любой момент её потерять. Все гнилостные бубоны стали источать черный гной, и заражали воздух: никто не мог противостоять ему, кроме меня, которого состояние этой несчастной приводило в отчаяние. Именно в этом ужасном состоянии она внушила мне всю нежность, которую я проявлял к ней после её выздоровления. На тринадцатый день, когда у нее не было больше лихорадки, она стала двигаться из-за невыносимого зуда, и никакое средство не могло бы её успокоить больше, чем эти могущественные слова, что я говорил ей каждый раз: помните, Беттина, вы выздоравливаете, но если вы посмеете чесаться, вы останетесь такой уродливой, что никто больше не будет вас любить. Можно бросить вызов всем физикам мира, найдется ли более мощный тормоз, чем этот, против зуда у девушки, которая знает, что была красива, и которая рискует стать уродливой по своей вине, если она почешется.
Она открыла, наконец, свои красивые глаза, ей поменяли постель и перенесли её в свою комнату. Абсцесс на шее удерживал её в постели вплоть до пасхи. Она заразила меня и у меня появилось восемь или десять бубонов, три из которых оставили неизгладимый след на лице: они составили мне честь в глазах Беттины, которая, наконец, признала, что только я заслужил её нежность. Её кожа осталась покрыта красными пятнами, которые исчезли только к концу года. Она любила меня в дальнейшем без какого-либо притворства, и я любил ее, никогда не пытаясь сорвать цветок, который судьба и предопределение хранили для Гименея. Но сколь жалок оказался этот Гименей! Это случилось через два года, когда она стала женой сапожника по имени Пигоццо, известного негодяя, который сделал её бедной и несчастной. Доктор, её брат, должен был заботиться о ней. Пятнадцать лет спустя он взял ее с собой в Сен-Жорж-де-ла-Валле, где он был избран архиереем. Заехав его повидать восемнадцать лет спустя, я нашел Беттину старой, больной и угасшей. Она умерла на моих глазах в 1776 году, через двадцать четыре часа после моего приезда. Я расскажу об этой смерти в свое время.
Моя мать приехала в это время из Петербурга, где императрица Анна Иоанновна не сочла итальянскую комедию достаточно забавной. Вся труппа вернулась в Италию, а моя мать гастролировала с Карленом Бертинацци, Арлекином, который умер в Париже в 1783 году. Едва прибыв в Падую, она послала уведомление о своем прибытии доктору Гоцци, который привез меня сначала в гостиницу, где она поселилась со своим спутником. Мы там пообедали, и перед отъездом она подарила ему меховую шубу и дала мне рысью шкуру, чтобы я сделал подарок Беттине. Шесть месяцев спустя она вызвала меня в Венецию, чтобы повидать снова, прежде чем уехать в Дрезден, где она получила пожизненный ангажемент на службе у курфюрста Саксонии Августа III, короля Польши. Она привела с собой моего брата Жана, которому было тогда восемь лет, и который при отъезде начал отчаянно плакать, что заставило меня предположить в его характере много глупости, потому что в этом отъезде не было ничего трагического. Он был единственным, кто все свое состояние получил от нашей матери, у которой, однако, он не был любимчиком. После этого я провел еще один год в Падуе, изучая право, доктором которого стал в возрасте шестнадцати лет, защитив по гражданскому праву тезисы «de testamentis»[22 - «О завещании»] и по каноническому праву-«utrum hebrei possint construere novas Sijnagogas»[23 - «Могут ли евреи строить новые синагоги».]. Моим призванием было изучение медицины, чтобы совершенствоваться в профессии, к которой я чувствовал склонность, но меня не слушали, хотели, чтобы я занялся изучением законов, к которым я чувствовал непобедимое отвращение. Утверждалось, что я мог бы добиться успеха, только став адвокатом, и, что еще хуже, церковным адвокатом, потому что считали, что у меня есть дар слова. Если бы решение было продуманным, меня осчастливили бы, сделав врачом, где шарлатанство практикуется еще более, чем в профессии адвоката. Но я не стал ни тем, ни другим, и не могло быть иначе. Возможно, именно по этой причине я никогда не хотел приглашать адвокатов, когда возникали правовые претензии ко мне в суде, ни звать врачей, когда я заболевал. Крючкотворство разорило много больше семей, чем поддержало, и тех, кто умер из-за врачей, гораздо больше, чем тех, кто из-за них выздоровел. Результат таков, что мир был бы гораздо менее несчастен без этих двух разновидностей отродий дьявола.
Обязанность поступить в Падуанский университет, называемый Бо, чтобы слушать лекции профессоров, поставила меня перед необходимостью ходить везде самостоятельно, и я был этому рад, потому что до того времени никогда не встречал свободного человека. Желая воспользоваться полной свободой, которую получил в свое распоряжение, я завёл все возможные дурные знакомства с известными студентами. Самые известные должны были быть самыми распутными, игроками, посетителями дурных мест, пьяницами, дебоширами, совратителями честных девушек, насильниками, лжецами и неспособными соответствовать малейшему чувству добродетели. Будучи в компании людей такого сорта, я начал познавать мир, изучая его по благородной книге опыта.
Теория нравов приносит такую же пользу в жизни человека, как та, что возникает, когда перед чтением книги просматривают её оглавление; когда её изучают, жизнь оказывается не столь бесформенной, как в природе. Такова школа морали, которую преподают нам поучения, наставления и истории, рассказываемые нам теми, кто нас воспитывает. Мы внимательно прислушиваемся ко всему, но когда дело доходит до того, чтобы использовать данные нам советы, мы просто хотим посмотреть, будет ли дело таким, как нам было предсказано; мы отдаемся ему, и часто бываем наказаны раскаянием. Нас немного утешает то, что благодаря таким моментам мы становимся учеными и получаем право поучать других. Те, кого мы наставляем, получают ни больше ни меньше, чем то, что мы уже делали, в результате чего мир существует прежним или становится всё хуже. – Etas parcntum. pejor avis, tulit nos nequiores mox daturos progeniem vitiosiorem, Horace «Поколение наших родителей еще хуже, чем наших предков, мы созданы более злополучными, и предназначены, чтобы в ближайшее время создать поколение, еще более порочное» Гораций.
Благодаря тому, что доктор Гоцци разрешил мне выходить самостоятельно, я познал многие истины, которые до этого времени не только мне не были известны, но я даже не предполагал их существование. При моем появлении наиболее опытные завладели мной и прощупали меня. Найдя меня новичком во всем, они вознамерились просветить меня, столкнув со всех опор. Они заставили меня играть, и после того, как я проиграл те немногие деньги, что у меня были, они заставили меня проигрывать на слово, и они научили меня творить плохие дела, чтобы расплатиться. Я начал учиться этим вещам и нажил неприятности. Я научился не доверять всем тем, кто лжет в лицо, и тем более не полагаться на любые предложения тех, кто льстит. Я научился жить с теми, кто ищет ссоры, узнал, когда нужно покинуть компанию, либо окажешься в любой момент на краю пропасти. Что касается продажных женщин, я не попал в их сети, потому что не видел среди них ни одной такой красивой, как Беттина, но не мог защититься от желания такого рода славы, происходящего от смелости, в сущности являющейся пренебрежением к жизни. Студенты Падуи пользовались в те времена большими привилегиями. Это были злоупотребления, которые для старших сословий считаются законными: таков примитивный характер почти всех привилегий. Они отличаются от прерогатив. Дело в том, что студенты, чтобы утвердить свои привилегии, шли на преступления. Виновные не подвергались строгому наказанию, потому что не в интересах государства было уменьшать суровостью наказания приток учеников, которые съезжались в этот известный университет со всей Европы. Правилом венецианского правительства было платить очень большое жалованье знаменитым учителям, и давать жить тем, кто приезжал, чтобы слушать их уроки в условиях наибольшей свободы. Студенты зависели только от своего начальника, называемого Синдик. Это был дворянин-иностранец, который должен был представлять государство и отвечать перед правительством за поведение учеников. Он должен был привлекать их к ответственности за нарушение законов, и студенты подчинялись его приговорам, потому что, когда они были, по-видимому, правы, он их защищал. Они не желали, например, терпеть, чтобы местные служащие заглядывали в их почту, и обычные сбиры не смели арестовывать студента; они носили любое оружие, которое им хотелось, запрещенное для других, они обманывали безнаказанно дочерей в семьях, которых их родственники не держали взаперти; они часто нарушали общественное спокойствие ночными безобразиями; это была необузданная молодежь, которая хотела только тешить свои капризы, веселиться и смеяться. В те дни случилось однажды, что сбир вошел в кафе, где находились два студента. Один из них велел ему выйти, сбир этим пренебрег, студент выстрелил в него из пистолета и промахнулся, но сбир дал отпор и ранил студента, а после убежал. Студенты собрались на Бо и направились, разделившись на несколько отрядов, разыскивать сбиров, чтобы отомстить за полученное оскорбление, растерзав их; но при столкновении два студента остались мертвыми. Вся толпа студентов объединилась, и они поклялись не складывать оружия, пока не останется больше сбиров в Падуе. Правительство вмешалось, и Синдика обязали заставить студентов сложить оружие, после получения ими удовлетворения, потому что сбиры были неправы. Сбир, который ранил студента, был повешен, и мир был заключен, но в течение восьми дней, пока не установили этот мир, все студенты из Падуи разделились на патрули, и я, не желая быть менее смелым, чем другие, поступил так же, как советовал мне доктор. Вооружившись пистолетами и карабином, я ходил каждый день с моими компаньонами искать врага. Я был весьма огорчен, что компания, в которую я входил, ни разу не встретила ни одного сбира. Доктор по окончании этой войны насмехался надо мной, но Беттина восхищалась моей смелостью.
На этом новом отрезке жизни, не желая казаться менее богатым, чем мои новые друзья, я позволил себе расходы, которые не мог поддерживать. Я продал или обменял все, что имел, и влез в долги, которые не мог оплатить. Это были мои первые огорчения, и самые мучительные, из тех, что мог бы перенести молодой человек. Я написал моей дорогой бабушке, прося ее о помощи, но вместо того, чтобы ее мне направить, она приехала сама в Падую, чтобы поблагодарить доктора Гоцци, и взяла Беттину и меня с собой в Венецию 1 октября 1739 года.
Доктор в момент моего отъезда подарил мне, роняя слезы, самое дорогое. Он надел мне на шею образок, я уже не помню какого, святого, который, возможно, до сих пор был бы со мной, если бы он не был из золота. Чудом, которое он сотворил, явилось то, что он послужил мне для удовлетворения одной из моих насущных потребностей. Всякий раз, когда я возвращался в Падую, чтобы завершить свою учебу по праву, я останавливался у него, но всегда с сожалением видел около Беттины этого мерзавца, который должен был на ней жениться, и который ее, как мне казалось, не был достоин. Я был огорчен, что не смог ее сберечь. Это было предубеждение, но мне не удалось его разрушить.
Глава IV
«Он приехал из Падуи, где обучался в университете», – заявляли обо мне обычно повсюду, и эта формула, будучи произнесенной, привлекала ко мне внимание равных мне по возрасту и положению, похвалы отцов семейства и ласки старых женщин, многие из которых, не будучи старыми, хотели сойти за таковых, чтобы иметь законное право меня целовать. Кюре прихода Сан-Самуэле по имени Тоселло, приписав меня к своей церкви, представил монсеньору Корреру, патриарху Венеции, который тонзуровал меня, а спустя четыре месяца, по особой милости, даровал мне сразу четыре младших ранга клира. Моя бабушка была утешена сверх меры. Прежде всего, мне нашли хороших учителей, чтобы продолжить учебу, и г-н Баффо выбрал аббата Чиаво, чтобы тот учил меня писать чисто на итальянском языке и, особенно, изучить язык поэзии, к которому решительно у меня имелись наклонности. Я нашел себе отличное жилье, вместе с братом Франсуа, который начал изучать театральную архитектуру. Моя сестра и мой младший брат, родившийся после смерти отца, жили с бабушкой в другом доме, принадлежавшем ей, и где она хотела умереть, потому что ее муж умер там же. Квартира, где я жил, была та самая, где я потерял моего отца, потому что моя мать продолжала платить за нее, квартира была большая и очень хорошо меблирована.
Хотя аббат де Гримани должен был быть моим главным покровителем, я видел его крайне редко. Я был отдан под покровительство г-на де Малипьеро, которому отец Тоселло меня представил. Это был сенатор, который, будучи в возрасте семидесяти лет и не желая более вмешиваться в государственные дела, вел счастливую жизнь в своем дворце, хорошо кушал и устраивал каждый вечер встречи в очень избранном кругу, с дамами свободных взглядов и мыслящими мужчинами, бывшими в курсе всего, что происходило нового в городе. Этот старый сеньор был холост и богат, но три или четыре раза в год испытывал весьма болезненные приступы подагры, после которых каждый раз оказывался хромым то на одну, то на другую конечность, так, что становился полным калекой. Только голова, легкие и желудок у него оставались в порядке. Он был красив, гурман, лакомка, у него был тонкий ум, большое знание света, красноречие венецианца и проницательность, оставшаяся у сенатора, ушедшего в отставку после сорока лет управления республикой, и он перестал добиваться внимания прекрасного пола лишь теперь, имея в прошлом двадцать любовниц и отвергнув претензии каждой из них на звание самой любимой. Этот человек, почти калека, не казался таким, когда сидел, когда говорил, и когда был за столом. Он ел только один раз в день и в одиночку, потому что, не имея зубов, тратил на еду двойное время, по сравнению с другим сотрапезником, и не хотел ни торопиться, из любезности по отношению к своим гостям, ни видеть их вынужденными ждать, как он прожует своими деснами то, что хотел проглотить. По одной этой причине он принужден был есть в одиночку, что очень огорчало его превосходного повара.
Первый раз, когда кюре оказал мне честь представить Его Превосходительству, я очень уважительно этому воспротивился, назвав причину, которую каждый нашел бы не стоящей внимания. Я сказал, что он должен приглашать к своему столу только тех, кто, по своей природе, ест за двоих.
Когда мы вошли, Беттина спала, или делала вид, что спит. Отец Мансиа начал с того, что взял кропильницу и стал обрызгивать её святой водой; она открыла глаза, посмотрела на монаха и через мгновение закрыла их, затем вновь их открыла, посмотрев на него немного внимательнее, повернулась на спину, опустила руки и, красиво склонив голову, погрузилась в сон, являя собой самую нежную картину. Экзорцист, стоя, вынул из кармана требник и епитрахиль, которую надел на шею, и ковчежец, который поставил на грудь спящей. Затем, с видом святого, он попросил всех нас встать на колени, чтобы молиться Богу, прося его дать знать, одержима ли пациентка или страдает от натуральной болезни. Он оставил нас в таком положении на полчаса, продолжая читать тихим голосом. Беттина не шевелилась.
Тогда, как мне кажется, чтобы продолжить играть свою роль, он попросил доктора выслушать его в отдалении. Они вошли в комнату, откуда вышли четверть часа спустя, хохоча над притворщицей, которая, увидев их, повернулась к ним спиной. Отец Мансиа улыбнулся, обмакнув кропило в кропильницу, окропил нас всех и ушел.
Доктор сказал нам, что экзорцист вернется на следующий день, и что он обещал освободить ее за три часа, если она одержима, но ничего не обещал, если она сумасшедшая. Мать сказала, что убеждена, что он освободит ее от бесов, и она благодарила Бога за то, что он явил ей благодать, чтобы увидеть святого, прежде чем ей умереть. Не было ничего забавней растерянности Беттины на другой день. Она стала держать самые безумные речи из тех, что мог придумать поэт, и она их не прерывала при появлении прекрасного экзорциста. Тот четверть часа разыгрывал представление, вооруженный всеми своими предметами, затем попросил нас выйти. Мы повиновались. Дверь осталась открытой, но это было неважно. Кто бы осмелился войти? Мы слышали в течение трех часов лишь глубокую тишину. В полдень он позвал и мы вошли. Беттина была там, грустная и очень спокойная, а монах складывал багаж. Он ушел, сказав, что он надеется на лучшее, попросив доктора сообщать ему новости. Беттина пообедала в своей постели, поужинала за столом, была разумна на следующий день, но вот что произошло, и это дало мне уверенность, что она не была ни безумна, ни одержима.
Это было за день до Сретения Богоматери. Доктор обычно водил нас к причастию в приходскую церковь; но тут он повел нас к исповеди в Сан-Августин, церковь, обслуживаемую падуанскими якобитами. Он сказал нам об этом за столом, где мы расположились на следующий день. Мать сказала: «Вы все должны были бы идти на исповедь к отцу Мансиа, чтобы получить отпущение грехов у такого святого человека. Я намерена тоже идти туда». Кандиани и Фельтрини согласились, я ничего не сказал. Этот проект мне не понравился, но я скрыл это, полный решимости не допустить его выполнение. Я верил в тайну исповеди, и я не был способен на ней солгать, но, зная, что я выбираю сам исповедника, я бы, безусловно, никогда не возымел глупость пойти к отцу Мансиа и рассказать, что случилось с девушкой; он бы сразу догадался, что это может быть только Беттина. Я был уверен, что Кандиани расскажет ему всё, и я был очень зол. Назавтра, рано утром, она подошла к моей кровати, принеся воротничок, и подсунула мне письмо. «Ненавидьте мою жизнь, но уважайте мою честь и мирскую темноту, в которой я живу. Никто из вас не должен идти завтра на исповедь к отцу Мансиа. Вы единственный, кто может сорвать этот план, и я вам предложу для этого средство. Я увижу, действительно ли вы питаете ко мне дружбу». Удивительно, как эта бедная девушка пробудила во мне сострадание этим письмом. Несмотря на это, я ответил ей так: «Я понимаю, что, несмотря на все нерушимые законы исповеди, проект вашей матери должен вас беспокоить, но я не понимаю, почему, для того, чтобы сорвать этот проект, вы собираетесь рассчитывать на меня скорее, чем на Кандиани, который заявил о своём одобрении. Все, что я могу вам обещать, что я не буду в этом участвовать, но я ничего не могу сделать с вашим любовником. Это вам надо поговорить с ним». Вот ответ, который она дала мне: «Я больше не разговаривала с Кандиани с роковой ночи, которая сделала меня несчастной; и я не буду говорить с ним больше, даже если, поговорив с ним, я смогу стать снова счастливой. Вы единственный, кому я хочу доверить свою жизнь и честь». Эта девушка казалась мне более удивительной, чем все те из романов, прочитанных мной, где изображались разные чудеса. Мне казалось, что она играет со мной с беспримерной наглостью. Я видел, что она желает вернуть меня в свои цепи; и хотя меня это не интересовало, я, тем не менее, был расположен сделать щедрый поступок, на который она считала способным единственно меня. Она была уверена в успехе, но в какой школе она научилась так хорошо понимать человеческое сердце? Возможно, чтение некоторых романов является причиной погибели многих девушек, но очевидно, что чтение хороших учит их приятному обхождению и упражняет в социальных добродетелях. Настроившись на то, чтобы проявить по отношению к этой девушке всю доброжелательность, на какую она сочла меня способным, я сказал доктору в момент, когда мы ложились спать, что моя совесть заставляет меня отказаться от того, чтобы идти на исповедь к отцу Мансиа, и что я не хотел бы отделяться при этом от своих товарищей. Он ответил, что проникся моими причинами, и что он поведет всех в Сент-Антуан. Я поцеловал ему руку. Это было проделано хорошо, и я увидел Беттину в полдень, пришедшую за стол с выражением удовлетворения на лице. Открытое обморожение заставило меня оставаться в постели, и доктор пошел в церковь со всеми моими товарищами; Беттина осталась дома одна, она пришла и присела на мою кровать. Я ждал. Я видел, что настало время для большого объяснения, которое, в глубине души, не было мне неприятно.
Она начала с того, что спросила меня, не сержусь ли я на то, что она выбрала такой момент, чтобы со мной говорить. Нет, ответил я ей, потому что вы выбрали его, чтобы сказать, что чувство, которое вы ко мне испытываете – только дружба, и вы должны быть уверены, что в будущем никогда не будет такого, чтобы я мог доставить вам беспокойство. Таким образом, вы можете делать, что хотите. Чтобы поступать иначе, я должен был бы быть влюблен в вас, а этого уже нет. Вы задушили росток страсти в одно мгновенье, когда вошли в мою комнату после пинка, который отвесил мне Кандиани. Я возненавидел вас, потом стал презирать, потом вы стали для меня безразличны, и, наконец, безразличие исчезло, когда я увидел, на что способен ваш ум. Я стал вашим другом. Я прощаю ваши слабости, и, привыкнув видеть вас такой, какая вы есть, я выработал для Вас самую высокую оценку, достойную вашего ума. Я был обманут, но это неважно: существует нечто божественное, которым я любуюсь, его люблю, и я думаю, что данью по отношению к нему было бы чувство самой чистой дружбы. Платите мне той же монетой – искренностью, а не маневрами. Прекращайте же все ваши нелепости, потому что вы уже получили от меня все, на что вы могли претендовать. Сама мысль о любви отталкивает меня, потому что я не могу любить иначе, чем будучи уверен, что любим. Вы властны отнести мою глупую деликатность на счет моего возраста, но дело не может обстоять иначе. Вы написали мне, что вы не разговариваете больше с Кандиани, и если я являюсь причиной этого разрыва, знайте, что я этим недоволен. Ваша честь требует стереть пятно, которое легло на вас, и я должен остеречься в будущем нанести ей малейшую тень. Вообразите, что вы влюбили кого-либо в себя и соблазняете его таким же образом, как вы делали со мной; вы вдвойне неправы, потому что может статься, что если он вас полюбит, вы сделаете его несчастным. Все, что вы сказали мне, ответила Беттина, основано на ошибке. Я не люблю Кандиани и никогда не была им любима. Я возненавидела Кандиани и ненавижу его, потому что он это заслужил, и я заверяю вас в этом, несмотря на то, что обстоятельства сложились против меня. Что касается соблазнения, я прошу избавить меня от этого гнусного упрека. Не кажется ли вам, что если бы вы прежде не соблазнили меня, я бы никогда не сделала того, в чем я раскаиваюсь по причинам, которыми вы пренебрегаете и которые я вам изложу. Ошибка, которую я допустила, велика лишь потому, что я не предугадала вреда, который она может мне нанести в неопытной голове такого неблагодарного, как вы, который может меня в этом обвинить.
Беттина плакала. То, что она мне сказала, было правдоподобно и лестно; но я слишком многое видел. Кроме того, она показала мне, что с помощью своего ума может заставить меня поверить во всё, что она мне предложит, и что ее рассуждение – только результат воздействия её самолюбия, которое заставило бы её переживать мир как мою победу, что слишком её унизит.
Неколебимый в своей мысли, я ей ответил, что верю всему, что она только что рассказала мне о состоянии своего сердца до того момента, когда заставила меня влюбиться в себя, так что я обещал, что сохраню ей в своей душе титул соблазнительницы. Но согласитесь, сказал я ей, что жар вашего огня был кратковременным, и достаточно было небольшого ветерка, чтобы его потушить. Ваша добродетель, которая отрешилась от своих обязанностей только на час, и которая возобладала вдруг над вашими чувствами, введенными в заблуждение, заслуживает некоторой похвалы. Вы, обожавшая меня, стали вдруг нечувствительны ко всем моим огорчениям, которые я сообщил вам. Мне еще надо понять, каким образом эта добродетель могла вам быть столь дорога, в то время как Кандиани не переставал сокрушать её каждую ночь в своих объятиях.
– Вот что я хотела бы, чтобы вы увидели. Вот что я не могла вам объяснить, и что я не смогла вам рассказать, потому что вы отказались от свидания, о котором я вас просила, и на котором сообщила бы вам правду.
Кандиани, – продолжала она, – признался мне в любви через восемь дней после того, как приехал к нам. Он просил моего согласия, чтобы его собственный отец сделал мне предложение от его имени, прежде, чем он завершит свою учебу. Я ответила ему, что я еще недостаточно хорошо его знаю, что у меня нет на это согласия, и попросила его не говорить мне больше об этом. Он сделал вид, что успокоился, но я догадалась вскоре, что это не так, так как не было дня, когда бы он не попросил, чтобы я пришла его причесать. Когда я ответила ему, что у меня нет на это времени, он сказал мне, что вы были счастливее, чем он. Я посмеялась над этим упреком и над его подозрениями, потому что весь дом знал, что я заботилась о вас. Это было через пятнадцать дней после того, как я отказала ему в удовольствии прийти его причесать, – он час провозился с вами в этом фарсе, о котором вы знаете, и из которого, конечно, родился огонь, породивший мысли, которых вы до того не имели. Что касается меня, я была очень довольна; я любила вас, и, отказавшись от естественных для моей страсти желаний, никакого раскаяния не испытывала. Мне не терпелось увидеться с вами на следующий день, но в тот же день после обеда пробил час моих несчастий. Кандиани сунул мне в руки записку и письмо, которое затем я спрятала, с намерением в дальнейшем показать его вам, в свое время и в своем месте.
С этими словами Беттина передала мне письмо и записку. Вот эта записка: «Либо встретьтесь со мной не позже, чем этой ночью в вашей комнате, оставив приоткрытой дверь, ведущую во двор, либо подумайте о ваших делах завтра, при встрече с доктором, которому я передам письмо, копию которого вы видите». Письмо содержало рассказ бессовестного и обозленного доносчика, которое, в действительности, могло иметь весьма скверные последствия. Он говорил доктору, что его сестра проводила со мной утренние часы, когда тот шел служить массу, в преступной связи, и он обещал дать ему затем такие объяснения, которые сняли бы всякие сомнения. После размышления, продолжила Беттина, я, по необходимости, была вынуждена выслушать это чудовище. Я оставила дверь приоткрытой, и я ждала его, положив в карман стилет моего отца. Я ждала его в дверях, чтобы он говорил со мной оттуда, поскольку моя комната отделена от комнаты, где спал мой отец, лишь перегородкой. Малейший шум мог его разбудить. На мой первый вопрос о клевете, содержащейся в письме, которое он грозился передать моему брату, он ответил, что это не клевета, потому что он сам видел все, происходившее между нами утром, через отверстие, которое он проделал в полу мансарды над вашей кроватью. Он решил, что раскроет всё моему брату и моей матери, если я буду упорствовать, отказывая ему в тех же снисхождениях, которые, он был уверен, я оказываю вам. Высказав ему в справедливом гневе самые ужасные обвинения и назвав его трусливым шпионом и клеветником, ибо он не мог видеть ничего, кроме детских шалостей, я кончила, поклявшись ему, что он напрасно обольщается надеждой меня сломить угрозами, касающимися ребячьих игр. Тогда он стал приносить тысячу извинений и доказывать мне, что я должна отнести на счет своей неуступчивости его поступок, который он может оправдать только страстью, что я его спровоцировала и что это сделало его несчастным. Он согласился с тем, что его письмо, может быть, клеветническое, и что он действовал предательски, и он заверил меня, что никогда не использует силу для достижения милостей, которые желает заслужить только постоянством своей любви. Я почувствовала себя обязанной сказать ему, что я могла бы полюбить его в дальнейшем, и обещала ему, что я не подойду больше к вашей кровати, когда доктора не будет; я отослала его счастливым, и он не осмелился попросить у меня даже одного поцелуя, когда я обещала, что мы могли бы поговорить как-нибудь в другой раз в том же месте. Я пошла спать в отчаянии, сознавая, что я не смогу ни видеть Вас, когда нет моего брата, ни дать вам объяснение о сложившихся обстоятельствах. Так прошло три недели, и я страдала невероятно, потому что вы не переставали меня звать, а я все время чувствовала себя обязанной уклоняться. Я боялась остаться наедине с вами, потому что была уверена, что не смогу помешать себе разъяснить вам причину изменения моего поведения. Прибавьте, что я видела себя обязанной по крайней мере раз в неделю выходить к входной двери, чтобы поговорить с мерзавцем и умерить словами его нетерпение. Я, наконец, решилась окончательно прекратить мое страдание, когда увидела, что угрожают и вам. Я предложила вам пойти на бал, одетым как девушка; я собиралась открыть вам всю интригу и предоставить вам возможность всё исправить. Эта бальная вечеринка была неприятна Кандиани, но мое решение было принято. Вы знаете, какого рода возникло препятствие. Отъезд моего брата с моим отцом вдохновил нас обоих на одну и ту же мысль. Я пообещала вам прийти прежде, чем получила записку от Кандиани, в которой он не просил меня о рандеву, но предупредил, что собирается прийти в мою комнату. У меня не было времени, ни для того, чтобы сказать ему, что я имею основания запретить ему приходить, ни для того, чтобы предупредить вас, что я приду к вам лишь после полуночи, как я и собиралась сделать, потому что была уверена, что после часа болтовни отправлю этого несчастного в его комнату; но проект, для которого нужно было связаться с вами, требовал гораздо более длительного времени. Оказалось, что невозможно заставить его уйти. Я вынуждена была слушать его и страдать всю ночь. Его жалобы и его сетования на свое несчастье длились бесконечно. Он жаловался, что я не хочу соглашаться на проект, который, если бы я любила его, я бы одобрила. Он заключался в том, чтобы бежать с ним на святой неделе в Феррару, где жил его дядя, который принял бы нас и легко нашел резоны, понятные его отцу, чтобы быть в дальнейшем счастливыми всю жизнь. Возражения с моей стороны, его ответы, детали, объяснения для устранения затруднений, заняли всю ночь. Мое сердце обливалось кровью при мысли о вас, но мне не в чем упрекнуть себя, и ничего не произошло такого, что сделало бы меня недостойной вашего уважения. Единственным основанием для этого стало бы то, что вы решили бы, что все, сказанное мной вам – сказка, но тогда вы были бы неправы и несправедливы. Если бы я смогла заставить себя пойти на жертву ради любви, я могла бы заставить этого предателя выйти из моей комнаты через час после того, как он туда вошел, но я бы предпочла смерть этому ужасному средству. Могла ли я предположить, что вы находитесь снаружи, на ветру и под снегом? Мы оба достойны жалости, но я более, чем вы. Все это было записано на небесах, чтобы лишить меня здоровья и стать причиной появления конвульсий, причем я даже не уверена, что припадки не возобновятся. Говорят, что я заколдована, и что мной овладели демоны. Я ничего не знаю об этом, но если это правда, я самая несчастная из всех девушек. Тут она замолчала, и у неё полились потоком слёзы и стоны.
История, которую она мне вручила, была возможна, но не внушала доверия, Force era vero, ma non, pero credibile A chi del senso suo fosse signore[21 - Может быть, это была правда, но это не кажется правдоподобным для всех, кто в здравом уме. Ариосто Неистовый Роландо.], и я положился на свой здравый смысл. То, что вызвало мое волнение, были её слезы, реальность которых не оставила у меня сомнения. Я их отнес на счет силы её самолюбия. Мне нужно было доказательство, чтобы уступить, и для его убедительности необходимо было не правдоподобие, но очевидность. Я не мог дать веры ни умеренности Кандиани, ни терпению Беттины, ни использованию семи часов лишь для одного разговора. Несмотря на это, я принял участие в своего рода развлечении, соглашаясь принять за чистую монету те фальшивые купюры, что она мне предлагала.
Вытерев слезы, она впилась своими красивыми глазами в мои, надеясь различить видимые следы своей победы, но я удивил её своим критическим отношением, которым, по своей артистичности, она в своей апологии пренебрегла. Риторика пользуется проявлениями природы только как художник, желающий их имитировать. Всё, что представляется чересчур красивым, ложно.
Тонкий ум этой девушки, не обработанный учебой, претендовал на преимущество казаться чистым и безыскусным, она это сознавала и пользовалась этим знанием, чтобы извлечь из этого выгоду, но этот ум внушил мне слишком высокое представление о своем мастерстве.
– И что теперь? – сказал я ей, – моя дорогая Беттина, весь ваш рассказ меня тронул, но как вы можете ожидать, что я сочту натуральными ваши конвульсии, заблуждением разума ваше красивое безумие и ваши симптомы одержимости, что вы демонстрировали слишком кстати во время сеансов экзорцизма, хотя, как вы очень разумно говорите, по поводу этого пункта у вас есть сомнения?
При этих словах она онемела на пять или шесть минут, уставившись на меня, а потом, опустив глаза, начала плакать, приговаривая только время от времени – «Бедная несчастная». Эта ситуация, в конце концов, стала для меня тягостной, я спросил, что я мог бы для нее сделать. Она ответила мне печальным тоном, что если мое сердце ничего мне не говорит, она не знает, чего могла бы требовать от меня. Я верила, – сказала она, – в возможность вернуть в вашем сердце права, которые потеряла. Но я вас больше не интересую. Продолжайте думать обо мне плохо и предпочитать выдумки реальному злу, которому вы причина и которое вы увеличиваете сейчас. Вы раскаетесь в этом позже и в вашем раскаянии вы не обретёте счастья. Она собралась уходить, но поскольку я считал её способной на всё, она внушила мне страх. Я воззвал к ней, что единственное средство, которым она могла бы вернуть мою любовь, состоит в том, чтобы в течение месяца обойтись без конвульсий и без того, чтобы заставлять нас идти искать прекрасного отца Мансиа. Все это, ответила она, не зависит от меня, но что вы имеете в виду под этим эпитетом «прекрасный», которым вы наделяете якобита? Неужели вы полагаете?.. – Пустяки, пустяки, я ничего не полагаю, потому что я должен был бы ревновать, что-то полагая, но я скажу вам, что предпочтение ваших чертей, отдаваемое экзорцизмам этого красивого монаха перед теми, что выдает мерзкий капуцин, – это сюжет комментариев, которые не делают вам чести. Поступайте, впрочем, как знаете.
Она ушла, и через четверть часа все вернулись. После обеда служанка сказала мне, хотя я её не спрашивал, что Беттина легла с сильным ознобом после того, как передвинула свою кровать в кухню, рядом со своей матерью. Эта лихорадка могла быть естественной, но я в этом сомневался. Я был уверен, что она никогда не даст основания думать, что хорошо себя чувствует, потому что этим дала бы мне слишком сильный аргумент для сомнений в заявляемой невинности своих отношений с Кандиани. Я рассматривал также как хитрость перестановку её кровати в кухню.
На следующий день врач Оливио, найдя у нее сильную лихорадку, сказал доктору, что она болтает всякую ерунду, но это происходит от лихорадки, а не от чертей. Беттина фактически бредила весь день, но доктор стал на точку зрения врача, предоставив матери болтать и не отправляя за якобитом. На третий день лихорадка стала еще сильнее, и пятна на коже заставили предположить ветряную оспу, которая и проявилась на четвертый. Прежде всего, отправили жить в другое место Кандиани и обоих Фельтрини, которые не болели ею, и, не имея основания опасаться заразы, я остался один. Бедная Беттина была настолько покрыта этой чумой, что на шестой день не видно стало её кожи по всему телу. Её глаза были закрыты, пришлось остричь ей все волосы, и отчаялись спасти её жизнь, когда увидели, что её рот и горло так опухли, что удалось ввести ей в пищевод лишь несколько капель меда. Не было заметно у неё никакого движения, кроме дыхания. Ее мать не отлучалась от её постели, и мне были признательны, когда я перенёс к этой постели свой стол со своими тетрадями. Девушка превратилась во что-то ужасное, её голова стала на треть больше, не стало видно носа и опасались за её глаза, которые исчезли. Что беспокоило меня чрезвычайно и от чего я постоянно мучился, был ее зловонный пот. На девятый день пришел священник дать ей отпущение грехов и помазание, а затем произнес, что оставляет её в руках божьих. В этой, столь грустной, сцене диалоги матери Беттины с доктором заставляли меня смеяться. Она хотела бы знать, если дьявол, которым Беттина одержима, мог заставлять её творить безумства, что дьявол станет делать, если она умрет, потому что она не верит, что он настолько глуп, чтобы оставаться в таком отвратительном теле. Она у него спрашивала, сможет ли дьявол овладеть душой бедной девочки. Бедный доктор теологии отвечал на все эти вопросы, которые не имели ни тени здравого смысла и с каждым днем всё больше смущали бедную женщину.
На десятый и одиннадцатый день опасались в любой момент её потерять. Все гнилостные бубоны стали источать черный гной, и заражали воздух: никто не мог противостоять ему, кроме меня, которого состояние этой несчастной приводило в отчаяние. Именно в этом ужасном состоянии она внушила мне всю нежность, которую я проявлял к ней после её выздоровления. На тринадцатый день, когда у нее не было больше лихорадки, она стала двигаться из-за невыносимого зуда, и никакое средство не могло бы её успокоить больше, чем эти могущественные слова, что я говорил ей каждый раз: помните, Беттина, вы выздоравливаете, но если вы посмеете чесаться, вы останетесь такой уродливой, что никто больше не будет вас любить. Можно бросить вызов всем физикам мира, найдется ли более мощный тормоз, чем этот, против зуда у девушки, которая знает, что была красива, и которая рискует стать уродливой по своей вине, если она почешется.
Она открыла, наконец, свои красивые глаза, ей поменяли постель и перенесли её в свою комнату. Абсцесс на шее удерживал её в постели вплоть до пасхи. Она заразила меня и у меня появилось восемь или десять бубонов, три из которых оставили неизгладимый след на лице: они составили мне честь в глазах Беттины, которая, наконец, признала, что только я заслужил её нежность. Её кожа осталась покрыта красными пятнами, которые исчезли только к концу года. Она любила меня в дальнейшем без какого-либо притворства, и я любил ее, никогда не пытаясь сорвать цветок, который судьба и предопределение хранили для Гименея. Но сколь жалок оказался этот Гименей! Это случилось через два года, когда она стала женой сапожника по имени Пигоццо, известного негодяя, который сделал её бедной и несчастной. Доктор, её брат, должен был заботиться о ней. Пятнадцать лет спустя он взял ее с собой в Сен-Жорж-де-ла-Валле, где он был избран архиереем. Заехав его повидать восемнадцать лет спустя, я нашел Беттину старой, больной и угасшей. Она умерла на моих глазах в 1776 году, через двадцать четыре часа после моего приезда. Я расскажу об этой смерти в свое время.
Моя мать приехала в это время из Петербурга, где императрица Анна Иоанновна не сочла итальянскую комедию достаточно забавной. Вся труппа вернулась в Италию, а моя мать гастролировала с Карленом Бертинацци, Арлекином, который умер в Париже в 1783 году. Едва прибыв в Падую, она послала уведомление о своем прибытии доктору Гоцци, который привез меня сначала в гостиницу, где она поселилась со своим спутником. Мы там пообедали, и перед отъездом она подарила ему меховую шубу и дала мне рысью шкуру, чтобы я сделал подарок Беттине. Шесть месяцев спустя она вызвала меня в Венецию, чтобы повидать снова, прежде чем уехать в Дрезден, где она получила пожизненный ангажемент на службе у курфюрста Саксонии Августа III, короля Польши. Она привела с собой моего брата Жана, которому было тогда восемь лет, и который при отъезде начал отчаянно плакать, что заставило меня предположить в его характере много глупости, потому что в этом отъезде не было ничего трагического. Он был единственным, кто все свое состояние получил от нашей матери, у которой, однако, он не был любимчиком. После этого я провел еще один год в Падуе, изучая право, доктором которого стал в возрасте шестнадцати лет, защитив по гражданскому праву тезисы «de testamentis»[22 - «О завещании»] и по каноническому праву-«utrum hebrei possint construere novas Sijnagogas»[23 - «Могут ли евреи строить новые синагоги».]. Моим призванием было изучение медицины, чтобы совершенствоваться в профессии, к которой я чувствовал склонность, но меня не слушали, хотели, чтобы я занялся изучением законов, к которым я чувствовал непобедимое отвращение. Утверждалось, что я мог бы добиться успеха, только став адвокатом, и, что еще хуже, церковным адвокатом, потому что считали, что у меня есть дар слова. Если бы решение было продуманным, меня осчастливили бы, сделав врачом, где шарлатанство практикуется еще более, чем в профессии адвоката. Но я не стал ни тем, ни другим, и не могло быть иначе. Возможно, именно по этой причине я никогда не хотел приглашать адвокатов, когда возникали правовые претензии ко мне в суде, ни звать врачей, когда я заболевал. Крючкотворство разорило много больше семей, чем поддержало, и тех, кто умер из-за врачей, гораздо больше, чем тех, кто из-за них выздоровел. Результат таков, что мир был бы гораздо менее несчастен без этих двух разновидностей отродий дьявола.
Обязанность поступить в Падуанский университет, называемый Бо, чтобы слушать лекции профессоров, поставила меня перед необходимостью ходить везде самостоятельно, и я был этому рад, потому что до того времени никогда не встречал свободного человека. Желая воспользоваться полной свободой, которую получил в свое распоряжение, я завёл все возможные дурные знакомства с известными студентами. Самые известные должны были быть самыми распутными, игроками, посетителями дурных мест, пьяницами, дебоширами, совратителями честных девушек, насильниками, лжецами и неспособными соответствовать малейшему чувству добродетели. Будучи в компании людей такого сорта, я начал познавать мир, изучая его по благородной книге опыта.
Теория нравов приносит такую же пользу в жизни человека, как та, что возникает, когда перед чтением книги просматривают её оглавление; когда её изучают, жизнь оказывается не столь бесформенной, как в природе. Такова школа морали, которую преподают нам поучения, наставления и истории, рассказываемые нам теми, кто нас воспитывает. Мы внимательно прислушиваемся ко всему, но когда дело доходит до того, чтобы использовать данные нам советы, мы просто хотим посмотреть, будет ли дело таким, как нам было предсказано; мы отдаемся ему, и часто бываем наказаны раскаянием. Нас немного утешает то, что благодаря таким моментам мы становимся учеными и получаем право поучать других. Те, кого мы наставляем, получают ни больше ни меньше, чем то, что мы уже делали, в результате чего мир существует прежним или становится всё хуже. – Etas parcntum. pejor avis, tulit nos nequiores mox daturos progeniem vitiosiorem, Horace «Поколение наших родителей еще хуже, чем наших предков, мы созданы более злополучными, и предназначены, чтобы в ближайшее время создать поколение, еще более порочное» Гораций.
Благодаря тому, что доктор Гоцци разрешил мне выходить самостоятельно, я познал многие истины, которые до этого времени не только мне не были известны, но я даже не предполагал их существование. При моем появлении наиболее опытные завладели мной и прощупали меня. Найдя меня новичком во всем, они вознамерились просветить меня, столкнув со всех опор. Они заставили меня играть, и после того, как я проиграл те немногие деньги, что у меня были, они заставили меня проигрывать на слово, и они научили меня творить плохие дела, чтобы расплатиться. Я начал учиться этим вещам и нажил неприятности. Я научился не доверять всем тем, кто лжет в лицо, и тем более не полагаться на любые предложения тех, кто льстит. Я научился жить с теми, кто ищет ссоры, узнал, когда нужно покинуть компанию, либо окажешься в любой момент на краю пропасти. Что касается продажных женщин, я не попал в их сети, потому что не видел среди них ни одной такой красивой, как Беттина, но не мог защититься от желания такого рода славы, происходящего от смелости, в сущности являющейся пренебрежением к жизни. Студенты Падуи пользовались в те времена большими привилегиями. Это были злоупотребления, которые для старших сословий считаются законными: таков примитивный характер почти всех привилегий. Они отличаются от прерогатив. Дело в том, что студенты, чтобы утвердить свои привилегии, шли на преступления. Виновные не подвергались строгому наказанию, потому что не в интересах государства было уменьшать суровостью наказания приток учеников, которые съезжались в этот известный университет со всей Европы. Правилом венецианского правительства было платить очень большое жалованье знаменитым учителям, и давать жить тем, кто приезжал, чтобы слушать их уроки в условиях наибольшей свободы. Студенты зависели только от своего начальника, называемого Синдик. Это был дворянин-иностранец, который должен был представлять государство и отвечать перед правительством за поведение учеников. Он должен был привлекать их к ответственности за нарушение законов, и студенты подчинялись его приговорам, потому что, когда они были, по-видимому, правы, он их защищал. Они не желали, например, терпеть, чтобы местные служащие заглядывали в их почту, и обычные сбиры не смели арестовывать студента; они носили любое оружие, которое им хотелось, запрещенное для других, они обманывали безнаказанно дочерей в семьях, которых их родственники не держали взаперти; они часто нарушали общественное спокойствие ночными безобразиями; это была необузданная молодежь, которая хотела только тешить свои капризы, веселиться и смеяться. В те дни случилось однажды, что сбир вошел в кафе, где находились два студента. Один из них велел ему выйти, сбир этим пренебрег, студент выстрелил в него из пистолета и промахнулся, но сбир дал отпор и ранил студента, а после убежал. Студенты собрались на Бо и направились, разделившись на несколько отрядов, разыскивать сбиров, чтобы отомстить за полученное оскорбление, растерзав их; но при столкновении два студента остались мертвыми. Вся толпа студентов объединилась, и они поклялись не складывать оружия, пока не останется больше сбиров в Падуе. Правительство вмешалось, и Синдика обязали заставить студентов сложить оружие, после получения ими удовлетворения, потому что сбиры были неправы. Сбир, который ранил студента, был повешен, и мир был заключен, но в течение восьми дней, пока не установили этот мир, все студенты из Падуи разделились на патрули, и я, не желая быть менее смелым, чем другие, поступил так же, как советовал мне доктор. Вооружившись пистолетами и карабином, я ходил каждый день с моими компаньонами искать врага. Я был весьма огорчен, что компания, в которую я входил, ни разу не встретила ни одного сбира. Доктор по окончании этой войны насмехался надо мной, но Беттина восхищалась моей смелостью.
На этом новом отрезке жизни, не желая казаться менее богатым, чем мои новые друзья, я позволил себе расходы, которые не мог поддерживать. Я продал или обменял все, что имел, и влез в долги, которые не мог оплатить. Это были мои первые огорчения, и самые мучительные, из тех, что мог бы перенести молодой человек. Я написал моей дорогой бабушке, прося ее о помощи, но вместо того, чтобы ее мне направить, она приехала сама в Падую, чтобы поблагодарить доктора Гоцци, и взяла Беттину и меня с собой в Венецию 1 октября 1739 года.
Доктор в момент моего отъезда подарил мне, роняя слезы, самое дорогое. Он надел мне на шею образок, я уже не помню какого, святого, который, возможно, до сих пор был бы со мной, если бы он не был из золота. Чудом, которое он сотворил, явилось то, что он послужил мне для удовлетворения одной из моих насущных потребностей. Всякий раз, когда я возвращался в Падую, чтобы завершить свою учебу по праву, я останавливался у него, но всегда с сожалением видел около Беттины этого мерзавца, который должен был на ней жениться, и который ее, как мне казалось, не был достоин. Я был огорчен, что не смог ее сберечь. Это было предубеждение, но мне не удалось его разрушить.
Глава IV
«Он приехал из Падуи, где обучался в университете», – заявляли обо мне обычно повсюду, и эта формула, будучи произнесенной, привлекала ко мне внимание равных мне по возрасту и положению, похвалы отцов семейства и ласки старых женщин, многие из которых, не будучи старыми, хотели сойти за таковых, чтобы иметь законное право меня целовать. Кюре прихода Сан-Самуэле по имени Тоселло, приписав меня к своей церкви, представил монсеньору Корреру, патриарху Венеции, который тонзуровал меня, а спустя четыре месяца, по особой милости, даровал мне сразу четыре младших ранга клира. Моя бабушка была утешена сверх меры. Прежде всего, мне нашли хороших учителей, чтобы продолжить учебу, и г-н Баффо выбрал аббата Чиаво, чтобы тот учил меня писать чисто на итальянском языке и, особенно, изучить язык поэзии, к которому решительно у меня имелись наклонности. Я нашел себе отличное жилье, вместе с братом Франсуа, который начал изучать театральную архитектуру. Моя сестра и мой младший брат, родившийся после смерти отца, жили с бабушкой в другом доме, принадлежавшем ей, и где она хотела умереть, потому что ее муж умер там же. Квартира, где я жил, была та самая, где я потерял моего отца, потому что моя мать продолжала платить за нее, квартира была большая и очень хорошо меблирована.
Хотя аббат де Гримани должен был быть моим главным покровителем, я видел его крайне редко. Я был отдан под покровительство г-на де Малипьеро, которому отец Тоселло меня представил. Это был сенатор, который, будучи в возрасте семидесяти лет и не желая более вмешиваться в государственные дела, вел счастливую жизнь в своем дворце, хорошо кушал и устраивал каждый вечер встречи в очень избранном кругу, с дамами свободных взглядов и мыслящими мужчинами, бывшими в курсе всего, что происходило нового в городе. Этот старый сеньор был холост и богат, но три или четыре раза в год испытывал весьма болезненные приступы подагры, после которых каждый раз оказывался хромым то на одну, то на другую конечность, так, что становился полным калекой. Только голова, легкие и желудок у него оставались в порядке. Он был красив, гурман, лакомка, у него был тонкий ум, большое знание света, красноречие венецианца и проницательность, оставшаяся у сенатора, ушедшего в отставку после сорока лет управления республикой, и он перестал добиваться внимания прекрасного пола лишь теперь, имея в прошлом двадцать любовниц и отвергнув претензии каждой из них на звание самой любимой. Этот человек, почти калека, не казался таким, когда сидел, когда говорил, и когда был за столом. Он ел только один раз в день и в одиночку, потому что, не имея зубов, тратил на еду двойное время, по сравнению с другим сотрапезником, и не хотел ни торопиться, из любезности по отношению к своим гостям, ни видеть их вынужденными ждать, как он прожует своими деснами то, что хотел проглотить. По одной этой причине он принужден был есть в одиночку, что очень огорчало его превосходного повара.
Первый раз, когда кюре оказал мне честь представить Его Превосходительству, я очень уважительно этому воспротивился, назвав причину, которую каждый нашел бы не стоящей внимания. Я сказал, что он должен приглашать к своему столу только тех, кто, по своей природе, ест за двоих.