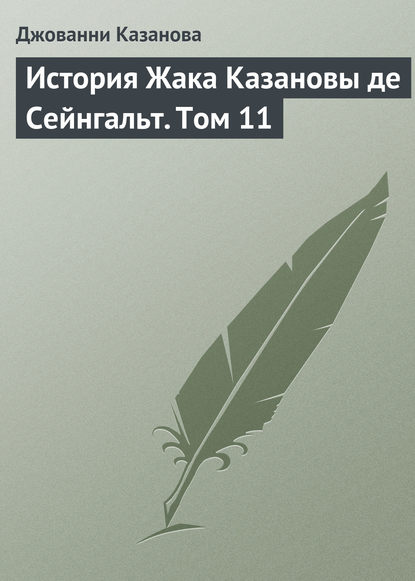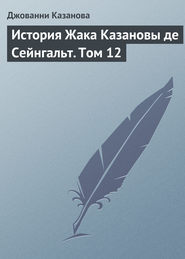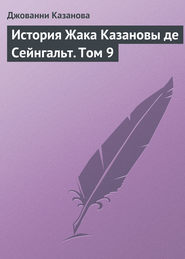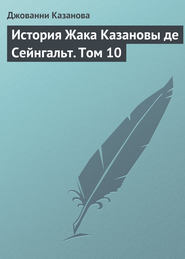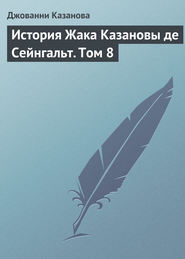По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 11
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По возвращении в Аранхуэс, чувствуя себя очень хорошо, я стал делать визиты всем министрам, и посол представил меня маркизу Гримальди, с которым я имел беседу по поводу Сьерры Морены, дело с колонией туда продвигалось плохо. Швейцарские семьи не могли там процвести. Я подал ему проект, в котором пытался показать, что колония должна формироваться из испанских семей.
– Испания, – сказал он мне, – везде мало населена: пришлось бы обеднить одну область, чтобы обогатить другую.
– Отнюдь нет, потому что десять эмигрантов, умирающих от бедности в Астурии, умрут в Сьерра Морена, произведя пятьдесят детей, а пятьдесят в следующем поколении произведут двести, которые произведут тысячу, и все пойдет хорошо.
Мой проект был изучен, и маркиз Гримальди меня заверил, что если дело пойдет, меня выберут губернатором.
Итальянская опера-буффо была развлечением двора, включая короля, у которого не было никакого вкуса к музыке.[11 - Король Испании имел физиономию барана, а баран – это животное, не имеющее никакого представления о вокальной гармонии. Если послушать голоса сотни баранов в стаде, будет слышна сотня различных полутонов (Замечание Казановы на полях)]
Он любил только охоту. Маэстро итальянской музыки, которому протежировал посол Венеции, хотел сделать музыку к новой драме и надеялся заслужить всеобщие аплодисменты и получить в вознаграждение за свою работу значительные подарки. Времени было очень мало, чтобы заказать текст в Италии; я сразу предложил ему сделать это, меня поймали на слове, и назавтра я дал ему первый акт. Маэстро сделал к нему музыку в четыре дня, и посол Венеции пригласил всех министров на репетицию этого первого акта в зале своего дворца. Его музыку сочли исключительной по вкусу; два других акта были уже написаны, поторопились, и в пятнадцать дней моя опера была сыграна, и маэстро-музыкант имел основания быть довольным. Что до меня, меня сочли поэтом, работающим не за деньги; меня наградили аплодисментами. В действительности, я бы обиделся, если бы захотели мне заплатить. Мне было достаточно видеть, что посол доволен, видя меня в своей свите и видя, что я обласкан министрами как человек, способный доставить удовольствие двору.
Написание этой оперы вынудило меня завязать знакомство с актрисами. Премьерша была римлянка, которую звали Пеллиссия. Талант у нее был средний, она не была ни уродливой, ни красивой, слегка косила. Ее сестра, помоложе, была хорошенькая, но, несмотря на это, не занимала и не интересовала никого; старшая вызывала любовь у всех, кто с ней разговаривал. В ее лице была притягательность, ее глаза с косиной были трогательны, ее смех, тихий и скромный, очаровывал; ее естественный вид доставлял ей всеобщую дружбу.
У нее был муж, художник, но плохой, добрый человек, довольно некрасивый, который выглядел как ее слуга, а не как ее муж. Он очень подчинялся своей жене, и она относилась к нему с уважением. Эта женщина внушила мне не любовь, но настоящую дружбу. Я заходил повидаться с ней каждый день, я давал ей слова римских песен, которые она пела с большим чувством, она встречала меня с открытым сердцем и без всякого притворства, как если бы я был ее другом с детских лет.
Однажды, когда должны были репетировать небольшой акт, к которому я написал слова, я разговаривал с ней на сцене о больших именах лиц, которые были там представлены и которые явились туда только для того, чтобы прослушать новую музыку, которую там давали. Антрепренер оперы, которого звали Марескальчи, был приглашен со своей труппой губернатором Валенсии провести в этом городе сентябрь, чтобы играть комические оперы в маленьком театре, который губернатор этого королевства велел срочно построить. Город Валенсия никогда не видел итальянской оперы-буффо, и антрепренер Марескальчи надеялся на большую удачу. Пеллиссия хотела получить от какого-нибудь большого сеньора двора рекомендательное письмо для этой страны и, не зная никого, спросила у меня, не может ли она просить посла Венеции походатайствовать за нее и попросить у кого-то такое письмо. Я посоветовал ей самой попросить его у герцога д’Аркос, который находился в двадцати шагах от нас и следил за ней глазами.
– Это большой сеньор, дорогой друг, который умирает от желания сделать для вас что-нибудь; подойдите к нему сейчас же попросить у него эту милость, я уверен, что он вам не откажет, это для него как попросить понюшку табаку.
– У меня не хватает на это смелости. Представьте меня.
– Что до этого, то нет, я все испорчу. Он не должен даже догадываться, это я вам посоветовал. Сделайте, как я вам сказал; улучите момент, он вон там, за кулисой, один, и он смотрит только на вас. Когда я отойду от вас, минуту спустя, подойдите к нему и попросите у него эту милость, вы ее получите.
Я иду к оркестру, секунду спустя, вижу герцога, который подходит к актрисе и говорит с ней, пристойно и любезно, и во время этой беседы я замечаю, что Пеллиссия краснеет, говоря ему что-то; я вижу, что герцог соглашается и что он отнимает свою руку, которую Пеллиссия хочет поцеловать. Дело сделано. После оперы она говорит мне, что он пообещал дать ей письмо, что она просила, в день первого представления оперы. Он сдержал слово. Он дал ей запечатанное письмо, адресованное городскому торговцу, которого зовут дон Диего Валенсия. Она должна была туда ехать только в сентябре. Сейчас у нас была середина мая, так что еще было время. Мы еще поговорим об этом странном письме в своем месте.
Я развлекался в Аранхуэсе, часто встречаясь с доном Доминго Варнье, личным лакеем короля, с другим личным лакеем принца д’Астуриас, который правит сейчас, горничной принцессы, которую та обожала, и которая имела власть нарушать множество тягостных правил этикета и менять серьезный и суровый тон на нежный и легкий. Я был очарован, видя Его Королевское Величество обедающим каждый день в одиннадцать часов, кушающим все время одно и то же, отправляющимся на охоту в одно и то же время и возвращающимся со своим братом в изнеможении. Этот король был некрасив, но он был красавец в сравнении со своим братом, чья физиономия внушала буквально страх. Это брат короля никогда не путешествовал без образа Святой Девы, который ему написал Менгс. Это была картина двух футов в высоту и трех с половиной в ширину. Св. Дева была изображена сидящей на траве, с ногами, скрещенными по-мавритански; были видны ее пресвятые ступни до середины икр. Картина, которая воспламеняла душу через чувства. Инфант был в нее влюблен, и он принимал за чувство набожности то, что являлось ничем иным как самым преступным из всех сладострастных инстинктов, поскольку нельзя было себе представить, чтобы, наблюдая этот образ, он не испытывал желания оказаться в объятиях, живых и теплых, богини, которую он видел нарисованной на этой картине. Но инфант не сомневался. Он был очарован тем, что влюблен в мать своего Бога. Эта любовь была для него гарантом его вечного спасения. Таковы эти испанцы. Вещи, которые их интересуют, должны быть поражающими, и они интерпретируют все только с точки зрения главной страсти, которая ими владеет.
Я видел в Мадриде, перед тем, как направился в Аранхуэс, образ Святой девы с младенцем Иисусом у груди. Ее открытая грудь, превосходно написанная, зажигала воображение. Этот образ был в главном алтаре капеллы, расположенной на улице Св. Иеронима. Капелла была целый день заполнена молящимися мужчинами, которые являлись поклоняться Богоматери, чей образ был, быть может, интересен только за счет ее прекрасной груди; подаяния, которые они делали этой святыне, были столь велики, что, в течение полутора веков, пока эта картина была там, было выставлено большое количество лампад и подсвечников из серебра и золота, и выплачивалась огромная рента на содержание этой мебели и снабжение ее воском и маслом. У дверей этой капеллы всегда стояло большое количество экипажей и стоял солдат с ружьем с примкнутым штыком для того, чтобы поддерживать порядок и воспрепятствовать спорам кучеров, прибывавших и отъезжавших ежеминутно, так как не было сеньора, проезжающего в коляске мимо этого святого места и не приказавшего своему кучеру остановиться, чтобы он мог сойти и подойти, хотя бы на момент, поклониться богине, и созерцать beata ubera quC lactaverunt Cterni patris filium[12 - «благословенные груди, которые поят молоком Сына Всеобщего Отца» – из Нового Завета, Лук., XI, 27]. Зная мужчину, такое преклонение меня не удивляет; но вот что меня поразило по моем возвращении в Мадрид в конце мая того же 1768 года.
Собираясь нанести визит аббату Пико, я приказал кучеру объехать «Ла Каррера» из-за колясок, которые могут скопиться у капеллы и загородить дорогу. Кучер ответил, что с некоторых пор это случается очень редко, и поехал своей дорогой, и действительно, я увидел только две или три коляски. Выйдя у аббата, я спросил кучера, почему происходит этот спад поклонения, и он ответил, что люди день ото дня становятся все безумней. Я пренебрег этим объяснением, и, выпив превосходного шоколаду у этого просвещенного аббата, человека старого и большого ума, спросил у него причину, почему эта капелла теряет свою популярность. Он громко рассмеялся и попросил у меня прощения, если он не смеет мне ее назвать, но попросил меня самого пойти и взять там отпущение грехов, и сказал, что мое любопытство будет удовлетворено. Я пошел в тот же день, и сразу все увидел. Грудь Святой Девы была более не видна. Платок, нарисованный самым мерзким из художников обезобразил эту превосходную картину. Не видно стало ничего, ни соска, ни сосущего рта божественного младенца, даже очертания груди, так что Дева, которая ранее имела основание внимательно рассматривать божественные губы своего сына, сосущего амброзию, казалось, внимательно разглядывает грубый платок, с помощью которого бездарная кисть, против всех законов костюма, сделала ее столь же некрасивой, как и вся картина. Это несчастье случилось в конце карнавала. Старый капеллан умер, новый счел скандальной самую прекрасную и самую святую из всех грудей, что создал господь. Этот капеллан, может быть, был прав в качестве дурака, но ошибался в качестве испанского христианина, и уменьшение пожертвований должно было теперь заставить его раскаяться. Мои размышления по поводу этого происшествия и мое неутолимое любопытство в попытках понять людей, стараясь их разговорить, заставило меня пойти с визитом к этому капеллану, который, согласно моим представлениям, должен был быть старым и глупым.
Я пришел туда утром и нашел священника в возрасте тридцати лет, очень живого и приветливого, который, не зная меня, предложил мне сразу чашку шоколада, от которого я отказался как иностранец, который должен делать это в Испании, потому что не только он обычно бывает плох, но и потому, что его предлагают повсюду в любое время дня с такой настойчивостью, что если соглашаться, полагаю, можно умереть.
Не прибегая к длинному вступлению, я перешел к делу и сказал ему, что страстно люблю живопись, и что был огорчен тем, что он приказал испортить превосходную картину.
– Может быть, это и так, но ее красота являла собой как раз то, что недостойно показывать женщине, чье лицезрение должно вызывать поклонение и созерцание безупречной души, а никак не чувственную страсть. Пусть погибнут все прекрасные картины, если они все вместе могут стать причиной одного смертного греха.
– Кто позволит вам это уничтожение? Государственные Инквизиторы, сам г-н Барбариго, хотя и весьма набожный и большой теолог, вас отправил бы в Пьомби. Любовь к райскому блаженству никогда не должна наносить вред исксствам, и я уверен, что евангелист Св. Лука как художник выступает против вас перед Святой Девой, которой, как вы должны знать, он создал портрет только тремя красками.
– Месье, мне не нужно просить ничьего позволения. Это я должен служить мессу каждый день у этого алтаря, и мне не стыдно вам сказать, что я не могу сосредоточиться; вы извините мою слабость. Эта прекрасная грудь будит мою фантазию.
– Кто вас заставляет на нее смотреть?
– Я не смотрю на нее, а враг божий представляет ее, тем не менее, мне в моем воображении.
– Почему же вы не искалечились, как сделал мудрый Ориген, qui se castravil propter regnum cCloram.[13 - который оскопил себя во славу небес – по Евангелию от Матв., XIX, 12]. Ваши генитальные части слишком слабы, они, очевидно, не стоят, поверьте мне, картины, которую вы уничтожили.
– Сеньор, вы меня оскорбляете.
– Отнюдь нет, так как я не имел такого намерения. Либо просите шевалье Менгса сделать вам новый образ Святой Девы для того, чтобы возобновить поклонение ваших прихожан, для которых вы стали слишком ненавистны, либо сложите с себя бенефиций, исполнять который вы не рождены.
– Я не сделаю ни того, ни другого.
Этот молодой священник проводил меня к дверям столь грубо, что я ушел, уверенный, что он затеет против меня какое-то отмщение в испанском духе, через каналы ужасной Инквизиции. Я подумал, что он легко сможет узнать мое имя и создать мне неприятности. Я решил предупредить удар. Я познакомился в эти дни с одним французом, которого звали де Сежур, который только что вышел из тюрем Инквизиции, где его держали три года. Его преступление состояло в том, что он держал в зале своего дома на столе каменный умывальник, в котором он мыл каждое утро руки и лицо. С краю этой вазы имелась статуя голого ребенка размером в полтора фута. Эта статуя наполнялась водой, которую можно было пускать через маленький мужской орган ребенка, как через водяной кран, когда хотели помыться. Этот ребенок вполне мог показаться кому-то, кто все обожествляет, образом нашего Спасителя, потому что скульптор обвил его голову короной, которую называют нимбом, и которую скульпторы и художники прикладывают на головы святых. Бедного Сегюра обвинили в Инквизиции в безбожии, нашли ужасным, что он осмелился умываться водой, которая могла казаться уриной нашего Спасителя. Эта шутка ему обошлась в три года заключения. Aliеna spectans dodus evasi mala[14 - Видя несчастья, приключившиеся с другими, я становлюсь осторожней. – Латинская поговорка].
Я представился Великому Инквизитору, который был епископом. Я передал ему слово в слово всю беседу, что я вел с капелланом, сведя все, однако, к шутке, и окончил, попросив у него извинения, если случайно капеллан мог счесть себя шокированным. Я заверил его в своем правоверии. Я никогда не думал, что Великий Инквизитор Мадрида окажется любезным человеком, хотя и обладающим в высшей степени некрасивым лицом. Этот прелат только посмеялся с начала и до конца моего рассказа, потому что не хотел слушать меня в форме исповеди. Он сказал мне, что этот капеллан сам виноват и абсолютно неспособен исполнять свои обязанности, потому что, осуждая слабости других, он нанес действительный вред религии; он сказал мне, что, несмотря на это, я плохо сделал, явившись его раздражать. Поскольку я должен был назвать ему свое имя, он закончил тем, что прочел мне, со смеющимся лицом, обвинение против меня, написанное неким человеком, явившимся свидетелем события. Он ласково упрекнул меня в том, что я назвал невеждой францисканца-исповедника герцога де Медина Сидония, поскольку тот не захотел согласиться с тем, что священник должен прочесть мессу второй раз в праздничный день, даже после обеда, если его повелитель, который ее не слушал, прикажет ему ее читать.
– Вы были правы, – сказал мне епископ, – но вы не должны за это называть невеждой исповедника герцога в его присутствии. На будущее, избегайте всякого диспута по поводу религии, как в том, что касается догматов, так и относительно дисциплины. Могу вам сказать, чтобы вы, уезжая из Испании, увезли с собой правильное представление об Инквизиции, что тому кюре, который вывесил вас в списке отлученных, был сделан выговор, потому что он должен был известить вас сначала, и, в частности, узнать, не были ли вы больны, и мы знаем, что с вами так и было.
На этих словах я поцеловал ему руку, склонив голову, и ушел, в достаточной мере довольный.
Вернемся в Аранхуэс, потому что то, что я описал, случилось со мной по моем возвращении в Мадрид. Когда я узнал, что посол не может поселить меня в Мадриде, где я собирался пожить, так как надеялся стать губернатором Сьерра Морена, я написал моему доброму другу сапожнику дону Диего, что нуждаюсь в хорошей комнате, прилично меблированной, с удобной кроватью и с кабинетом, а также в слуге, порядочном человеке, готовом сидеть у меня позади экипажа, и в экипаже, взяв это все на помесячной оплате, что, под его гарантию, я готов оплатить авансом. Я отметил ему, сколько я готов платить за мои апартаменты, и попросил сразу написать мне, как только он это найдет, потому что я уеду из Аранхуэса, только когда узнаю, куда мне ехать, прибыв в Мадрид. Сапожник сразу написал мне, что уверен, что выполнит мое поручение и что он известит меня, как только найдет помещение.
Колонизация Сьерры Морены меня очень занимала, и я писал о полиции, которая являлась принципиальным вопросом в деле процветания колонии. Мои писания, которые представляли собой только общие рассуждения, были высоко ценимы министром Гримальди и льстили послу Мочениго, потому что он считал, что если мне удастся сделаться губернатором колонии, это обстоятельство может только увеличить славу его посольства. Мои труды, однако, не мешали мне развлекаться, и особенно посещать людей двора, которые могли просвещать меня об индивидуальных особенностях характеров членов королевской семьи. Дон Варнье, человек прямой, искренний и умный, описывал мне детально все, что меня интересовало.
Я спросил у него однажды, правда ли, что привязанность, которую король питает к Грегори Скилласу, происходит оттого, что он любит, или любил, его жену, и он заверил меня, что это клеветническое измышление тех, кто выдает за правду то, что является лишь правдоподобным.
– Если название целомудренного, – сказал он мне, – может быть дано королю устами правды, а не лести, оно достойно Карла III более, чем любого другого короля. Он за всю свою жизнь не имел дела ни с одной другой женщиной, кроме покойной королевы, и это не только вследствие долга мужа перед женой, но и потому что это долг христианина. Он не желает совершать грех, потому что не желает грязнить свою душу, и потому что не хочет испытать стыд, признаваясь в своей слабости исповеднику. Очень здоровый, сильный, крепкий, не имевший за всю свою жизнь ни одной болезни, кроме простуды, он имеет темперамент, который весьма располагает к любовному акту, потому что, пока она была жива, он не пропускал ни дня, чтобы не исполнить свой супружеский долг королеве. В дни, когда ему это было запрещено, по причине ее нечистоты, он утомлял себя более, чем обычно, на охоте, чтобы утихомирить свои порывы вожделения. Вообразите себе его отчаяние, когда он овдовел и решил скорее умереть, чем унизиться до того, чтобы завести себе любовницу. Охота стала для него выходом и способом занять себя настолько, чтобы не осталось времени думать о женщине. Это было трудно, потому что он не любит ни писать, ни читать, ни музыку, ни веселую беседу. Вот что он читает и что он делает и будет делать до самой смерти. В семь часов он одевается, идет в свой гардероб, где его причесывают, и он молится до восьми. Он идет к мессе, пьет шоколад, затем берет понюшку испанского табаку, которую сует в свой большой нос; это единственный раз за день, когда он нюхает табак. В девять часов он садится работать с министрами до одиннадцати, обедает один за столом до без четверти двенадцать, и до двенадцати наносит визит принцессе д’Астуриас. В двенадцать он садится в свою коляску и отправляется на охоту. В семь он съедает кусок в том месте, где находится, в восемь он возвращается в замок, настолько усталый, что засыпает часто до того, как успевает лечь в постель. Он подумал снова жениться, и спросил мадам Аделаиду Французскую, которая, увидев его портрет, ему наотрез отказала. Это его поразило, и он больше не захотел думать о браке. Горе тому, кто предложит ему любовницу.
Говоря о его человеческом характере, суровом, ласковом и твердом, дон Доминго сказал мне, что министры правы, считая его неприступным, потому что, если кто-нибудь решится неожиданно заговорить с ним и попросить его о некоторой милости, он считает для себя делом чести никогда ни в чем не отказывать, потому что именно в этом он ощущает себя королем.
– Поверьте мне, что самые твердые, самые трудные в общении суверены это те, которые дают публичную аудиенцию любому. Их чаще всего обманывают; с ними нельзя ничего добиться; они думают только о том, чтобы отказать в том, о чем говорит их проситель. Суверен неприступный, наоборот, когда кто-то решится с ним говорить, внимательно его слушает и думает о том, чтобы облегчить дело, о котором его просят. Место, где чаще всего можно застать Карла III одного, это охота. Тогда у него хорошее настроение, и он с удовольствием посочувствует тому, кто с ним говорит. Его закрытость – это его главный недостаток, потому что у него это – упрямство; когда он желает, чтобы что-то делалось, и он считает это возможным, оно должно быть сделано: неудачи его не обескураживают. Уважение, которое он питает к инфанту, своему брату, очень велико; он не может ему ни в чем отказать; но он всегда хочет быть хозяином. Полагают, что он дал ему разрешение на брак по соглашению, так как опасался, что тот обречет себя на вечные муки, и он не любил бастардов. У инфанта к тому времени их было трое.
Я наблюдал в Аранхуэсе огромное количество персон, которые рыскали вокруг министров в старании сыскать себе должность.
– Все эти люди, – говорил мне дон Доминго, – вернутся к себе, по окончании поездки короля, ничего не добившись.
– Видимо они просят вещей невозможных?
– Совсем нет. Они ничего не просят. «Чего вы хотите?» – спросит у них министр. «То, что Ваша Светлость сочтет возможным мне предложить.» «Но к чему вы пригодны?» «Не могу знать. В.Св. может проверить мои таланты, мои способности и дать мне должность, которую сочтет возможным мне доверить». «Уходите, у меня нет времени».
Но так и повсюду. Карл III умер безумным; теперь королева Португалии сошла с ума. Король Англии был таким и, говорят, вылечился.
Я раскланялся с послом Венеции за три дня до его отъезда и сердечно расцеловался с Мануччи, который никогда не упускал случая оказать мне знаки самой сердечной дружбы. Я должен был рассказать ему о своей неудаче.
Дон Диего, сапожник, написал мне, что за деньги, что я хочу потратить, я получу также служанку из Бискайи, которая, когда я захочу, сможет приготовить мне достаточно хорошую еду. Адрес, который он мне отправил, принадлежал дому на улице Алькала. Я выехал из Аранхуэса утром и прибыл довольно рано, после обеда, в мое жилище. Аранхуэс находится от Мадрида на том же расстоянии, что Фонтенбло от Парижа.
Я приезжаю, вылезаю из коляски, захожу в первый этаж, нахожу бискайку, которая говорит по-французски, осматриваю свои апартаменты и нахожу кроме кабинета еще одну комнату с кроватью, где можно поместить друга, если захочу; я аплодирую сапожнику. Я велю внести мой багаж, приходит мой лакей, и он кажется мне приличным; я аплодирую дону Диего. Интересуясь узнать, каково уменье этой кухарки из Бильбао, я велю ей приготовить ужин для меня одного, хочу дать ей денег, и она говорит, что они у нее есть и что она даст мне отчет завтра. Я выхожу со своим слугой, чтобы забрать мои вещи у Менгса. Его лакей передает все моему, который уходит за двумя носильщиками, и сам уходит. Я не спрашиваю, дома ли Менгс, хочу дать его лакею дублон, но тот отказывается.
Я иду на Калле дель Десиньяно, чтобы увидеть донну Игнасию и ее отца, которого должен поблагодарить и заплатить деньги, и никого не нахожу. Соседка говорит мне, что он переехал. Я удивлен, что он мне не написал об этом; я иду на Калле д’Алькала, к себе; это в сотне шагов оттуда. Я устраиваю все, как хочу, в своей комнате, спрашиваю у Филиппа – так зовут моего слугу – куда переехал дон Диего, и он говорит, что это далеко, и что он отведет меня туда завтра. Я спрашиваю, где живет мой хозяин, и он говорит, что надо мной, но я могу быть спокоен, что мне не будет никакого шума. Он ушел и должен вернуться только в десять часов.
Я установил на маленьком столике все, что нужно для письма, сказав Филиппу, чтобы уходил и вернулся в девять часов, чтобы прислуживать мне за ужином. Я сказал ему пойти за вином, туда, где, я знал, оно хорошее, и сел работать. В девять часов он пришел сказать, что мне сервировали стол в другой комнате, я пошел туда, с жадным аппетитом, так как ничего не ел, и был удивлен, увидев маленький стол, накрытый с аккуратностью, которую я еще не видел в буржуазных домах в Испании. Но ужин меня убедил, что дон Диего – герой. Эта кухарка из Бильбао готовила как француженка. Пять блюд, «лас криадильяс», которые я люблю до безумия, все превосходное, мне показалось невозможным иметь, в довершение всего, такую хорошую кухарку, хотя за апартаменты я платил достаточно дорого.
К концу ужина Филипп сказал мне, что вернулся хозяин, и что если я позволю, он хотел бы зайти со мной повидаться.
– Пусть зайдет.
Я вижу сапожника с дочерью. Он снял этот дом специально, чтобы меня поселить.
– Испания, – сказал он мне, – везде мало населена: пришлось бы обеднить одну область, чтобы обогатить другую.
– Отнюдь нет, потому что десять эмигрантов, умирающих от бедности в Астурии, умрут в Сьерра Морена, произведя пятьдесят детей, а пятьдесят в следующем поколении произведут двести, которые произведут тысячу, и все пойдет хорошо.
Мой проект был изучен, и маркиз Гримальди меня заверил, что если дело пойдет, меня выберут губернатором.
Итальянская опера-буффо была развлечением двора, включая короля, у которого не было никакого вкуса к музыке.[11 - Король Испании имел физиономию барана, а баран – это животное, не имеющее никакого представления о вокальной гармонии. Если послушать голоса сотни баранов в стаде, будет слышна сотня различных полутонов (Замечание Казановы на полях)]
Он любил только охоту. Маэстро итальянской музыки, которому протежировал посол Венеции, хотел сделать музыку к новой драме и надеялся заслужить всеобщие аплодисменты и получить в вознаграждение за свою работу значительные подарки. Времени было очень мало, чтобы заказать текст в Италии; я сразу предложил ему сделать это, меня поймали на слове, и назавтра я дал ему первый акт. Маэстро сделал к нему музыку в четыре дня, и посол Венеции пригласил всех министров на репетицию этого первого акта в зале своего дворца. Его музыку сочли исключительной по вкусу; два других акта были уже написаны, поторопились, и в пятнадцать дней моя опера была сыграна, и маэстро-музыкант имел основания быть довольным. Что до меня, меня сочли поэтом, работающим не за деньги; меня наградили аплодисментами. В действительности, я бы обиделся, если бы захотели мне заплатить. Мне было достаточно видеть, что посол доволен, видя меня в своей свите и видя, что я обласкан министрами как человек, способный доставить удовольствие двору.
Написание этой оперы вынудило меня завязать знакомство с актрисами. Премьерша была римлянка, которую звали Пеллиссия. Талант у нее был средний, она не была ни уродливой, ни красивой, слегка косила. Ее сестра, помоложе, была хорошенькая, но, несмотря на это, не занимала и не интересовала никого; старшая вызывала любовь у всех, кто с ней разговаривал. В ее лице была притягательность, ее глаза с косиной были трогательны, ее смех, тихий и скромный, очаровывал; ее естественный вид доставлял ей всеобщую дружбу.
У нее был муж, художник, но плохой, добрый человек, довольно некрасивый, который выглядел как ее слуга, а не как ее муж. Он очень подчинялся своей жене, и она относилась к нему с уважением. Эта женщина внушила мне не любовь, но настоящую дружбу. Я заходил повидаться с ней каждый день, я давал ей слова римских песен, которые она пела с большим чувством, она встречала меня с открытым сердцем и без всякого притворства, как если бы я был ее другом с детских лет.
Однажды, когда должны были репетировать небольшой акт, к которому я написал слова, я разговаривал с ней на сцене о больших именах лиц, которые были там представлены и которые явились туда только для того, чтобы прослушать новую музыку, которую там давали. Антрепренер оперы, которого звали Марескальчи, был приглашен со своей труппой губернатором Валенсии провести в этом городе сентябрь, чтобы играть комические оперы в маленьком театре, который губернатор этого королевства велел срочно построить. Город Валенсия никогда не видел итальянской оперы-буффо, и антрепренер Марескальчи надеялся на большую удачу. Пеллиссия хотела получить от какого-нибудь большого сеньора двора рекомендательное письмо для этой страны и, не зная никого, спросила у меня, не может ли она просить посла Венеции походатайствовать за нее и попросить у кого-то такое письмо. Я посоветовал ей самой попросить его у герцога д’Аркос, который находился в двадцати шагах от нас и следил за ней глазами.
– Это большой сеньор, дорогой друг, который умирает от желания сделать для вас что-нибудь; подойдите к нему сейчас же попросить у него эту милость, я уверен, что он вам не откажет, это для него как попросить понюшку табаку.
– У меня не хватает на это смелости. Представьте меня.
– Что до этого, то нет, я все испорчу. Он не должен даже догадываться, это я вам посоветовал. Сделайте, как я вам сказал; улучите момент, он вон там, за кулисой, один, и он смотрит только на вас. Когда я отойду от вас, минуту спустя, подойдите к нему и попросите у него эту милость, вы ее получите.
Я иду к оркестру, секунду спустя, вижу герцога, который подходит к актрисе и говорит с ней, пристойно и любезно, и во время этой беседы я замечаю, что Пеллиссия краснеет, говоря ему что-то; я вижу, что герцог соглашается и что он отнимает свою руку, которую Пеллиссия хочет поцеловать. Дело сделано. После оперы она говорит мне, что он пообещал дать ей письмо, что она просила, в день первого представления оперы. Он сдержал слово. Он дал ей запечатанное письмо, адресованное городскому торговцу, которого зовут дон Диего Валенсия. Она должна была туда ехать только в сентябре. Сейчас у нас была середина мая, так что еще было время. Мы еще поговорим об этом странном письме в своем месте.
Я развлекался в Аранхуэсе, часто встречаясь с доном Доминго Варнье, личным лакеем короля, с другим личным лакеем принца д’Астуриас, который правит сейчас, горничной принцессы, которую та обожала, и которая имела власть нарушать множество тягостных правил этикета и менять серьезный и суровый тон на нежный и легкий. Я был очарован, видя Его Королевское Величество обедающим каждый день в одиннадцать часов, кушающим все время одно и то же, отправляющимся на охоту в одно и то же время и возвращающимся со своим братом в изнеможении. Этот король был некрасив, но он был красавец в сравнении со своим братом, чья физиономия внушала буквально страх. Это брат короля никогда не путешествовал без образа Святой Девы, который ему написал Менгс. Это была картина двух футов в высоту и трех с половиной в ширину. Св. Дева была изображена сидящей на траве, с ногами, скрещенными по-мавритански; были видны ее пресвятые ступни до середины икр. Картина, которая воспламеняла душу через чувства. Инфант был в нее влюблен, и он принимал за чувство набожности то, что являлось ничем иным как самым преступным из всех сладострастных инстинктов, поскольку нельзя было себе представить, чтобы, наблюдая этот образ, он не испытывал желания оказаться в объятиях, живых и теплых, богини, которую он видел нарисованной на этой картине. Но инфант не сомневался. Он был очарован тем, что влюблен в мать своего Бога. Эта любовь была для него гарантом его вечного спасения. Таковы эти испанцы. Вещи, которые их интересуют, должны быть поражающими, и они интерпретируют все только с точки зрения главной страсти, которая ими владеет.
Я видел в Мадриде, перед тем, как направился в Аранхуэс, образ Святой девы с младенцем Иисусом у груди. Ее открытая грудь, превосходно написанная, зажигала воображение. Этот образ был в главном алтаре капеллы, расположенной на улице Св. Иеронима. Капелла была целый день заполнена молящимися мужчинами, которые являлись поклоняться Богоматери, чей образ был, быть может, интересен только за счет ее прекрасной груди; подаяния, которые они делали этой святыне, были столь велики, что, в течение полутора веков, пока эта картина была там, было выставлено большое количество лампад и подсвечников из серебра и золота, и выплачивалась огромная рента на содержание этой мебели и снабжение ее воском и маслом. У дверей этой капеллы всегда стояло большое количество экипажей и стоял солдат с ружьем с примкнутым штыком для того, чтобы поддерживать порядок и воспрепятствовать спорам кучеров, прибывавших и отъезжавших ежеминутно, так как не было сеньора, проезжающего в коляске мимо этого святого места и не приказавшего своему кучеру остановиться, чтобы он мог сойти и подойти, хотя бы на момент, поклониться богине, и созерцать beata ubera quC lactaverunt Cterni patris filium[12 - «благословенные груди, которые поят молоком Сына Всеобщего Отца» – из Нового Завета, Лук., XI, 27]. Зная мужчину, такое преклонение меня не удивляет; но вот что меня поразило по моем возвращении в Мадрид в конце мая того же 1768 года.
Собираясь нанести визит аббату Пико, я приказал кучеру объехать «Ла Каррера» из-за колясок, которые могут скопиться у капеллы и загородить дорогу. Кучер ответил, что с некоторых пор это случается очень редко, и поехал своей дорогой, и действительно, я увидел только две или три коляски. Выйдя у аббата, я спросил кучера, почему происходит этот спад поклонения, и он ответил, что люди день ото дня становятся все безумней. Я пренебрег этим объяснением, и, выпив превосходного шоколаду у этого просвещенного аббата, человека старого и большого ума, спросил у него причину, почему эта капелла теряет свою популярность. Он громко рассмеялся и попросил у меня прощения, если он не смеет мне ее назвать, но попросил меня самого пойти и взять там отпущение грехов, и сказал, что мое любопытство будет удовлетворено. Я пошел в тот же день, и сразу все увидел. Грудь Святой Девы была более не видна. Платок, нарисованный самым мерзким из художников обезобразил эту превосходную картину. Не видно стало ничего, ни соска, ни сосущего рта божественного младенца, даже очертания груди, так что Дева, которая ранее имела основание внимательно рассматривать божественные губы своего сына, сосущего амброзию, казалось, внимательно разглядывает грубый платок, с помощью которого бездарная кисть, против всех законов костюма, сделала ее столь же некрасивой, как и вся картина. Это несчастье случилось в конце карнавала. Старый капеллан умер, новый счел скандальной самую прекрасную и самую святую из всех грудей, что создал господь. Этот капеллан, может быть, был прав в качестве дурака, но ошибался в качестве испанского христианина, и уменьшение пожертвований должно было теперь заставить его раскаяться. Мои размышления по поводу этого происшествия и мое неутолимое любопытство в попытках понять людей, стараясь их разговорить, заставило меня пойти с визитом к этому капеллану, который, согласно моим представлениям, должен был быть старым и глупым.
Я пришел туда утром и нашел священника в возрасте тридцати лет, очень живого и приветливого, который, не зная меня, предложил мне сразу чашку шоколада, от которого я отказался как иностранец, который должен делать это в Испании, потому что не только он обычно бывает плох, но и потому, что его предлагают повсюду в любое время дня с такой настойчивостью, что если соглашаться, полагаю, можно умереть.
Не прибегая к длинному вступлению, я перешел к делу и сказал ему, что страстно люблю живопись, и что был огорчен тем, что он приказал испортить превосходную картину.
– Может быть, это и так, но ее красота являла собой как раз то, что недостойно показывать женщине, чье лицезрение должно вызывать поклонение и созерцание безупречной души, а никак не чувственную страсть. Пусть погибнут все прекрасные картины, если они все вместе могут стать причиной одного смертного греха.
– Кто позволит вам это уничтожение? Государственные Инквизиторы, сам г-н Барбариго, хотя и весьма набожный и большой теолог, вас отправил бы в Пьомби. Любовь к райскому блаженству никогда не должна наносить вред исксствам, и я уверен, что евангелист Св. Лука как художник выступает против вас перед Святой Девой, которой, как вы должны знать, он создал портрет только тремя красками.
– Месье, мне не нужно просить ничьего позволения. Это я должен служить мессу каждый день у этого алтаря, и мне не стыдно вам сказать, что я не могу сосредоточиться; вы извините мою слабость. Эта прекрасная грудь будит мою фантазию.
– Кто вас заставляет на нее смотреть?
– Я не смотрю на нее, а враг божий представляет ее, тем не менее, мне в моем воображении.
– Почему же вы не искалечились, как сделал мудрый Ориген, qui se castravil propter regnum cCloram.[13 - который оскопил себя во славу небес – по Евангелию от Матв., XIX, 12]. Ваши генитальные части слишком слабы, они, очевидно, не стоят, поверьте мне, картины, которую вы уничтожили.
– Сеньор, вы меня оскорбляете.
– Отнюдь нет, так как я не имел такого намерения. Либо просите шевалье Менгса сделать вам новый образ Святой Девы для того, чтобы возобновить поклонение ваших прихожан, для которых вы стали слишком ненавистны, либо сложите с себя бенефиций, исполнять который вы не рождены.
– Я не сделаю ни того, ни другого.
Этот молодой священник проводил меня к дверям столь грубо, что я ушел, уверенный, что он затеет против меня какое-то отмщение в испанском духе, через каналы ужасной Инквизиции. Я подумал, что он легко сможет узнать мое имя и создать мне неприятности. Я решил предупредить удар. Я познакомился в эти дни с одним французом, которого звали де Сежур, который только что вышел из тюрем Инквизиции, где его держали три года. Его преступление состояло в том, что он держал в зале своего дома на столе каменный умывальник, в котором он мыл каждое утро руки и лицо. С краю этой вазы имелась статуя голого ребенка размером в полтора фута. Эта статуя наполнялась водой, которую можно было пускать через маленький мужской орган ребенка, как через водяной кран, когда хотели помыться. Этот ребенок вполне мог показаться кому-то, кто все обожествляет, образом нашего Спасителя, потому что скульптор обвил его голову короной, которую называют нимбом, и которую скульпторы и художники прикладывают на головы святых. Бедного Сегюра обвинили в Инквизиции в безбожии, нашли ужасным, что он осмелился умываться водой, которая могла казаться уриной нашего Спасителя. Эта шутка ему обошлась в три года заключения. Aliеna spectans dodus evasi mala[14 - Видя несчастья, приключившиеся с другими, я становлюсь осторожней. – Латинская поговорка].
Я представился Великому Инквизитору, который был епископом. Я передал ему слово в слово всю беседу, что я вел с капелланом, сведя все, однако, к шутке, и окончил, попросив у него извинения, если случайно капеллан мог счесть себя шокированным. Я заверил его в своем правоверии. Я никогда не думал, что Великий Инквизитор Мадрида окажется любезным человеком, хотя и обладающим в высшей степени некрасивым лицом. Этот прелат только посмеялся с начала и до конца моего рассказа, потому что не хотел слушать меня в форме исповеди. Он сказал мне, что этот капеллан сам виноват и абсолютно неспособен исполнять свои обязанности, потому что, осуждая слабости других, он нанес действительный вред религии; он сказал мне, что, несмотря на это, я плохо сделал, явившись его раздражать. Поскольку я должен был назвать ему свое имя, он закончил тем, что прочел мне, со смеющимся лицом, обвинение против меня, написанное неким человеком, явившимся свидетелем события. Он ласково упрекнул меня в том, что я назвал невеждой францисканца-исповедника герцога де Медина Сидония, поскольку тот не захотел согласиться с тем, что священник должен прочесть мессу второй раз в праздничный день, даже после обеда, если его повелитель, который ее не слушал, прикажет ему ее читать.
– Вы были правы, – сказал мне епископ, – но вы не должны за это называть невеждой исповедника герцога в его присутствии. На будущее, избегайте всякого диспута по поводу религии, как в том, что касается догматов, так и относительно дисциплины. Могу вам сказать, чтобы вы, уезжая из Испании, увезли с собой правильное представление об Инквизиции, что тому кюре, который вывесил вас в списке отлученных, был сделан выговор, потому что он должен был известить вас сначала, и, в частности, узнать, не были ли вы больны, и мы знаем, что с вами так и было.
На этих словах я поцеловал ему руку, склонив голову, и ушел, в достаточной мере довольный.
Вернемся в Аранхуэс, потому что то, что я описал, случилось со мной по моем возвращении в Мадрид. Когда я узнал, что посол не может поселить меня в Мадриде, где я собирался пожить, так как надеялся стать губернатором Сьерра Морена, я написал моему доброму другу сапожнику дону Диего, что нуждаюсь в хорошей комнате, прилично меблированной, с удобной кроватью и с кабинетом, а также в слуге, порядочном человеке, готовом сидеть у меня позади экипажа, и в экипаже, взяв это все на помесячной оплате, что, под его гарантию, я готов оплатить авансом. Я отметил ему, сколько я готов платить за мои апартаменты, и попросил сразу написать мне, как только он это найдет, потому что я уеду из Аранхуэса, только когда узнаю, куда мне ехать, прибыв в Мадрид. Сапожник сразу написал мне, что уверен, что выполнит мое поручение и что он известит меня, как только найдет помещение.
Колонизация Сьерры Морены меня очень занимала, и я писал о полиции, которая являлась принципиальным вопросом в деле процветания колонии. Мои писания, которые представляли собой только общие рассуждения, были высоко ценимы министром Гримальди и льстили послу Мочениго, потому что он считал, что если мне удастся сделаться губернатором колонии, это обстоятельство может только увеличить славу его посольства. Мои труды, однако, не мешали мне развлекаться, и особенно посещать людей двора, которые могли просвещать меня об индивидуальных особенностях характеров членов королевской семьи. Дон Варнье, человек прямой, искренний и умный, описывал мне детально все, что меня интересовало.
Я спросил у него однажды, правда ли, что привязанность, которую король питает к Грегори Скилласу, происходит оттого, что он любит, или любил, его жену, и он заверил меня, что это клеветническое измышление тех, кто выдает за правду то, что является лишь правдоподобным.
– Если название целомудренного, – сказал он мне, – может быть дано королю устами правды, а не лести, оно достойно Карла III более, чем любого другого короля. Он за всю свою жизнь не имел дела ни с одной другой женщиной, кроме покойной королевы, и это не только вследствие долга мужа перед женой, но и потому что это долг христианина. Он не желает совершать грех, потому что не желает грязнить свою душу, и потому что не хочет испытать стыд, признаваясь в своей слабости исповеднику. Очень здоровый, сильный, крепкий, не имевший за всю свою жизнь ни одной болезни, кроме простуды, он имеет темперамент, который весьма располагает к любовному акту, потому что, пока она была жива, он не пропускал ни дня, чтобы не исполнить свой супружеский долг королеве. В дни, когда ему это было запрещено, по причине ее нечистоты, он утомлял себя более, чем обычно, на охоте, чтобы утихомирить свои порывы вожделения. Вообразите себе его отчаяние, когда он овдовел и решил скорее умереть, чем унизиться до того, чтобы завести себе любовницу. Охота стала для него выходом и способом занять себя настолько, чтобы не осталось времени думать о женщине. Это было трудно, потому что он не любит ни писать, ни читать, ни музыку, ни веселую беседу. Вот что он читает и что он делает и будет делать до самой смерти. В семь часов он одевается, идет в свой гардероб, где его причесывают, и он молится до восьми. Он идет к мессе, пьет шоколад, затем берет понюшку испанского табаку, которую сует в свой большой нос; это единственный раз за день, когда он нюхает табак. В девять часов он садится работать с министрами до одиннадцати, обедает один за столом до без четверти двенадцать, и до двенадцати наносит визит принцессе д’Астуриас. В двенадцать он садится в свою коляску и отправляется на охоту. В семь он съедает кусок в том месте, где находится, в восемь он возвращается в замок, настолько усталый, что засыпает часто до того, как успевает лечь в постель. Он подумал снова жениться, и спросил мадам Аделаиду Французскую, которая, увидев его портрет, ему наотрез отказала. Это его поразило, и он больше не захотел думать о браке. Горе тому, кто предложит ему любовницу.
Говоря о его человеческом характере, суровом, ласковом и твердом, дон Доминго сказал мне, что министры правы, считая его неприступным, потому что, если кто-нибудь решится неожиданно заговорить с ним и попросить его о некоторой милости, он считает для себя делом чести никогда ни в чем не отказывать, потому что именно в этом он ощущает себя королем.
– Поверьте мне, что самые твердые, самые трудные в общении суверены это те, которые дают публичную аудиенцию любому. Их чаще всего обманывают; с ними нельзя ничего добиться; они думают только о том, чтобы отказать в том, о чем говорит их проситель. Суверен неприступный, наоборот, когда кто-то решится с ним говорить, внимательно его слушает и думает о том, чтобы облегчить дело, о котором его просят. Место, где чаще всего можно застать Карла III одного, это охота. Тогда у него хорошее настроение, и он с удовольствием посочувствует тому, кто с ним говорит. Его закрытость – это его главный недостаток, потому что у него это – упрямство; когда он желает, чтобы что-то делалось, и он считает это возможным, оно должно быть сделано: неудачи его не обескураживают. Уважение, которое он питает к инфанту, своему брату, очень велико; он не может ему ни в чем отказать; но он всегда хочет быть хозяином. Полагают, что он дал ему разрешение на брак по соглашению, так как опасался, что тот обречет себя на вечные муки, и он не любил бастардов. У инфанта к тому времени их было трое.
Я наблюдал в Аранхуэсе огромное количество персон, которые рыскали вокруг министров в старании сыскать себе должность.
– Все эти люди, – говорил мне дон Доминго, – вернутся к себе, по окончании поездки короля, ничего не добившись.
– Видимо они просят вещей невозможных?
– Совсем нет. Они ничего не просят. «Чего вы хотите?» – спросит у них министр. «То, что Ваша Светлость сочтет возможным мне предложить.» «Но к чему вы пригодны?» «Не могу знать. В.Св. может проверить мои таланты, мои способности и дать мне должность, которую сочтет возможным мне доверить». «Уходите, у меня нет времени».
Но так и повсюду. Карл III умер безумным; теперь королева Португалии сошла с ума. Король Англии был таким и, говорят, вылечился.
Я раскланялся с послом Венеции за три дня до его отъезда и сердечно расцеловался с Мануччи, который никогда не упускал случая оказать мне знаки самой сердечной дружбы. Я должен был рассказать ему о своей неудаче.
Дон Диего, сапожник, написал мне, что за деньги, что я хочу потратить, я получу также служанку из Бискайи, которая, когда я захочу, сможет приготовить мне достаточно хорошую еду. Адрес, который он мне отправил, принадлежал дому на улице Алькала. Я выехал из Аранхуэса утром и прибыл довольно рано, после обеда, в мое жилище. Аранхуэс находится от Мадрида на том же расстоянии, что Фонтенбло от Парижа.
Я приезжаю, вылезаю из коляски, захожу в первый этаж, нахожу бискайку, которая говорит по-французски, осматриваю свои апартаменты и нахожу кроме кабинета еще одну комнату с кроватью, где можно поместить друга, если захочу; я аплодирую сапожнику. Я велю внести мой багаж, приходит мой лакей, и он кажется мне приличным; я аплодирую дону Диего. Интересуясь узнать, каково уменье этой кухарки из Бильбао, я велю ей приготовить ужин для меня одного, хочу дать ей денег, и она говорит, что они у нее есть и что она даст мне отчет завтра. Я выхожу со своим слугой, чтобы забрать мои вещи у Менгса. Его лакей передает все моему, который уходит за двумя носильщиками, и сам уходит. Я не спрашиваю, дома ли Менгс, хочу дать его лакею дублон, но тот отказывается.
Я иду на Калле дель Десиньяно, чтобы увидеть донну Игнасию и ее отца, которого должен поблагодарить и заплатить деньги, и никого не нахожу. Соседка говорит мне, что он переехал. Я удивлен, что он мне не написал об этом; я иду на Калле д’Алькала, к себе; это в сотне шагов оттуда. Я устраиваю все, как хочу, в своей комнате, спрашиваю у Филиппа – так зовут моего слугу – куда переехал дон Диего, и он говорит, что это далеко, и что он отведет меня туда завтра. Я спрашиваю, где живет мой хозяин, и он говорит, что надо мной, но я могу быть спокоен, что мне не будет никакого шума. Он ушел и должен вернуться только в десять часов.
Я установил на маленьком столике все, что нужно для письма, сказав Филиппу, чтобы уходил и вернулся в девять часов, чтобы прислуживать мне за ужином. Я сказал ему пойти за вином, туда, где, я знал, оно хорошее, и сел работать. В девять часов он пришел сказать, что мне сервировали стол в другой комнате, я пошел туда, с жадным аппетитом, так как ничего не ел, и был удивлен, увидев маленький стол, накрытый с аккуратностью, которую я еще не видел в буржуазных домах в Испании. Но ужин меня убедил, что дон Диего – герой. Эта кухарка из Бильбао готовила как француженка. Пять блюд, «лас криадильяс», которые я люблю до безумия, все превосходное, мне показалось невозможным иметь, в довершение всего, такую хорошую кухарку, хотя за апартаменты я платил достаточно дорого.
К концу ужина Филипп сказал мне, что вернулся хозяин, и что если я позволю, он хотел бы зайти со мной повидаться.
– Пусть зайдет.
Я вижу сапожника с дочерью. Он снял этот дом специально, чтобы меня поселить.