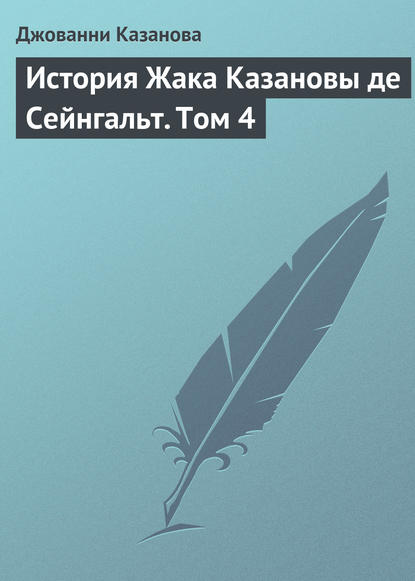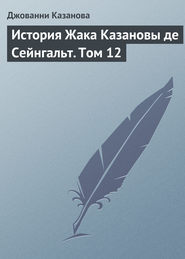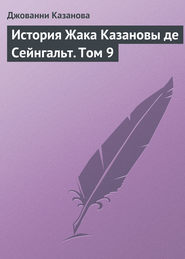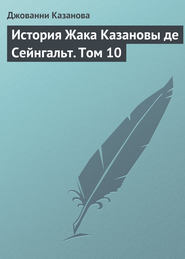По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 4
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Послезавтра я отправился в приемную монастыря после обеда. Я велел ее позвать, и она мне передала, чтобы я ушел, поскольку она ждет своего друга, но чтобы я пришел на следующий день. Я вышел. У моста я заметил плохо замаскированного человека, сходящего с гондолы, в котором я узнал лодочника, состоящего на службе посла Франции. Он был без ливреи, и гондола была простая, как те, что принадлежат обычным венецианцам. Повернув голову, я увидел человека в маске, идущего в монастырь. Я больше не сомневался и вернулся в Венецию, довольный этим открытием, и очарованный тем, что этот министр – мой принципал. Я решил ничего не говорить М. М. Я увиделся с ней назавтра, и она сказала, что ее друг простился с ней до рождественских праздников.
Он уехал в Падую, – сказала она, – но все устроено так, что мы можем, если захотим, ужинать в его казене.
– Почему не в Венеции?
– В Венеции – нет, только после его возвращения. Он так просил. Он человек очень умный.
– В добрый час. Когда же мы будем ужинать в казене?
– В воскресенье, если хочешь.
– Итак, в воскресенье, я приду в казен в сумерках и буду ждать тебя за чтением. Ты сказала своему другу, что ты нашла недурным мой казен?
– Дорогой друг, я ему все рассказала, но одна вещь обратила на себя его внимание. Он хотел, чтобы я попросила тебя не подвергать меня опасности переедания.
– Пусть я умру, если я об этом думал. Но с ним ты не подвергаешься такому риску?
– Никогда.
– Нам надо будет вести себя умнее в будущем. Я думаю, что девять дней перед Рождеством, когда не будет масок, я буду должен приплывать в твой казен по воде, так как, проходя туда пешком, я смогу быть легко узнан кем-то, кто придет в твою церковь.
– Это очень разумно. Я скажу тебе, как ты легко узнаешь нужную пристань. Я мечтала, чтобы ты смог также прийти туда во время поста, когда Господь хочет, чтобы мы умерщвляли наши желания. Не забавно ли, что существует время, когда бог хочет, чтобы мы развлекались, и другое, когда ему нравится, чтобы мы отказывались от развлечений! Что есть общего между божественными датами? Я не знаю, каким образом действия твари могут влиять на создателя, которого мой разум осознает только как независимого. Мне кажется, что если бог создал человека способным его обидеть, человеку имеет смысл делать все, что ему запрещено, если это сможет научить его творить. Разве можно представить себе, чтобы бог обиделся в пост?
– Мой божественный друг, ты рассуждаешь правильно, но нельзя ли мне узнать, где ты научилась рассуждать и как ты перескакиваешь через логические пропасти?
– Мой друг дал мне хорошие книги, и свет правды быстро рассеял облака суеверия, затемнявшие мой разум. Уверяю тебя, когда я размышляю над собой, я чувствую себя более счастливой, когда нахожу кого-то, кто просвещает мой ум, чем несчастной, приняв постриг, потому что величайшее счастье – жить и умереть спокойной, на что нельзя надеяться, лишь исполняя требования веры, о чем твердят нам священники.
– Это очень верно; но я тобой восхищаюсь, потому что настолько просветить разум, как этого добилась ты, невозможно в течение нескольких месяцев.
– Я значительно медленнее продвигалась бы к свету, если бы не была окутана ошибками. В моем сознании ошибочное от верного отделено неким занавесом: только разум может их определить; но меня учили им пренебрегать. Как только мне указали, что я должна им пользоваться в большинстве случаев, я задействовала его, и он прорвал занавес. Очевидность истины блестяще проявилась, глупости исчезли; и теперь я не боюсь, что они появятся снова, потому что теперь я все время креплю свою оборону. Могу сказать, что я стала любить бога только с той поры, как избавилась от ранее внушенной мне идеи религии.
– Поздравляю тебя. Ты счастливей, чем я. Ты проделала большее путешествие за год, чем я за десять лет.
– Ты ведь не начал с чтения того, что написал милорд Болингброк? Шесть или семь месяцев, как я прочла «Мудрость» Шарона, и не знаю, что там нашел наш исповедник. Он осмелился мне сказать на исповеди, что я должна отбросить это чтение. Я ответила ему, что моя совесть мне этого не позволяет, и я не могу его слушаться. Он сказал, что не отпустит мне грехов, а я ответила, что пойду, тем не менее, к причастию. Священник пошел к епископу Диедо, чтобы узнать, что делать, и епископ пришел поговорить со мной, чтобы внушить, что я должна повиноваться своему исповеднику. Я ответила, что мой исповедник должен отпускать мне грехи, и он имеет право давать мне советы, только когда я его об этом попрошу. Я сказала ему прямо, что, не желая скандализировать весь монастырь, когда он отказал мне в отпущении грехов, я пойду, тем не менее, к причастию. Епископ приказал ему отпустить мне грехи, с моего согласия. Но я не сочла себя удовлетворенной. Мой любовник доставил мне папское «бреве», разрешившее мне исповедаться, кому я хочу. Все сестры завидуют этой привилегии, но я воспользовалась ею только один раз, потому что дело того не стоит. Я исповедуюсь все время у одного, который, выслушав меня, без всяких затруднений отпускает мне грехи, потому что я не говорю ему решительно ничего важного.
Так я обнаружил у этой обожаемой женщины мощный ум; но иначе и не могло быть, потому что у нее была равная потребность успокоить свою совесть и насытить свои чувства.
Уверившись, что мы встретимся в казене, я вернулся в Венецию. В воскресенье после обеда я сделал круг вокруг острова Мурано в двухвесельной гондоле, как для того, чтобы разглядеть, где может быть пристань казена, так и для того, чтобы увидеть, откуда малышка выходит из монастыря; но я ничего не понял. Я узнал про пристань казена только в новены, а про выход из монастыря – шесть месяцев спустя, с риском для жизни. Мы поговорим об этом, когда наступит срок.
К часу ночи я был уже в замке моей любимой и, в ожидании прихода идола, развлекался, просматривая книги, составлявшие маленькую библиотеку в будуаре. Их было немного, но все избранные. Там было все, что самые мудрые философы написали против религии, и все, что самые сладострастные перья написали в узкой области любви. Книги соблазняющие, зажигательный стиль которых заставлял читателя отправляться на поиски реальности, единственно способной загасить пламя, циркулирующее в их венах. Кроме книг, там были тома, содержащие сладострастные эстампы. Их достоинство в значительно большей степени зависело от красоты рисунка, чем от похотливости содержания. Там были эстампы из «Шартрского привратника», выполненные в Англии, рисунки Мерсиуса и Алоизия Сижеа Толетана, красивее которых я ничего не видел. Кроме того, маленькие картинки, украшавшие кабинет, были так хорошо выполнены, что казались живыми. Час пролетел для меня за мгновенье.
Появление М. М., одетой монашенкой, заставило меня вскрикнуть от радости. Я сказал, бросаясь ей на шею, что она не могла прийти более кстати, чтобы помешать мне заняться школьной мастурбацией, к чему толкало меня все, что я здесь изучал в течение часа.
– Но облаченная в святые одежды, ты меня поразила. Позволь, мой ангел, сразу заняться с тобой любовью.
– Я мгновенно переоденусь в мирское. Мне нужно только четверть часа. Я не нравлюсь себе в этом сукне.
– Отнюдь нет. Ты воздашь честь любви, такая, как ты есть.
Она ответила мне лишь fi?t voluntas tua,[10 - Да исполнится воля твоя!] с самым благочестивым видом, падая на большую софу, где я занялся ею, вопреки ее возражениям. После сделанного, я помог ей раздеться и облачиться в маленькую мантию из пекинского муслина, элегантней которой нельзя вообразить. Затем я послужил ей горничной, помогая надеть ее ночной чепец.
После ужина, перед тем, как лечь, мы договорились, что увидимся только в первый день новен, когда на десять дней театры будут закрыты и не будет масок. Она дала мне ключи от двери пристани. Голубая лента, привязанная к окну внизу, должна была послужить днем сигналом, что я могу прийти туда следующей ночью. Но что переполняло ее радостью, это что я могу жить в казене и не выходить оттуда вплоть до возвращения ее друга. За десять дней, что я жил там, я виделся с ней четыре раза и убедился, что живу только для нее. Я развлекался тем, что читал, писал К. К., но моя нежность к ней стала спокойней. Прежде всего меня интересовало в ее письмах, то, что она писала о своей дорогой подруге М. М. Она говорила мне, что я напрасно не продолжаю свое знакомство, и я отвечал ей, что не слушаюсь ее, опасаясь быть узнанным. Поэтому же я призывал ее неукоснительно соблюдать наш секрет.
Невозможно любить одновременно двоих, и нельзя сохранять любовь в силе, ни слишком обильно ее питая, или не питая совсем. Моя любовь-страсть к М. М. продолжалась с той же силой лишь из-за того, что я не мог избавиться от постоянной боязни ее потерять. Я говорил ей, что невозможно, чтобы в какой-то момент у той или другой монахини не возникло необходимости поговорить с ней в тот момент, когда ее нет ни в своей комнате, ни в монастыре. Она заверила меня, что этого не может быть, так как ничто так не уважается в монастыре, как свобода, с которой монахиня может запираться в своей комнате и оставаться недоступной даже аббатисе. Она может бояться только рокового случая пожара, потому что лишь в этом случае все будут смущены и сочтут странным, что монахиня может оставаться спокойной и невозмутимой при возникновении необходимости бегства. Она с удовлетворением отметила, что подкупила послушницу, садовника и другую монахиню, имя которой отказалась мне назвать. Положение и золото ее любовника обеспечили ей все это, и он гарантировал ей верность повара и его жены, которые ведали охраной казена. Он был также уверен в своих гондольерах, несмотря на то, что один из них был, несомненно, шпионом Государственных Инквизиторов.
Накануне Рождества она сказала мне, что ее любовник должен приехать, что в день Св. Этьена она должна идти с ним в оперу и ужинать с ним в казене на третий день праздника. Сказав, что ждет меня к ужину в последний день года, она дала мне письмо, попросив прочесть его, когда буду один.
За час до рассвета я собрал свои вещи и пошел в палаццо Брагадин, где заперся у себя, с нетерпением вскрыв письмо, что она дала. Вот его содержание.
«Ты меня слегка задел, дорогой друг, когда позавчера, между прочим, коснулся тайны, скрывающей, кем является мой любовник, и, будучи доволен тем, что владеешь моим сердцем, не оставляешь за мной право оставаться хозяйкой своего ума. Это разделение сердца и ума несет в себе софистический раскол, и если тебе так не кажется, ты должен согласиться, что не любишь меня всю целиком, потому что невозможно, чтобы я существовала отдельно от ума, и чтобы ты мог ценить мое сердце, если оно не находится в согласии с умом. Если моя любовь и может с этим мириться, она недовольна таким положением.
Но поскольку может так случиться, что ты не сможешь убедить меня держаться с тобой с полной искренностью, как того требует истинная любовь, я решилась открыть тебе секрет, который соблюдает мой друг, хотя я знаю, что он уверен в том, что я никогда его не открою, потому что это было бы предательство. Ты не станешь любить меня от этого меньше. Приведенная к необходимости выбирать между вами двумя или обманывать того или другого, любовь победила, но не слепо. Ты взвесишь мотивы, которые помогли склонить баланс в твою сторону.
Поскольку я не могла более противиться желанию ближе тебя узнать, я должна была для этого довериться моему другу. Я не сомневалась в его услужливости. Он пришел к идее, очень отвечающей твоему характеру, поскольку он прочел твое первое письмо, в котором ты выбрал приемную, и счел ее приличной, поскольку, после того, как мы познакомились, ты выбрал казен Мурано, предпочитая его твоему. Но как только он об этом узнал, он попросил меня оказать ему любезность позволить присутствовать при нашем первом свидании, в укрытии, настоящем тайнике, из которого он мог не только видеть, оставаясь сам невидимым все, что мы будем делать, но и слышать все наши разговоры. Это скрытый кабинет. Ты не нашел его за те десять дней, что провел в казене; но я покажу тебе его в последний день года. Скажи мне, могла ли я отказать ему в этом удовольствии. Я согласилась; И нет ничего более естественного, чем сделать это в тайне от тебя. Теперь ты знаешь, что мой друг был свидетелем всего, что мы говорили и делали в первый раз, когда были вместе. Но пусть тебя это не огорчает, мой дорогой друг; ты ему понравился, не только всеми своими поступками, но также прелестными забавными речами, что ты мне говорил. Я немало испугалась, когда разговор зашел о характере, что должен был бы иметь мой любовник, чтобы оставаться толерантным к этому моему поступку; но к счастью, все, что ты сказал, могло ему только польстить. Вот полная исповедь о моем предательстве, которое в любовной мудрости ты должен мне простить, тем более, что оно не нанесло тебе никакого вреда. Могу тебя уверить, что мой друг испытывает огромное любопытство узнать, кто ты такой. В ту ночь ты был естественен и очень забавен; Если бы ты знал о наличии свидетеля, бог знает, каков бы ты был. Если бы я рассказала тебе обо всем, возможно, ты бы не согласился и был бы, наверное, прав.
Но теперь я должна рискнуть всем ради всего и, ради собственного спокойствия, освободиться от возможных упреков. Знай, мой дорогой друг, что в последний день года мой друг будет в казене, и что уйдет оттуда лишь на следующий день. Ты его не увидишь, а он увидит все. Поскольку ты не должен этого знать, ты понимаешь, насколько ты должен быть натурален во всем, потому что, если этого не будет, мой друг, который очень умен, сможет догадаться, что я выдала секрет. Главное, в чем ты должен быть осторожен, это разговоры. Он обладает всеми добродетелями, исключая теологические, то есть вопросы веры, и в этой области у тебя полная свобода. Ты можешь говорить о литературе, путешествиях, политике и рассказывать, сколько хочешь, анекдотов, будучи уверен в полном его одобрении.
Все зависит от того, расположен ли ты, чтобы тебя наблюдал мужчина в моменты, когда ты предаешься любовной страсти. Эта неуверенность меня мучает. Да или нет: середины нет. Понимаешь ли ты жестокость моих опасений? Чувствуешь ли трудность, которую я испытываю перед таким шагом? Я не буду спать предстоящую ночь. Я не успокоюсь, пока не прочту твой ответ. Я пойму, если ты мне ответишь, что для тебя невозможно быть нежным в присутствии кого-то другого, и особенно, в случае, если он тебе незнаком. Я надеюсь, однако, что ты, тем не менее, придешь, и если ты не сможешь играть роль влюбленного, как в первый раз, это не повлечет за собой никаких дурных последствий. Он решит, и я поддержу его в этом решении, что любовь твоя охладела».
Это письмо меня весьма удивило; затем, поразмыслив обо всем, я посмеялся. Но я бы не смеялся, если бы не знал, что за человек будет тот, кто станет свидетелем моих любовных подвигов. Не сомневаясь, что М. М. с нетерпением ждет моего ответа, я написал ей следующее:
«Я хочу, мой божественный друг, чтобы ты получила мой ответ на свое письмо до полудня. Ты пообедаешь вполне спокойно.
Я проведу последнюю ночь года с тобой и уверяю, что друг, для которого мы устроим спектакль, не увидит и не услышит ничего такого, что могло бы навести его на мысль, что ты раскрыла мне его секрет. Будь уверена, что я исполню свою роль превосходно. Если долг человека состоит в том, чтобы всегда следовать своему разуму, если, в том, что от него зависит, он не должен ничего предпринимать, не руководствуясь его указаниями, я не могу понять, как человек может стыдиться того, что друг увидит его в моменты, когда он дает самые большие знаки своей любви очень красивой женщине. Таков и наш случай. Однако я хочу тебе сказать, что, поставив меня в известность о происходящем в первый раз, ты бы поступила плохо. Я бы решительно отказался. Я бы счел, что задета моя честь; Я бы счел, что, приглашая меня к ужину, ты только развлекала своего друга, человека странного, вкус которого мог склонять его к доминированию, и я мог приписать тебе мысль настолько обескураживающую, что она, возможно, могла бы разрушить любовь, которая в тот момент только зарождалась. Таково, дорогая подруга, людское сердце, но теперь случай иной. То, что ты мне рассказала о твоем достойном уважения друге, позволило мне понять его характер, я считаю его теперь также и моим другом и я его люблю. Если чувство стыдливости не мешает тебе допустить его видеть твою нежность и любовные радости со мной, как могу я, будучи далек от стыдливости, не гордиться этим? Может ли мужчина краснеть от своей победы? Я не могу, дорогая подруга, ни краснеть, одерживая над тобой победу, ни допустить, чтобы меня видели в моменты, когда я могу показаться недостойным. Я знаю, однако, что по естественному чувству, которое разум не может осудить, большая часть мужчин испытывает отвращение к тому, чтобы допустить, чтобы их видели в эти моменты. Те, кто не находит логичных оснований для такого отвращения, должны были бы следовать природе кошек; но они могли бы и не считать себя обязанными ни перед кем отчитываться. Главное же основание здесь, что наблюдатель должен будет их отвлекать, и это отвлечение может уменьшить удовольствие от соития. Другое сильное основание можно было бы также признать законным, это – если актеры действуют в соответствии с тем, что их способы наслаждения вызывают сожаление у тех, кто является свидетелями. Эти несчастные правы, не желая вызывать чувство жалости в процессе действий, которые скорее кажутся нацеленными на пробуждение чувства зависти. Но мы знаем, дорогой друг, что, разумеется, мы не вызываем чувства жалости. То, что ты мне сказала, убеждает меня, что ангельская душа твоего друга должна, наблюдая за нами, соучаствовать в наших наслаждениях. Но знаешь ли, что будет и чем я буду недоволен, поскольку твой друг может быть только очень приятным человеком? Будет так, что, наблюдая за нами, он возбудится и или убежит, или сочтет необходимым выйти из своей ниши и броситься на колени передо мной, чтобы просить меня уступить напору его желаний, в условиях, когда ему необходимо успокоить огонь, что зажгли мы в его душе своими шалостями. Если так случится, я буду смеяться, и я тебя уступлю, но сам уйду, потому что чувствую, что не смогу оставаться спокойным зрителем того, что делает с тобой другой. Итак, прощай, мой ангел; все будет хорошо. Я быстренько запечатаю это письмо и мгновенно отнесу его в твой казен».
Я провел эти шесть дней передышки со своими друзьями и в Редуте, который открылся этими днями (на день Св. Этьена). Не имея возможности держать банк, поскольку это было позволено только патрициям, одетым в тогу, я играл с утра до вечера и постоянно проигрывал. Кто понтирует, неминуемо проиграет. Потеря четырех-пяти тысяч цехинов, что составляли все мое богатство, сделала мою любовь еще сильнее.
В конце 1774 года закон Большого Совета запретил все азартные игры и закрыл то, что называли Il Ridotto[11 - Редут]. Большой Совет был весьма удивлен, когда увидел, подсчитав голоса, что принял закон, который принять не мог, потому что три четверти голосующих этого не хотели, и, несмотря на это, три четверти проголосовавших показывали, что этого желают. Голосовавшие удивленно переглядывались. Это было наглядное чудо евангелиста Марка, которое повторили г-н Фланжини, тогда первый корректор[12 - счетчик], а сейчас кардинал, и три Государственных Инквизитора.
В назначенный день в обычное время я оказался в казене рядом с прекрасной М. М., одетой светской дамой и стоящей спиной к камину.
Друг, – сказала она, – еще не пришел, но когда он появится там, я тебе подмигну.
– Где это место?
– Вот здесь. Посмотри на спинку этого канапе, стоящего у стены. Все эти цветы рельефа, что ты видишь, имеют отверстия, ведущие в кабинет, находящийся сзади. Там есть кровать, стол и все, что нужно человеку, который хочет там находиться семь-восемь часов, забавляясь тем, что делается здесь. Ты это увидишь, когда захочешь.
– Это он велел это сделать?
– Нет; поскольку не мог предположить, что будет в этом участвовать.
– Я понимаю, что этот спектакль может доставить ему большое удовольствие; но, не имея возможности тобою овладеть, когда природа потребует этого, что он будет делать?
– Это его дело. Он, впрочем, может уйти, если ему надоест, а также может спать, но если ты будешь вести себя естественно, ему понравится.
– Я буду естественен, за исключением того, что буду более вежлив.
Никакой вежливости, дорогой, потому что таким образом ты потеряешь естественности. Откуда ты взял, что двое влюбленных, охваченных любовным порывом, будут думать о вежливости?
Он уехал в Падую, – сказала она, – но все устроено так, что мы можем, если захотим, ужинать в его казене.
– Почему не в Венеции?
– В Венеции – нет, только после его возвращения. Он так просил. Он человек очень умный.
– В добрый час. Когда же мы будем ужинать в казене?
– В воскресенье, если хочешь.
– Итак, в воскресенье, я приду в казен в сумерках и буду ждать тебя за чтением. Ты сказала своему другу, что ты нашла недурным мой казен?
– Дорогой друг, я ему все рассказала, но одна вещь обратила на себя его внимание. Он хотел, чтобы я попросила тебя не подвергать меня опасности переедания.
– Пусть я умру, если я об этом думал. Но с ним ты не подвергаешься такому риску?
– Никогда.
– Нам надо будет вести себя умнее в будущем. Я думаю, что девять дней перед Рождеством, когда не будет масок, я буду должен приплывать в твой казен по воде, так как, проходя туда пешком, я смогу быть легко узнан кем-то, кто придет в твою церковь.
– Это очень разумно. Я скажу тебе, как ты легко узнаешь нужную пристань. Я мечтала, чтобы ты смог также прийти туда во время поста, когда Господь хочет, чтобы мы умерщвляли наши желания. Не забавно ли, что существует время, когда бог хочет, чтобы мы развлекались, и другое, когда ему нравится, чтобы мы отказывались от развлечений! Что есть общего между божественными датами? Я не знаю, каким образом действия твари могут влиять на создателя, которого мой разум осознает только как независимого. Мне кажется, что если бог создал человека способным его обидеть, человеку имеет смысл делать все, что ему запрещено, если это сможет научить его творить. Разве можно представить себе, чтобы бог обиделся в пост?
– Мой божественный друг, ты рассуждаешь правильно, но нельзя ли мне узнать, где ты научилась рассуждать и как ты перескакиваешь через логические пропасти?
– Мой друг дал мне хорошие книги, и свет правды быстро рассеял облака суеверия, затемнявшие мой разум. Уверяю тебя, когда я размышляю над собой, я чувствую себя более счастливой, когда нахожу кого-то, кто просвещает мой ум, чем несчастной, приняв постриг, потому что величайшее счастье – жить и умереть спокойной, на что нельзя надеяться, лишь исполняя требования веры, о чем твердят нам священники.
– Это очень верно; но я тобой восхищаюсь, потому что настолько просветить разум, как этого добилась ты, невозможно в течение нескольких месяцев.
– Я значительно медленнее продвигалась бы к свету, если бы не была окутана ошибками. В моем сознании ошибочное от верного отделено неким занавесом: только разум может их определить; но меня учили им пренебрегать. Как только мне указали, что я должна им пользоваться в большинстве случаев, я задействовала его, и он прорвал занавес. Очевидность истины блестяще проявилась, глупости исчезли; и теперь я не боюсь, что они появятся снова, потому что теперь я все время креплю свою оборону. Могу сказать, что я стала любить бога только с той поры, как избавилась от ранее внушенной мне идеи религии.
– Поздравляю тебя. Ты счастливей, чем я. Ты проделала большее путешествие за год, чем я за десять лет.
– Ты ведь не начал с чтения того, что написал милорд Болингброк? Шесть или семь месяцев, как я прочла «Мудрость» Шарона, и не знаю, что там нашел наш исповедник. Он осмелился мне сказать на исповеди, что я должна отбросить это чтение. Я ответила ему, что моя совесть мне этого не позволяет, и я не могу его слушаться. Он сказал, что не отпустит мне грехов, а я ответила, что пойду, тем не менее, к причастию. Священник пошел к епископу Диедо, чтобы узнать, что делать, и епископ пришел поговорить со мной, чтобы внушить, что я должна повиноваться своему исповеднику. Я ответила, что мой исповедник должен отпускать мне грехи, и он имеет право давать мне советы, только когда я его об этом попрошу. Я сказала ему прямо, что, не желая скандализировать весь монастырь, когда он отказал мне в отпущении грехов, я пойду, тем не менее, к причастию. Епископ приказал ему отпустить мне грехи, с моего согласия. Но я не сочла себя удовлетворенной. Мой любовник доставил мне папское «бреве», разрешившее мне исповедаться, кому я хочу. Все сестры завидуют этой привилегии, но я воспользовалась ею только один раз, потому что дело того не стоит. Я исповедуюсь все время у одного, который, выслушав меня, без всяких затруднений отпускает мне грехи, потому что я не говорю ему решительно ничего важного.
Так я обнаружил у этой обожаемой женщины мощный ум; но иначе и не могло быть, потому что у нее была равная потребность успокоить свою совесть и насытить свои чувства.
Уверившись, что мы встретимся в казене, я вернулся в Венецию. В воскресенье после обеда я сделал круг вокруг острова Мурано в двухвесельной гондоле, как для того, чтобы разглядеть, где может быть пристань казена, так и для того, чтобы увидеть, откуда малышка выходит из монастыря; но я ничего не понял. Я узнал про пристань казена только в новены, а про выход из монастыря – шесть месяцев спустя, с риском для жизни. Мы поговорим об этом, когда наступит срок.
К часу ночи я был уже в замке моей любимой и, в ожидании прихода идола, развлекался, просматривая книги, составлявшие маленькую библиотеку в будуаре. Их было немного, но все избранные. Там было все, что самые мудрые философы написали против религии, и все, что самые сладострастные перья написали в узкой области любви. Книги соблазняющие, зажигательный стиль которых заставлял читателя отправляться на поиски реальности, единственно способной загасить пламя, циркулирующее в их венах. Кроме книг, там были тома, содержащие сладострастные эстампы. Их достоинство в значительно большей степени зависело от красоты рисунка, чем от похотливости содержания. Там были эстампы из «Шартрского привратника», выполненные в Англии, рисунки Мерсиуса и Алоизия Сижеа Толетана, красивее которых я ничего не видел. Кроме того, маленькие картинки, украшавшие кабинет, были так хорошо выполнены, что казались живыми. Час пролетел для меня за мгновенье.
Появление М. М., одетой монашенкой, заставило меня вскрикнуть от радости. Я сказал, бросаясь ей на шею, что она не могла прийти более кстати, чтобы помешать мне заняться школьной мастурбацией, к чему толкало меня все, что я здесь изучал в течение часа.
– Но облаченная в святые одежды, ты меня поразила. Позволь, мой ангел, сразу заняться с тобой любовью.
– Я мгновенно переоденусь в мирское. Мне нужно только четверть часа. Я не нравлюсь себе в этом сукне.
– Отнюдь нет. Ты воздашь честь любви, такая, как ты есть.
Она ответила мне лишь fi?t voluntas tua,[10 - Да исполнится воля твоя!] с самым благочестивым видом, падая на большую софу, где я занялся ею, вопреки ее возражениям. После сделанного, я помог ей раздеться и облачиться в маленькую мантию из пекинского муслина, элегантней которой нельзя вообразить. Затем я послужил ей горничной, помогая надеть ее ночной чепец.
После ужина, перед тем, как лечь, мы договорились, что увидимся только в первый день новен, когда на десять дней театры будут закрыты и не будет масок. Она дала мне ключи от двери пристани. Голубая лента, привязанная к окну внизу, должна была послужить днем сигналом, что я могу прийти туда следующей ночью. Но что переполняло ее радостью, это что я могу жить в казене и не выходить оттуда вплоть до возвращения ее друга. За десять дней, что я жил там, я виделся с ней четыре раза и убедился, что живу только для нее. Я развлекался тем, что читал, писал К. К., но моя нежность к ней стала спокойней. Прежде всего меня интересовало в ее письмах, то, что она писала о своей дорогой подруге М. М. Она говорила мне, что я напрасно не продолжаю свое знакомство, и я отвечал ей, что не слушаюсь ее, опасаясь быть узнанным. Поэтому же я призывал ее неукоснительно соблюдать наш секрет.
Невозможно любить одновременно двоих, и нельзя сохранять любовь в силе, ни слишком обильно ее питая, или не питая совсем. Моя любовь-страсть к М. М. продолжалась с той же силой лишь из-за того, что я не мог избавиться от постоянной боязни ее потерять. Я говорил ей, что невозможно, чтобы в какой-то момент у той или другой монахини не возникло необходимости поговорить с ней в тот момент, когда ее нет ни в своей комнате, ни в монастыре. Она заверила меня, что этого не может быть, так как ничто так не уважается в монастыре, как свобода, с которой монахиня может запираться в своей комнате и оставаться недоступной даже аббатисе. Она может бояться только рокового случая пожара, потому что лишь в этом случае все будут смущены и сочтут странным, что монахиня может оставаться спокойной и невозмутимой при возникновении необходимости бегства. Она с удовлетворением отметила, что подкупила послушницу, садовника и другую монахиню, имя которой отказалась мне назвать. Положение и золото ее любовника обеспечили ей все это, и он гарантировал ей верность повара и его жены, которые ведали охраной казена. Он был также уверен в своих гондольерах, несмотря на то, что один из них был, несомненно, шпионом Государственных Инквизиторов.
Накануне Рождества она сказала мне, что ее любовник должен приехать, что в день Св. Этьена она должна идти с ним в оперу и ужинать с ним в казене на третий день праздника. Сказав, что ждет меня к ужину в последний день года, она дала мне письмо, попросив прочесть его, когда буду один.
За час до рассвета я собрал свои вещи и пошел в палаццо Брагадин, где заперся у себя, с нетерпением вскрыв письмо, что она дала. Вот его содержание.
«Ты меня слегка задел, дорогой друг, когда позавчера, между прочим, коснулся тайны, скрывающей, кем является мой любовник, и, будучи доволен тем, что владеешь моим сердцем, не оставляешь за мной право оставаться хозяйкой своего ума. Это разделение сердца и ума несет в себе софистический раскол, и если тебе так не кажется, ты должен согласиться, что не любишь меня всю целиком, потому что невозможно, чтобы я существовала отдельно от ума, и чтобы ты мог ценить мое сердце, если оно не находится в согласии с умом. Если моя любовь и может с этим мириться, она недовольна таким положением.
Но поскольку может так случиться, что ты не сможешь убедить меня держаться с тобой с полной искренностью, как того требует истинная любовь, я решилась открыть тебе секрет, который соблюдает мой друг, хотя я знаю, что он уверен в том, что я никогда его не открою, потому что это было бы предательство. Ты не станешь любить меня от этого меньше. Приведенная к необходимости выбирать между вами двумя или обманывать того или другого, любовь победила, но не слепо. Ты взвесишь мотивы, которые помогли склонить баланс в твою сторону.
Поскольку я не могла более противиться желанию ближе тебя узнать, я должна была для этого довериться моему другу. Я не сомневалась в его услужливости. Он пришел к идее, очень отвечающей твоему характеру, поскольку он прочел твое первое письмо, в котором ты выбрал приемную, и счел ее приличной, поскольку, после того, как мы познакомились, ты выбрал казен Мурано, предпочитая его твоему. Но как только он об этом узнал, он попросил меня оказать ему любезность позволить присутствовать при нашем первом свидании, в укрытии, настоящем тайнике, из которого он мог не только видеть, оставаясь сам невидимым все, что мы будем делать, но и слышать все наши разговоры. Это скрытый кабинет. Ты не нашел его за те десять дней, что провел в казене; но я покажу тебе его в последний день года. Скажи мне, могла ли я отказать ему в этом удовольствии. Я согласилась; И нет ничего более естественного, чем сделать это в тайне от тебя. Теперь ты знаешь, что мой друг был свидетелем всего, что мы говорили и делали в первый раз, когда были вместе. Но пусть тебя это не огорчает, мой дорогой друг; ты ему понравился, не только всеми своими поступками, но также прелестными забавными речами, что ты мне говорил. Я немало испугалась, когда разговор зашел о характере, что должен был бы иметь мой любовник, чтобы оставаться толерантным к этому моему поступку; но к счастью, все, что ты сказал, могло ему только польстить. Вот полная исповедь о моем предательстве, которое в любовной мудрости ты должен мне простить, тем более, что оно не нанесло тебе никакого вреда. Могу тебя уверить, что мой друг испытывает огромное любопытство узнать, кто ты такой. В ту ночь ты был естественен и очень забавен; Если бы ты знал о наличии свидетеля, бог знает, каков бы ты был. Если бы я рассказала тебе обо всем, возможно, ты бы не согласился и был бы, наверное, прав.
Но теперь я должна рискнуть всем ради всего и, ради собственного спокойствия, освободиться от возможных упреков. Знай, мой дорогой друг, что в последний день года мой друг будет в казене, и что уйдет оттуда лишь на следующий день. Ты его не увидишь, а он увидит все. Поскольку ты не должен этого знать, ты понимаешь, насколько ты должен быть натурален во всем, потому что, если этого не будет, мой друг, который очень умен, сможет догадаться, что я выдала секрет. Главное, в чем ты должен быть осторожен, это разговоры. Он обладает всеми добродетелями, исключая теологические, то есть вопросы веры, и в этой области у тебя полная свобода. Ты можешь говорить о литературе, путешествиях, политике и рассказывать, сколько хочешь, анекдотов, будучи уверен в полном его одобрении.
Все зависит от того, расположен ли ты, чтобы тебя наблюдал мужчина в моменты, когда ты предаешься любовной страсти. Эта неуверенность меня мучает. Да или нет: середины нет. Понимаешь ли ты жестокость моих опасений? Чувствуешь ли трудность, которую я испытываю перед таким шагом? Я не буду спать предстоящую ночь. Я не успокоюсь, пока не прочту твой ответ. Я пойму, если ты мне ответишь, что для тебя невозможно быть нежным в присутствии кого-то другого, и особенно, в случае, если он тебе незнаком. Я надеюсь, однако, что ты, тем не менее, придешь, и если ты не сможешь играть роль влюбленного, как в первый раз, это не повлечет за собой никаких дурных последствий. Он решит, и я поддержу его в этом решении, что любовь твоя охладела».
Это письмо меня весьма удивило; затем, поразмыслив обо всем, я посмеялся. Но я бы не смеялся, если бы не знал, что за человек будет тот, кто станет свидетелем моих любовных подвигов. Не сомневаясь, что М. М. с нетерпением ждет моего ответа, я написал ей следующее:
«Я хочу, мой божественный друг, чтобы ты получила мой ответ на свое письмо до полудня. Ты пообедаешь вполне спокойно.
Я проведу последнюю ночь года с тобой и уверяю, что друг, для которого мы устроим спектакль, не увидит и не услышит ничего такого, что могло бы навести его на мысль, что ты раскрыла мне его секрет. Будь уверена, что я исполню свою роль превосходно. Если долг человека состоит в том, чтобы всегда следовать своему разуму, если, в том, что от него зависит, он не должен ничего предпринимать, не руководствуясь его указаниями, я не могу понять, как человек может стыдиться того, что друг увидит его в моменты, когда он дает самые большие знаки своей любви очень красивой женщине. Таков и наш случай. Однако я хочу тебе сказать, что, поставив меня в известность о происходящем в первый раз, ты бы поступила плохо. Я бы решительно отказался. Я бы счел, что задета моя честь; Я бы счел, что, приглашая меня к ужину, ты только развлекала своего друга, человека странного, вкус которого мог склонять его к доминированию, и я мог приписать тебе мысль настолько обескураживающую, что она, возможно, могла бы разрушить любовь, которая в тот момент только зарождалась. Таково, дорогая подруга, людское сердце, но теперь случай иной. То, что ты мне рассказала о твоем достойном уважения друге, позволило мне понять его характер, я считаю его теперь также и моим другом и я его люблю. Если чувство стыдливости не мешает тебе допустить его видеть твою нежность и любовные радости со мной, как могу я, будучи далек от стыдливости, не гордиться этим? Может ли мужчина краснеть от своей победы? Я не могу, дорогая подруга, ни краснеть, одерживая над тобой победу, ни допустить, чтобы меня видели в моменты, когда я могу показаться недостойным. Я знаю, однако, что по естественному чувству, которое разум не может осудить, большая часть мужчин испытывает отвращение к тому, чтобы допустить, чтобы их видели в эти моменты. Те, кто не находит логичных оснований для такого отвращения, должны были бы следовать природе кошек; но они могли бы и не считать себя обязанными ни перед кем отчитываться. Главное же основание здесь, что наблюдатель должен будет их отвлекать, и это отвлечение может уменьшить удовольствие от соития. Другое сильное основание можно было бы также признать законным, это – если актеры действуют в соответствии с тем, что их способы наслаждения вызывают сожаление у тех, кто является свидетелями. Эти несчастные правы, не желая вызывать чувство жалости в процессе действий, которые скорее кажутся нацеленными на пробуждение чувства зависти. Но мы знаем, дорогой друг, что, разумеется, мы не вызываем чувства жалости. То, что ты мне сказала, убеждает меня, что ангельская душа твоего друга должна, наблюдая за нами, соучаствовать в наших наслаждениях. Но знаешь ли, что будет и чем я буду недоволен, поскольку твой друг может быть только очень приятным человеком? Будет так, что, наблюдая за нами, он возбудится и или убежит, или сочтет необходимым выйти из своей ниши и броситься на колени передо мной, чтобы просить меня уступить напору его желаний, в условиях, когда ему необходимо успокоить огонь, что зажгли мы в его душе своими шалостями. Если так случится, я буду смеяться, и я тебя уступлю, но сам уйду, потому что чувствую, что не смогу оставаться спокойным зрителем того, что делает с тобой другой. Итак, прощай, мой ангел; все будет хорошо. Я быстренько запечатаю это письмо и мгновенно отнесу его в твой казен».
Я провел эти шесть дней передышки со своими друзьями и в Редуте, который открылся этими днями (на день Св. Этьена). Не имея возможности держать банк, поскольку это было позволено только патрициям, одетым в тогу, я играл с утра до вечера и постоянно проигрывал. Кто понтирует, неминуемо проиграет. Потеря четырех-пяти тысяч цехинов, что составляли все мое богатство, сделала мою любовь еще сильнее.
В конце 1774 года закон Большого Совета запретил все азартные игры и закрыл то, что называли Il Ridotto[11 - Редут]. Большой Совет был весьма удивлен, когда увидел, подсчитав голоса, что принял закон, который принять не мог, потому что три четверти голосующих этого не хотели, и, несмотря на это, три четверти проголосовавших показывали, что этого желают. Голосовавшие удивленно переглядывались. Это было наглядное чудо евангелиста Марка, которое повторили г-н Фланжини, тогда первый корректор[12 - счетчик], а сейчас кардинал, и три Государственных Инквизитора.
В назначенный день в обычное время я оказался в казене рядом с прекрасной М. М., одетой светской дамой и стоящей спиной к камину.
Друг, – сказала она, – еще не пришел, но когда он появится там, я тебе подмигну.
– Где это место?
– Вот здесь. Посмотри на спинку этого канапе, стоящего у стены. Все эти цветы рельефа, что ты видишь, имеют отверстия, ведущие в кабинет, находящийся сзади. Там есть кровать, стол и все, что нужно человеку, который хочет там находиться семь-восемь часов, забавляясь тем, что делается здесь. Ты это увидишь, когда захочешь.
– Это он велел это сделать?
– Нет; поскольку не мог предположить, что будет в этом участвовать.
– Я понимаю, что этот спектакль может доставить ему большое удовольствие; но, не имея возможности тобою овладеть, когда природа потребует этого, что он будет делать?
– Это его дело. Он, впрочем, может уйти, если ему надоест, а также может спать, но если ты будешь вести себя естественно, ему понравится.
– Я буду естественен, за исключением того, что буду более вежлив.
Никакой вежливости, дорогой, потому что таким образом ты потеряешь естественности. Откуда ты взял, что двое влюбленных, охваченных любовным порывом, будут думать о вежливости?