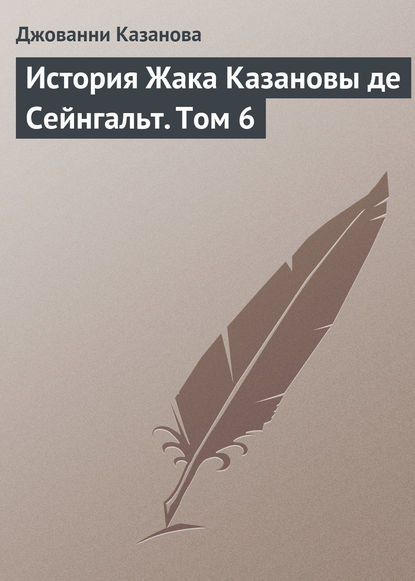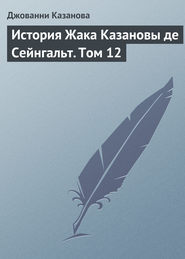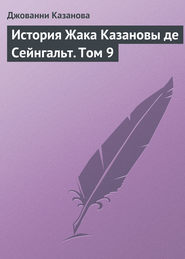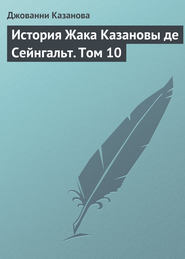По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 6
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Говоря так, я достал табакерку, которая обошла два-три раза стол.
Все поднялись из-за стола, удивленные, что провели за ним три часа. После обычных комплиментов прекрасная компания укатила в Кёльн, чтобы хватило времени еще на посещение комедии. Очень довольный этим прекрасным праздником, я оставил бравому распорядителю двадцать дукатов для слуг. Он попросил меня отметить в письме графу Верита свое полное удовлетворение.
Я прибыл в Кёльн вовремя, чтобы пойти на малую пьесу. Не имея кареты, я прибыл в театр на портшезе. Увидев м-м Х вместе с г-ном де Ластик, я направился в ее ложу. Она сказала мне с грустным видом, что генерал почувствовал себя столь больным, что вынужден был пойти прилечь. Немного погодя г-н де Ластик оставил нас одних, и прелестная женщина выдала мне комплименты, стоящие сотни моих завтраков. Она сказала, что генерал выпил слишком много токайского, и что он грубая свинья, что он сказал, что знает, кто я такой, и что мне не подобает вести себя подобно принцу. Она ответила ему, что наоборот, я принял их как принцев и как их скромный слуга. Он был возмущен ее словами.
– Пошлите его ко всем чертям, – сказал я ей.
– Слишком поздно. Женщина, которую вы не знаете, завладела им; я утешусь, но это не доставляет мне удовольствия.
– Мне радостно это слышать. Почему я не высокий принц! А между тем я должен вам сказать, что я гораздо сильнее болен, чем Кеттлер. Я нахожусь в крайних обстоятельствах.
– Полагаю, вы шутите.
– Я говорю серьезно. Поцелуи на балу у Выборщика дали мне возможность вкусить нектар необычайной сладости. Если вы не сжалитесь надо мной, я уеду отсюда несчастным до конца своих дней.
– Отложите ваш отъезд. Оставьте Штутгарт. Я думаю о вас, и это правда. Поверьте, я не хочу вас обманывать.
– Например, сегодня вечером, если бы у вас не было коляски генерала, и если бы у меня была своя, я смог бы сопроводить вас к вам домой со всем почтением.
– Да что вы! У вас нет своей?
– Нет.
– В таком случае, это я должна вас отвезти; но, дорогой друг, это должно произойти очень естественным образом. Вы проводите меня до кареты, я спрошу у вас, где ваша, и, услышав, что у вас нет кареты, я предложу вам сесть в мою, и высажу вас у вашей гостиницы. Это займет лишь пару минут, но, в ожидании лучшего, это уже кое-что.
Я ответил ей лишь глазами, потому что радость окутала мне душу. После комедии подходит лакей и говорит, что ее карета у дверей. Мы выходим, она задает мне оговоренный вопрос и, услышав, что у меня нет кареты, она поступает еще лучше: она говорит, что направляется в отель генерала узнать, как он себя чувствует, и что если я хочу, она сможет затем проводить меня в мою гостиницу.
Божественный ум! Нужно было пересечь два раза старый город, плохо мощеный. Карета была закрытая. Мы делали, что могли, но это было почти ничего. Луна светила прямо на нас, и негодяй – кучер поворачивал время от времени голову. Мне было ужасно. Часовой сказал кучеру, что генерал не доступен для посещения. Она приказала ему ехать в мою гостиницу, и теперь луна была сзади нас. Нам было чуть лучше, но все же плохо, совсем плохо. Мерзавец в жизни не ездил столь быстро. Выходя, однако, я дал ему дукат. Я отправился спать, влюбленный до смерти, и в какой-то мере более несчастный, чем накануне. М-м Х поведала мне, что, доставляя мне счастье, сама была счастлива. Я решил оставаться в Кёльне, пока генерал не уедет.
На следующий день в полдень я направился в отель генерала, чтобы оставить расписку в книге посетителей, но он принимал. Меня пригласили войти. М-м Х была там. Я поздравил генерала с тем, что он в порядке, и он ответил лишь холодным кивком. Вокруг было много офицеров, так что четыре минуты спустя я откланялся. Он сохранял домашний режим еще три дня, и м-м Х не появлялась в театре.
В последний день карнавала генерал пригласил множество народа к себе на ужин, и после ужина должны были танцевать. Я захожу, как обычно, поздороваться в ложу к м-м Х, остаюсь там наедине с ней, она спрашивает, пригласил ли меня генерал на ужин, я говорю, что нет, и она говорит непререкаемым и возмущенным тоном, что я, тем не менее, должен туда пойти.
– Вы и не думайте об этом, – говорю я нежно, – я повинуюсь вам во всем, кроме этого случая.
– Я знаю все, что вы можете мне сказать. Надо туда пойти. Я буду чувствовать себя опозоренной, если вас не будет на этом ужине. Вы не сможете дать мне большего свидетельства вашей любви и вашего уважения.
– Остановитесь. Я пойду. Но скажите, понимаете ли вы, что этим роковым приказом вы подвергаете мою жизнь опасности, потому что я не тот человек, который способен промолчать, если этот грубиян меня оскорбит.
– Я все это понимаю; я люблю вашу честь по меньшей мере так же, как вашу жизнь. Ничего с вами не будет, я отвечаю за это, я беру все на себя. Вы должны туда идти. Пообещайте мне это, потому что я так решила. Если вы не хотите туда идти, я тем более не пойду, но после этого мы больше не увидимся.
– Я пойду. Достаточно об этом.
В этот момент вошел г-н де Кастри, и я вышел. Предвидя самое свое жестокое публичное оскорбление, которое должно иметь фатальные последствия, я провел инфернальные два часа. Я настроился однако вести себя разумно. Я направился к генералу сразу после комедии; было только семь или восемь человек. Я подошел к канониссе, любящей итальянскую поэзию, и наша беседа была интересной; через полчаса зала заполнилась; последними пришли м-м Х с генералом. Будучи занятым беседой с дамой, я, естественно, не повернулся, и, соответственно, он меня не заметил. М-м Х, очень оживленная, не дала ему времени оглядеть собрание. Продолжение следовало. Четверть часа спустя канониссе объявили, что стол накрыт, она приняла мою руку, и вот, я за столом, сижу рядом с ней, и, секунду спустя, все места заняты. Однако иностранец, который, должно быть, был приглашен, остался без места. Генерал кричит, что этого не может быть, и, подождав, пока поставят еще один куверт, оглядывает гостей и, поскольку я на него не смотрю, называет меня и говорит:
– Месье, я вас не приглашал.
Я отвечаю, тоном весьма уважительным, но твердым:
– Это правда, мой генерал, но, будучи уверен, что это произошло только вследствие забывчивости, я, тем не менее, явился засвидетельствовать свое уважение Вашему Превосходительству.
После этого ответа я продолжаю свою беседу с канониссой, ни на кого не глядя. Разговор за столом продолжился лишь после трех-четырех минут всеобщего молчания. Канонисса высказала приятную мысль, которую я поддержал, переадресовав мимоходом другим сотрапезникам, и стол внезапно оживился.
Генерал обиделся, что меня не устраивало. Мне хотелось его развеселить, и я улучил момент. Этот момент наступил при второй перемене. Г-н де Кастри произнес похвальное слово Дофину, говорили о его брате графе де Люсак, говорили о другом – герцоге Курляндском, перешли к Бирону, прошлому герцогу, который был теперь в Сибири, и его личных качествах. Один из собеседников сказал, что все его достоинство заключалось в умении нравиться императрице Анне; я извинился:
– Его большое достоинство состояло в том, что он верно служил последнему герцогу Кеттлеру, который без храбрости этого человека, сегодня пребывающего в несчастье, потерял бы все свое войско в войне, что теперь закончилась. Это сам герцог Кеттлер, геройским жестом, достойным войти в историю, направил его к петербургскому двору, и сам Бирон никогда не добивался герцогства. Он хотел получить только графство Вартенбергское, благодаря правам младшей ветви дома Кеттлер, правящей ныне, вопреки капризу царицы, которая непременно хотела сделать своего фаворита герцогом.
– Я не знал никогда человека, лучше образованного, – сказал генерал, глядя на меня, – и, не будь этого каприза, я правил бы сегодня.
После этого скромного объяснения он разразился смехом и направил мне бутылку рейнского, с надписью на этикетке 1748. С этого момента он говорил только со мной, и мы поднялись из-за стола добрыми друзьями. Танцевали всю ночь; канонисса была моей дамой. Я танцевал с м-м Х только один менуэт. К концу бала он спросил меня, уезжаю ли я, что можно было легко понять как вопрос «когда?». Я ответил, что до отъезда еще с ним увижусь.
Я отправился спать, очень довольный тем, что дал м-м Х доказательство своей любви, сильнее которого трудно себе вообразить, но возблагодарил судьбу, что вмешательство моего доброго гения подсказало мне, как образумить этого грубияна, потому что Бог знает, что бы я сделал, если бы он осмелился сказать мне выйти из-за стола. В первый же раз, как мы с ней увиделись, она сказала, что содрогнулась, когда услышала, как он мне сказал, что не приглашал меня.
– Очевидно, – сказала она, – что он сказал бы вам далее, если бы ваш гордый ответ не заставил его окаменеть, и во всяком случае мое решение было уже принято.
– Какое решение?
– Я бы поднялась, и мы вышли бы вместе; г-н де Кастри мне сказал, что он сделал бы то же самое, и думаю, что все дамы, которых вы приглашали в Брюль, последовали бы нашему примеру.
– Но дело еще не кончено, потому что я хочу сатисфакцию.
– Я это вижу и прошу вас забыть, что я подвергла вас такому риску; но со своей стороны, я никогда не забуду, что обязана вам своей благодарностью.
Три или четыре дня спустя, узнав, что она больна, я пошел ее повидать в одиннадцать часов утра, чтобы не встретить там генерала. Она приняла меня в комнате своего мужа, который спросил, не пообедаю ли я с ними по-семейному, и я согласился. Я получил от этого обеда удовольствия больше, чем от ужина у генерала два дня спустя после моего приезда в Кёльн. Этот бургомистр был один из тех людей, что всему предпочитают мир в доме, и которого жена должна любить, потому что он не из числа тех, кто говорит: Displiceas aliis, sic ego tutus ero.[9 - Будь неприятен другим, чтобы пребывать в уверенности (Тибулл).]
Перед обедом она показала мне весь дом:
– Вот наша спальня, а вот кабинет, где иногда я сплю одна, когда этого требуют приличия; а вот общая церковь, которую мы можем рассматривать как свою капеллу, потому что эти два обрешеченные окна позволяют нам наблюдать мессу. Мы ходим туда только по праздничным дням, спускаясь по этой маленькой лестнице, внизу которой есть дверь; вот ключ от нее.
Это была вторая суббота поста, мы поели очень вкусно постное, но еда интересовала меня менее всего. Мою влюбленную душу переполняла эта очаровательная женщина, которую, в ее возрасте двадцати пяти лет, обожала вся семья. Это были свояченица и дети – сыновья брата ее мужа, которым он был опекуном. Я рано ушел, чтобы пойти писать Эстер, которую эта новая страсть заставила меня забыть.
На другой день я поспешил послушать мессу в маленькой церкви м-м Х. Это было воскресенье. Я увидел ее выходящей из маленькой двери, расположенной под ее обрешеченными окнами. Она шла в сопровождении своих племянниц, прикрыв красивую голову капюшоном своего плаща. Эта дверь была так хорошо укрыта в приделе церкви, что ее не было видно. Дьявол, который, как известно, искушает в церкви гораздо сильнее, чем в других местах, заронил в этот момент в моей душе прекрасный проект – проводить целые ночи в ее объятиях, поднявшись к ней по этой замечательной лестнице.
Я сообщил ей этот проект на следующий день в комедии. Она засмеялась. Она сказала, что думала об этом, и что она передаст мне записку с инструкцией, спрятанную в газету, в ближайшее время. Мы не смогли поговорить. Дама из Экс-ла-Шапель, которая прибыла провести несколько дней в Кёльне, полностью завладела ею, и ложу заполнили визитеры.
На следующий день она публично дала мне газету, сказав, что не нашла в ней ничего интересного. Вот копия письма, что я нашел внутри:
«Прекрасный проект, подсказанный Амуром, не без трудностей, но сулит надежды. Жена ложится спать в кабинете, только когда муж просит ее согласия на это отделение; при этом такое положение может длиться четыре или пять дней. Она полагает, что основание для такой просьбы может вскоре возникнуть, и давняя привычка приводит к тому, что она не сможет ему отказать. Так что надо ждать. Для влюбленной женщины возникнет необходимость известить любовника. Необходимо будет спрятаться в церкви, и не следует ни секунды рассчитывать на то, чтобы подкупить человека, который ее откроет и затем закроет. Хотя и бедный, он неподкупен по причине глупости. Он проболтается. Единственный способ – спрятаться в церкви и дать себя запереть. Церковь закрывают в полдень в рабочие дни, и вечером – в праздничные, и открывают каждый день на заре. Когда наступит время, дверца будет закрыта таким образом, что любовнику достаточно будет слегка толкнуть ее, чтобы открыть. Кабинет отделен от спальни только перегородкой, очень тонкой, не следует даже чихать, ему не позволено быть простуженным, потому что случится большое несчастье, если он вздумает кашлянуть. Бегство любовника не составит никакого труда. Он спустится в церковь и выйдет, когда увидит, что она открыта. Поскольку церковный сторож не видел его, когда закрывал церковь, следовательно, не увидит и когда откроет».
Это письмо согрело мне душу. Я поцеловал его сотню раз. На следующий день я отправился изучить внутренности этой церкви – это было главным. Там была кафедра, где меня бы не увидели; но лестница находилась в ризнице, всегда закрытой. Я остановился на одной из двух исповедален, у которых были выходящие наружу дверцы. Спрятавшись там, где исповедник держит ноги, я был бы не виден, но пространство там было настолько тесным, что мне показалось, что я там не помещусь, если дверца будет закрыта. Я подождал до полудня и попробовал туда залезть, когда никого в церкви не было. Я там поместился, но настолько плохо, что меня увидел бы любой, кто приблизится. Во всех предприятиях такого рода ничего не получится, если не рассчитывать на фортуну. Решившись положиться на свой опыт, я вернулся к себе, вполне довольный. Я дал отчет моей обожаемой, поместив рассказ об этом в ту же газету и передав ей в комедии, где виделся с ней каждый день.
Восемь-десять дней спустя она спросила у генерала в моем присутствии, нет ли у него каких-либо поручений для ее мужа, который завтра в полдень уедет в Экс-ла-Шапель и вернется через три дня.
Меня не нужно было обо всем предупреждать заранее. Быстрый взгляд, который она мне послала, дал мне понять, что мне надо воспользоваться этим сообщением. Какая радость! Еще большая, потому что я был слегка простужен. Назавтра был праздничный день, и это еще одна радость, потому что мне надо было спрятаться в исповедальне только к вечеру, и благодаря этому я избегал обузы прятаться там весь день.
Я направился туда в четыре часа и втиснулся в более темную из исповедален, положившись на Бога. В пять часов ключарь, сделав привычный круг по церкви, вышел и закрыл дверь. Я вышел из укрытия и присел на лавку, где, видя ее тень за решеткой, уверился, что она меня видит. Она закрыла ставню.
Четверть часа спустя я подошел к двери, толкнул ее, и она открылась. Я прикрыл ее и на ощупь уселся на последних ступеньках лестницы. Я провел там пять часов, которые в предвкушении счастья не показались бы мне трудными, если бы не крысы, которые бегали туда и сюда вблизи меня, терзая мне душу. Проклятые животные, которых я никогда не мог терпеть, ни вынести омерзение, которое они у меня вызывают. Они отвратительны и зловонны.
Все поднялись из-за стола, удивленные, что провели за ним три часа. После обычных комплиментов прекрасная компания укатила в Кёльн, чтобы хватило времени еще на посещение комедии. Очень довольный этим прекрасным праздником, я оставил бравому распорядителю двадцать дукатов для слуг. Он попросил меня отметить в письме графу Верита свое полное удовлетворение.
Я прибыл в Кёльн вовремя, чтобы пойти на малую пьесу. Не имея кареты, я прибыл в театр на портшезе. Увидев м-м Х вместе с г-ном де Ластик, я направился в ее ложу. Она сказала мне с грустным видом, что генерал почувствовал себя столь больным, что вынужден был пойти прилечь. Немного погодя г-н де Ластик оставил нас одних, и прелестная женщина выдала мне комплименты, стоящие сотни моих завтраков. Она сказала, что генерал выпил слишком много токайского, и что он грубая свинья, что он сказал, что знает, кто я такой, и что мне не подобает вести себя подобно принцу. Она ответила ему, что наоборот, я принял их как принцев и как их скромный слуга. Он был возмущен ее словами.
– Пошлите его ко всем чертям, – сказал я ей.
– Слишком поздно. Женщина, которую вы не знаете, завладела им; я утешусь, но это не доставляет мне удовольствия.
– Мне радостно это слышать. Почему я не высокий принц! А между тем я должен вам сказать, что я гораздо сильнее болен, чем Кеттлер. Я нахожусь в крайних обстоятельствах.
– Полагаю, вы шутите.
– Я говорю серьезно. Поцелуи на балу у Выборщика дали мне возможность вкусить нектар необычайной сладости. Если вы не сжалитесь надо мной, я уеду отсюда несчастным до конца своих дней.
– Отложите ваш отъезд. Оставьте Штутгарт. Я думаю о вас, и это правда. Поверьте, я не хочу вас обманывать.
– Например, сегодня вечером, если бы у вас не было коляски генерала, и если бы у меня была своя, я смог бы сопроводить вас к вам домой со всем почтением.
– Да что вы! У вас нет своей?
– Нет.
– В таком случае, это я должна вас отвезти; но, дорогой друг, это должно произойти очень естественным образом. Вы проводите меня до кареты, я спрошу у вас, где ваша, и, услышав, что у вас нет кареты, я предложу вам сесть в мою, и высажу вас у вашей гостиницы. Это займет лишь пару минут, но, в ожидании лучшего, это уже кое-что.
Я ответил ей лишь глазами, потому что радость окутала мне душу. После комедии подходит лакей и говорит, что ее карета у дверей. Мы выходим, она задает мне оговоренный вопрос и, услышав, что у меня нет кареты, она поступает еще лучше: она говорит, что направляется в отель генерала узнать, как он себя чувствует, и что если я хочу, она сможет затем проводить меня в мою гостиницу.
Божественный ум! Нужно было пересечь два раза старый город, плохо мощеный. Карета была закрытая. Мы делали, что могли, но это было почти ничего. Луна светила прямо на нас, и негодяй – кучер поворачивал время от времени голову. Мне было ужасно. Часовой сказал кучеру, что генерал не доступен для посещения. Она приказала ему ехать в мою гостиницу, и теперь луна была сзади нас. Нам было чуть лучше, но все же плохо, совсем плохо. Мерзавец в жизни не ездил столь быстро. Выходя, однако, я дал ему дукат. Я отправился спать, влюбленный до смерти, и в какой-то мере более несчастный, чем накануне. М-м Х поведала мне, что, доставляя мне счастье, сама была счастлива. Я решил оставаться в Кёльне, пока генерал не уедет.
На следующий день в полдень я направился в отель генерала, чтобы оставить расписку в книге посетителей, но он принимал. Меня пригласили войти. М-м Х была там. Я поздравил генерала с тем, что он в порядке, и он ответил лишь холодным кивком. Вокруг было много офицеров, так что четыре минуты спустя я откланялся. Он сохранял домашний режим еще три дня, и м-м Х не появлялась в театре.
В последний день карнавала генерал пригласил множество народа к себе на ужин, и после ужина должны были танцевать. Я захожу, как обычно, поздороваться в ложу к м-м Х, остаюсь там наедине с ней, она спрашивает, пригласил ли меня генерал на ужин, я говорю, что нет, и она говорит непререкаемым и возмущенным тоном, что я, тем не менее, должен туда пойти.
– Вы и не думайте об этом, – говорю я нежно, – я повинуюсь вам во всем, кроме этого случая.
– Я знаю все, что вы можете мне сказать. Надо туда пойти. Я буду чувствовать себя опозоренной, если вас не будет на этом ужине. Вы не сможете дать мне большего свидетельства вашей любви и вашего уважения.
– Остановитесь. Я пойду. Но скажите, понимаете ли вы, что этим роковым приказом вы подвергаете мою жизнь опасности, потому что я не тот человек, который способен промолчать, если этот грубиян меня оскорбит.
– Я все это понимаю; я люблю вашу честь по меньшей мере так же, как вашу жизнь. Ничего с вами не будет, я отвечаю за это, я беру все на себя. Вы должны туда идти. Пообещайте мне это, потому что я так решила. Если вы не хотите туда идти, я тем более не пойду, но после этого мы больше не увидимся.
– Я пойду. Достаточно об этом.
В этот момент вошел г-н де Кастри, и я вышел. Предвидя самое свое жестокое публичное оскорбление, которое должно иметь фатальные последствия, я провел инфернальные два часа. Я настроился однако вести себя разумно. Я направился к генералу сразу после комедии; было только семь или восемь человек. Я подошел к канониссе, любящей итальянскую поэзию, и наша беседа была интересной; через полчаса зала заполнилась; последними пришли м-м Х с генералом. Будучи занятым беседой с дамой, я, естественно, не повернулся, и, соответственно, он меня не заметил. М-м Х, очень оживленная, не дала ему времени оглядеть собрание. Продолжение следовало. Четверть часа спустя канониссе объявили, что стол накрыт, она приняла мою руку, и вот, я за столом, сижу рядом с ней, и, секунду спустя, все места заняты. Однако иностранец, который, должно быть, был приглашен, остался без места. Генерал кричит, что этого не может быть, и, подождав, пока поставят еще один куверт, оглядывает гостей и, поскольку я на него не смотрю, называет меня и говорит:
– Месье, я вас не приглашал.
Я отвечаю, тоном весьма уважительным, но твердым:
– Это правда, мой генерал, но, будучи уверен, что это произошло только вследствие забывчивости, я, тем не менее, явился засвидетельствовать свое уважение Вашему Превосходительству.
После этого ответа я продолжаю свою беседу с канониссой, ни на кого не глядя. Разговор за столом продолжился лишь после трех-четырех минут всеобщего молчания. Канонисса высказала приятную мысль, которую я поддержал, переадресовав мимоходом другим сотрапезникам, и стол внезапно оживился.
Генерал обиделся, что меня не устраивало. Мне хотелось его развеселить, и я улучил момент. Этот момент наступил при второй перемене. Г-н де Кастри произнес похвальное слово Дофину, говорили о его брате графе де Люсак, говорили о другом – герцоге Курляндском, перешли к Бирону, прошлому герцогу, который был теперь в Сибири, и его личных качествах. Один из собеседников сказал, что все его достоинство заключалось в умении нравиться императрице Анне; я извинился:
– Его большое достоинство состояло в том, что он верно служил последнему герцогу Кеттлеру, который без храбрости этого человека, сегодня пребывающего в несчастье, потерял бы все свое войско в войне, что теперь закончилась. Это сам герцог Кеттлер, геройским жестом, достойным войти в историю, направил его к петербургскому двору, и сам Бирон никогда не добивался герцогства. Он хотел получить только графство Вартенбергское, благодаря правам младшей ветви дома Кеттлер, правящей ныне, вопреки капризу царицы, которая непременно хотела сделать своего фаворита герцогом.
– Я не знал никогда человека, лучше образованного, – сказал генерал, глядя на меня, – и, не будь этого каприза, я правил бы сегодня.
После этого скромного объяснения он разразился смехом и направил мне бутылку рейнского, с надписью на этикетке 1748. С этого момента он говорил только со мной, и мы поднялись из-за стола добрыми друзьями. Танцевали всю ночь; канонисса была моей дамой. Я танцевал с м-м Х только один менуэт. К концу бала он спросил меня, уезжаю ли я, что можно было легко понять как вопрос «когда?». Я ответил, что до отъезда еще с ним увижусь.
Я отправился спать, очень довольный тем, что дал м-м Х доказательство своей любви, сильнее которого трудно себе вообразить, но возблагодарил судьбу, что вмешательство моего доброго гения подсказало мне, как образумить этого грубияна, потому что Бог знает, что бы я сделал, если бы он осмелился сказать мне выйти из-за стола. В первый же раз, как мы с ней увиделись, она сказала, что содрогнулась, когда услышала, как он мне сказал, что не приглашал меня.
– Очевидно, – сказала она, – что он сказал бы вам далее, если бы ваш гордый ответ не заставил его окаменеть, и во всяком случае мое решение было уже принято.
– Какое решение?
– Я бы поднялась, и мы вышли бы вместе; г-н де Кастри мне сказал, что он сделал бы то же самое, и думаю, что все дамы, которых вы приглашали в Брюль, последовали бы нашему примеру.
– Но дело еще не кончено, потому что я хочу сатисфакцию.
– Я это вижу и прошу вас забыть, что я подвергла вас такому риску; но со своей стороны, я никогда не забуду, что обязана вам своей благодарностью.
Три или четыре дня спустя, узнав, что она больна, я пошел ее повидать в одиннадцать часов утра, чтобы не встретить там генерала. Она приняла меня в комнате своего мужа, который спросил, не пообедаю ли я с ними по-семейному, и я согласился. Я получил от этого обеда удовольствия больше, чем от ужина у генерала два дня спустя после моего приезда в Кёльн. Этот бургомистр был один из тех людей, что всему предпочитают мир в доме, и которого жена должна любить, потому что он не из числа тех, кто говорит: Displiceas aliis, sic ego tutus ero.[9 - Будь неприятен другим, чтобы пребывать в уверенности (Тибулл).]
Перед обедом она показала мне весь дом:
– Вот наша спальня, а вот кабинет, где иногда я сплю одна, когда этого требуют приличия; а вот общая церковь, которую мы можем рассматривать как свою капеллу, потому что эти два обрешеченные окна позволяют нам наблюдать мессу. Мы ходим туда только по праздничным дням, спускаясь по этой маленькой лестнице, внизу которой есть дверь; вот ключ от нее.
Это была вторая суббота поста, мы поели очень вкусно постное, но еда интересовала меня менее всего. Мою влюбленную душу переполняла эта очаровательная женщина, которую, в ее возрасте двадцати пяти лет, обожала вся семья. Это были свояченица и дети – сыновья брата ее мужа, которым он был опекуном. Я рано ушел, чтобы пойти писать Эстер, которую эта новая страсть заставила меня забыть.
На другой день я поспешил послушать мессу в маленькой церкви м-м Х. Это было воскресенье. Я увидел ее выходящей из маленькой двери, расположенной под ее обрешеченными окнами. Она шла в сопровождении своих племянниц, прикрыв красивую голову капюшоном своего плаща. Эта дверь была так хорошо укрыта в приделе церкви, что ее не было видно. Дьявол, который, как известно, искушает в церкви гораздо сильнее, чем в других местах, заронил в этот момент в моей душе прекрасный проект – проводить целые ночи в ее объятиях, поднявшись к ней по этой замечательной лестнице.
Я сообщил ей этот проект на следующий день в комедии. Она засмеялась. Она сказала, что думала об этом, и что она передаст мне записку с инструкцией, спрятанную в газету, в ближайшее время. Мы не смогли поговорить. Дама из Экс-ла-Шапель, которая прибыла провести несколько дней в Кёльне, полностью завладела ею, и ложу заполнили визитеры.
На следующий день она публично дала мне газету, сказав, что не нашла в ней ничего интересного. Вот копия письма, что я нашел внутри:
«Прекрасный проект, подсказанный Амуром, не без трудностей, но сулит надежды. Жена ложится спать в кабинете, только когда муж просит ее согласия на это отделение; при этом такое положение может длиться четыре или пять дней. Она полагает, что основание для такой просьбы может вскоре возникнуть, и давняя привычка приводит к тому, что она не сможет ему отказать. Так что надо ждать. Для влюбленной женщины возникнет необходимость известить любовника. Необходимо будет спрятаться в церкви, и не следует ни секунды рассчитывать на то, чтобы подкупить человека, который ее откроет и затем закроет. Хотя и бедный, он неподкупен по причине глупости. Он проболтается. Единственный способ – спрятаться в церкви и дать себя запереть. Церковь закрывают в полдень в рабочие дни, и вечером – в праздничные, и открывают каждый день на заре. Когда наступит время, дверца будет закрыта таким образом, что любовнику достаточно будет слегка толкнуть ее, чтобы открыть. Кабинет отделен от спальни только перегородкой, очень тонкой, не следует даже чихать, ему не позволено быть простуженным, потому что случится большое несчастье, если он вздумает кашлянуть. Бегство любовника не составит никакого труда. Он спустится в церковь и выйдет, когда увидит, что она открыта. Поскольку церковный сторож не видел его, когда закрывал церковь, следовательно, не увидит и когда откроет».
Это письмо согрело мне душу. Я поцеловал его сотню раз. На следующий день я отправился изучить внутренности этой церкви – это было главным. Там была кафедра, где меня бы не увидели; но лестница находилась в ризнице, всегда закрытой. Я остановился на одной из двух исповедален, у которых были выходящие наружу дверцы. Спрятавшись там, где исповедник держит ноги, я был бы не виден, но пространство там было настолько тесным, что мне показалось, что я там не помещусь, если дверца будет закрыта. Я подождал до полудня и попробовал туда залезть, когда никого в церкви не было. Я там поместился, но настолько плохо, что меня увидел бы любой, кто приблизится. Во всех предприятиях такого рода ничего не получится, если не рассчитывать на фортуну. Решившись положиться на свой опыт, я вернулся к себе, вполне довольный. Я дал отчет моей обожаемой, поместив рассказ об этом в ту же газету и передав ей в комедии, где виделся с ней каждый день.
Восемь-десять дней спустя она спросила у генерала в моем присутствии, нет ли у него каких-либо поручений для ее мужа, который завтра в полдень уедет в Экс-ла-Шапель и вернется через три дня.
Меня не нужно было обо всем предупреждать заранее. Быстрый взгляд, который она мне послала, дал мне понять, что мне надо воспользоваться этим сообщением. Какая радость! Еще большая, потому что я был слегка простужен. Назавтра был праздничный день, и это еще одна радость, потому что мне надо было спрятаться в исповедальне только к вечеру, и благодаря этому я избегал обузы прятаться там весь день.
Я направился туда в четыре часа и втиснулся в более темную из исповедален, положившись на Бога. В пять часов ключарь, сделав привычный круг по церкви, вышел и закрыл дверь. Я вышел из укрытия и присел на лавку, где, видя ее тень за решеткой, уверился, что она меня видит. Она закрыла ставню.
Четверть часа спустя я подошел к двери, толкнул ее, и она открылась. Я прикрыл ее и на ощупь уселся на последних ступеньках лестницы. Я провел там пять часов, которые в предвкушении счастья не показались бы мне трудными, если бы не крысы, которые бегали туда и сюда вблизи меня, терзая мне душу. Проклятые животные, которых я никогда не мог терпеть, ни вынести омерзение, которое они у меня вызывают. Они отвратительны и зловонны.