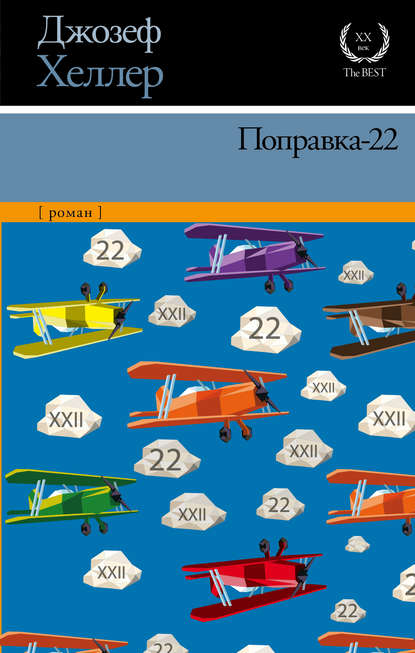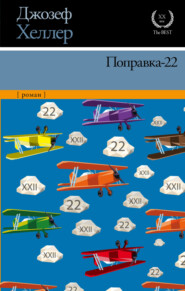По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Поправка-22
Автор
Жанр
Год написания книги
1961
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Даже Клевинджер не мог этого понять, а Клевинджер понимал и знал решительно все. Он знал все обо всем, включая войну, кроме ответа на вопрос, почему Йоссариану уготована смерть, а капралу Снарку – жизнь или почему Йоссариану уготована жизнь, а капралу Снарку – смерть. Это была дьявольская, чудовищная война, и Йоссариан прекрасно жил бы себе да жил без нее – может быть, целую вечность. Далеко не всем его соотечественникам суждено было умереть ради победы, и он вовсе не рвался разделить героическую судьбу погибших. Жить иль не жить – вот был вопрос, и Клевинджер чуть не свихнулся, пытаясь на него ответить. Безвременная смерть Йоссариана не изменила бы ход истории, а значит, для победы над врагом, торжества справедливости и дальнейшего прогресса вовсе не требовалось, чтобы он скоропостижно отправился на тот свет. Смерть, конечно, была необходимостью, но не случайная же смерть, и Йоссариану отчаянно не хотелось стать жертвой случайности. А разве на войне застрахуешься от смертельного случая? И только дети, избавленные от пагубного влияния родителей, да хорошие заработки отчасти примиряли Йоссариана с войной.
Что же до Клевинджера, то это был гений с пламенным сердцем и бледным лицом, вот почему он знал решительно все. Долговязый, нескладный и вечно взволнованный юнец с лихорадочными от жажды знаний глазами, он шел в Гарварде одним из первых учеников и не стал просто первым, причем по всем дисциплинам, потому что беспрерывно подписывал, распространял и опровергал студенческие воззвания, вступал в дискуссионные группы и выступал на конгрессах молодежи, выходил из дискуссионных групп и ходил пикетировать конгрессы молодежи, а остальное время тратил на создание комитетов для защиты уволенных преподавателей. Никто не сомневался, что его ждет блистательная университетская карьера. Короче, он был широко образованным и глубоко безмозглым, о чем знали все, кроме тех, кому это предстояло вскоре узнать.
А еще короче – олух. Он часто напоминал Йоссариану оголтелых интеллектуалов с обоими глазами на одной стороне лица от постоянной беготни по музеям современного искусства. Йоссариан поддавался этой иллюзии – воспринимал Клевинджера однобокозрячим из-за его неспособности посмотреть на что-нибудь хотя бы с двух разных сторон: Клевинджер неизменно видел только одну. В политике он придерживался строго либеральных взглядов и опасался сделать даже крохотный шажок вправо или влево, отвергая любые крайности. Он беспрестанно защищал своих левых друзей от правых врагов и правых друзей от левых врагов, а те в свою очередь никогда его не защищали, считая с единодушным презрением, что он просто олух.
Это был очень серьезный, очень искренний и очень добросовестный олух. После любого кинофильма он непременно пускался в рассуждения об Аристотеле и универсалиях, о сочувствии и сопереживании, о возможностях, правах и обязанностях кино, как вида искусства, в материалистическом обществе. Девушкам, с которыми он ходил в театр, нужно было дождаться первого антракта, чтобы узнать, хороший они смотрят спектакль или плохой, а уж в антракте они мигом начинали все понимать. Его воинствующему идеализму до обмороков претил расизм. Про литературу он знал все, кроме одного – как получать от нее удовольствие.
Став его соучеником по летному училищу в калифорнийском городке Санта-Анна, Йоссариан пытался ему помочь.
– Да не будь же ты олухом, – предостерегал Клевинджера Йоссариан, сидя рядом с ним на трибунах учебного плаца и наблюдая за Шайскопфом, который метался внизу, словно безбородый король Лир.
– Нет уж, я скажу ему, – уперся Клевинджер.
– За что? – взывал к небу Шайскопф.
– Не умничай, балбес, – отечески посоветовал Клевинджеру Йоссариан.
– Ничего-то ты не понимаешь, – упрямо отозвался Клевинджер.
– Зато знаю, что бывает с умниками, – сказал Йоссариан.
Лейтенант Шайскопф рвал на себе волосы и скрипел зубами. Его каучуковые щеки страдальчески содрогались. Ему отравляли жизнь безнравственные курсанты его авиароты, не желавшие как следует маршировать на строевых смотрах, которые происходили у них в училище каждое воскресенье. Курсанты были безнравственные, потому что не желали как следует маршировать и протестовали, когда лейтенант Шайскопф не разрешал им выбирать командиров из своей среды, а назначал их сам.
– Пусть мне кто-нибудь скажет! – умолял Шайскопф. – Если это моя вина, то вы обязательно должны мне сказать!
– Он хочет, чтоб ему сказали, – пуще прежнего взбодрился Клевинджер.
– Он хочет, чтоб никто не умничал, – отрезал Йоссариан.
– Да ты что – не слышишь? – запротестовал Клевинджер.
– Я-то слышу, – сказал Йоссариан. – А ты вот, похоже, не слышал, как он тысячу раз говорил нам, чтоб мы не умничали, если хотим спокойно жить.
– Я никого не накажу, – клялся Шайскопф.
– Он никого не накажет, – сказал Клевинджер.
– Он оторвет тебе уши, – сказал Йоссариан.
– Я никого не накажу, – клялся Шайскопф. – Я буду благодарен вам по гроб жизни, если вы откроете мне правду, клянусь!
– Он будет благодарен, – сказал Клевинджер.
– Он будет ненавидеть тебя по гроб жизни, – сказал Йоссариан. – Пока не загнется.
Лейтенант Шайскопф кончил в свое время курсы по подготовке офицеров запаса и приветствовал войну, потому что она дала ему возможность облачаться ежедневно в офицерскую форму и отрывисто, мужественно вылаивать «Бойцы!» молодым парням, попавшим на восемь недель к нему в лапы перед отправкой на бойню. Это был лишенный чувства юмора, тщеславный лейтенант, который выполнял свои обязанности истово и серьезно, а улыбался, только узнав, что какой-нибудь его соперник из офицеров училища свалился в тяжкой болезни. Война казалась ему особенно волнующей, потому что близорукость и хронический гайморит гарантировали ему до поры до времени службу в тылу. Из всех его особенностей самой лучшей была жена, а из всех особенностей жены самой лучшей была ее подруга Дори Даме, которая соглашалась, когда могла – а могла почти всегда, – и по первой просьбе одалживала свою униформу Женского вспомогательного батальона жене лейтенанта Шайскопфа, снимавшей ее по первой просьбе любого курсанта из роты своего мужа в любую субботу.
Дори Даме, девица в хаки с золотистой головкой, особенно охотно соглашалась на автобусных остановках и в телефонных будках или загородных сараюшках. Она многое испробовала и ничего не отвергала. Она была бесстыдной, ладной, девятнадцатилетней и боевитой. Десятки мужчин теряли из-за нее самоуважение и начинали себя презирать, вспоминая, как она подцепила их, взвалила на себя и бросила. Йоссариан любил ее. Она была очаровательной кошечкой и равнодушно сказала ему, согласившись всего один раз, что он «ничего». Страдая по ней, он с нетерпением смотрел, как жена лейтенанта Шайскопфа снимает для него по субботам ее униформу, и мстил таким образом Шайскопфу за Клевинджера, который страдал от мстительности Шайскопфа.
А жена лейтенанта Шайскопфа мстила мужу за его давнее преступление, которого не могла забыть, хотя не помнила, что и как он преступил. Розовая, томная и начитанная, она упрекала Йоссариана за его пошловатый, по ее мнению, выговор, а с книгой не расставалась даже в постели, когда на ней был только солдатский браслет Дори Даме и Йоссариан. Он слегка утомлялся от нее, но все же любил. Кончая Управленческий колледж, она, по безумию своему, специализировалась на математике и теперь ежемесячно ошибалась, не в силах правильно сосчитать до двадцати восьми.
– А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, – говорила она каждый месяц Йоссариану.
– Совсем опсихела, – отзывался он.
– Да нет, я серьезно, – говорила она.
– Я тоже, – отзывался он.
– А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, – говорила она мужу.
– Это с чего бы это? – ворчливо отзывался он. – На строевом смотру ребенка не сделаешь. А вот строевой смотр у нас будет.
Лейтенант Шайскопф жаждал отличиться на строевом смотру и обвинить курсанта Клевинджера в подстрекательстве к свержению назначенных Шайскопфом командиров, разобрав его поведение на заседании Дисциплинарного трибунала. Клевинджер был возмутитель спокойствия и грамотей. Лейтенант Шайскопф понимал, что за ним нужен глаз да глаз. Сегодня он баламутит училище, а завтра, глядишь, взбаламутит весь мир. Клевинджер был разгильдяй и грамотей, а лейтенант Шайскопф не раз замечал, что такие люди становятся иногда опаснейшими умниками. От них можно ждать чего угодно. Даже курсанты, выбранные по наущению Клевинджера командирами, дали бы против него веские показания. Дело прекрасно слаживалось. Оставалось только найти, в чем его обвинить.
Со строевой подготовкой к нему придраться было невозможно, потому что он воспринимал смотры почти так же серьезно, как сам лейтенант Шайскопф. Каждое воскресенье курсанты сонно выползали после обеда из бараков и строились в шеренги по двенадцать человек. Покряхтывая с похмелья, они спотыкливо маршировали к парадному плацу и, заняв там свое обычное место среди шестидесяти или семидесяти других курсантских рот, неподвижно стояли по часу, а то и по два на послеполуденной жаре, пока в обморок не грохалось достаточно людей, чтобы день мог именоваться полновесно учебным. Сбоку вдоль плаца выстраивались машины «Скорой помощи», из них вылезали санитары с носилками и портативными рациями, а на крышах машин располагались наблюдатели с биноклями. Училищный писарь отмечал количество обмороков, а заправлял первым этапом смотра офицер-медик со склонностью к бухгалтерскому учету. Он считал удары пульсов и проверял подсчеты писаря. Когда машины «Скорой помощи» заполнялись, медик давал знак дирижеру оркестра, тот начинал марш, и строевой смотр быстро завершался. Роты курсантов маршировали вдоль трибун, делали неуклюжий поворот кругом и тащились обратно в казармы.
А когда они проходили мимо трибун, их строевую выучку оценивали офицеры училища во главе с обрюзгшим усастым полковником. Лучшей роте каждого полка вручалось никому не нужное желтое знамя на деревянном древке. Лучшей роте училища вручалось никому не нужное бордовое знамя на очень длинном деревянном древке, и таскать его, из-за длинного древка, было еще муторней, чем желтое, а таскать приходилось всю неделю, до следующего воскресенья, пока знамя не доставалось очередной лучшей роте училища. Йоссариан считал такие награды сущей бессмыслицей. Денег они не приносили, привилегий тоже. Он мог сравнить их только с олимпийскими медалями и трофеями теннисных турниров, которые увенчивали награжденных дурацкой славой лучших мастеров никому не нужного дела.
Да и сами смотры представлялись ему откровенной бессмыслицей. Он их ненавидел. Они были до омерзения военными. Он ненавидел их музыку и топот, с ненавистью смотрел на них и с ненавистью принимал в них участие – поневоле. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты даже и без солдатской строевой муштры на убийственном солнцепеке. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты, потому что война, вопреки его ожиданиям, не желала кончаться к завершению его учебы. А он стал курсантом только в надежде на это. Новобранец, согласившийся стать авиакурсантом, неделями и неделями ждал, пока освободится место в авиароте, потом неделями и неделями учился, а потом еще неделями и неделями проходил оперативную подготовку, прежде чем его отправляли за океан. Поначалу Йоссариан не мог себе представить, что война продлится так долго, ведь Бог, как ему говорили, был на его стороне и направлял жизнь, как ему опять же говорили, по своему произволению, однако учеба Йоссариана подходила к концу, а конца войне не предвиделось.
Между тем лейтенант Шайскопф жаждал отличиться на строевом смотру и просиживал до глубокой ночи за теоретическими изысканиями, а жена пылко дожидалась его в постели, перечитывая на досуге любимые места из книги Крафта-Эбинга о половых извращениях, пока лейтенант Шайскопф пылко изучал строевые уставы. Сначала он манипулировал шоколадными солдатиками, но они быстро истаивали в его горячих ладонях, и он заказал по почте на вымышленное имя комплект пластмассовых ковбоев, чтобы расставлять их ночами в шеренги по двенадцать и прятать на рассвете от посторонних взглядов под замок. Анатомические исследования Леонардо он читал постоянно. А однажды почувствовал необходимость в живой модели и приказал жене пройтись по комнате строевым шагом.
– Голенькой? – с надеждой спросила она.
Лейтенант Шайскопф гневно прикрыл ладонями глаза. Это было тяжкое испытание для лейтенанта Шайскопфа – жена, которая думала только о своих похотливых прихотях, не замечая титанической борьбы мужа за недостижимый идеал, извечно привлекающий доблестных и благородных мужей.
– Почему ты никогда меня не выпорешь? – кокетливо надув губки, спрашивала его она.
– Это с чего бы это? – ворчливо отзывался он. – Мне некогда, понимаешь? У меня строевой смотр на носу.
И ему действительно было некогда. Наступало очередное воскресенье, и у него оставалось только семь дней для подготовки к следующему строевому смотру. Он просто не мог понять, куда уходит время. Три раза подряд его рота занимала на смотре последнее место, и, удрученный дурной славой своих курсантов, которая бросала тень и на него, он обдумывал самые фантастические способы прорваться к победе – вплоть до приколачивания каждой шеренги из двенадцати человек к длинному дубовому брусу, чтобы курсанты надежно держали строй. Но для этого нужно было раздобыть никелевые медицинские вертлюги, без которых приколоченные к брусу курсанты не смогли бы сделать поворот кругом, а лейтенант Шайскопф сомневался, что начальник снабжения или хирурги из госпиталя согласятся выделить ему нужное количество никелевых вертлюгов.
Но однажды, последовав совету Клевинджера, лейтенант Шайскопф разрешил курсантам самим выбрать себе командиров, и через неделю авиарота выиграла желтое знамя. Лейтенант Шайскопф так взбодрился от этого нежданного успеха, что хряпнул супругу по башке древком полученного знамени, когда она попыталась затащить его ночью в постель, чтобы отпраздновать победу демонстрацией презрения к сексуальному пуританству мелких буржуа. В следующее воскресенье авиарота выиграла на смотре бордовое знамя, и лейтенант Шайскопф был вне себя от восторга. А еще через неделю его авиарота вписала небывалую страницу в историю училища, снова выиграв бордовое знамя, второй раз подряд. Теперь лейтенант Шайскопф так уверовал в собственные возможности, что решился на показ своего великого новшества. Он открыл в ночных изысканиях, что человеку на марше не следует свободно размахивать руками, как это было принято раньше, а надобно отводить их вперед и назад от середины бедра не больше чем на три дюйма, то есть практически не размахивать руками вовсе.
Лейтенант Шайскопф готовился к демонстрации упорно и тайно. Все курсанты были приведены к присяге молчания и занимались строевой подготовкой только по ночам. Они выходили на учебный плац и маршировали в непроглядной тьме, поминутно натыкаясь друг на друга, но сохраняя спокойствие, и вскоре научились ходить в ногу, чтобы не наступать друг другу на пятки, и не махать руками, чтобы не выбивать друг другу глаза. Сначала лейтенант Шайскопф думал заказать у своего друга кровельщика никелевые штыри, вбить их каждому курсанту в тазобедренные кости и подвижно прикрепить к ним запястья медной проволокой трехдюймовой длины, но на это не хватило времени – его всегда не хватало, – да и разжиться во время войны добротной медной проволокой было нелегко. Он, впрочем, отказался от этой мысли еще и потому, что скованные таким образом курсанты не могли бы эффектно грохаться в обморок на первой стадии смотра, снижая тем самым у начальства общее впечатление от своей безупречной строевой выучки.
Сидя днем в офицерском клубе, он всю неделю самодовольно ухмылялся. Его ближайшие друзья сгорали от любопытства.
– Хотел бы я знать, что затевает наш Дерьмокумпол, – рассуждал лейтенант Энгл.
– В воскресенье узнаете, – говорил им с таинственной ухмылкой лейтенант Шайскопф. – Да-да, вы у меня узнаете.
Настало воскресенье, и лейтенант Шайскопф явил изумленным коллегам свое новшество с виртуозным мастерством профессионального импресарио. Он спокойно смотрел, ни слова не говоря, как мимо трибун расхлябанно и рутинно маршируют роты его соперников. Он ничего не сказал, даже когда под испуганные возгласы встревоженных коллег мимо трибун прошли первые шеренги его курсантов со свисающими по швам, будто полудохлые змеи, руками. Он молчал, пока обрюзгший усастый полковник не повернул к нему побагровевшее от ярости лицо, и только тогда произнес фразу, которая сделала его бессмертным.
– Как видите, никакой расхлябанности, полковник, – сказал он.
И вручил благоговейно замершим коллегам несколько должным образом заверенных фотокопий малоизвестной инструкции, которая послужила основой для его незабываемого триумфа. Это был звездный час лейтенанта Шайскопфа. Ему безоговорочно присудили первое место и навечно вручили переходящее бордовое знамя, положив конец воскресным строевым смотрам, потому что бордовое знамя так же трудно достать во время войны, как добротную медную проволоку. Лейтенанту Шайскопфу присвоили не сходя с места звание старшего лейтенанта, и с тех пор он стремительно пошел в гору. Мало кто из коллег сомневался теперь в его воинской гениальности.
Что же до Клевинджера, то это был гений с пламенным сердцем и бледным лицом, вот почему он знал решительно все. Долговязый, нескладный и вечно взволнованный юнец с лихорадочными от жажды знаний глазами, он шел в Гарварде одним из первых учеников и не стал просто первым, причем по всем дисциплинам, потому что беспрерывно подписывал, распространял и опровергал студенческие воззвания, вступал в дискуссионные группы и выступал на конгрессах молодежи, выходил из дискуссионных групп и ходил пикетировать конгрессы молодежи, а остальное время тратил на создание комитетов для защиты уволенных преподавателей. Никто не сомневался, что его ждет блистательная университетская карьера. Короче, он был широко образованным и глубоко безмозглым, о чем знали все, кроме тех, кому это предстояло вскоре узнать.
А еще короче – олух. Он часто напоминал Йоссариану оголтелых интеллектуалов с обоими глазами на одной стороне лица от постоянной беготни по музеям современного искусства. Йоссариан поддавался этой иллюзии – воспринимал Клевинджера однобокозрячим из-за его неспособности посмотреть на что-нибудь хотя бы с двух разных сторон: Клевинджер неизменно видел только одну. В политике он придерживался строго либеральных взглядов и опасался сделать даже крохотный шажок вправо или влево, отвергая любые крайности. Он беспрестанно защищал своих левых друзей от правых врагов и правых друзей от левых врагов, а те в свою очередь никогда его не защищали, считая с единодушным презрением, что он просто олух.
Это был очень серьезный, очень искренний и очень добросовестный олух. После любого кинофильма он непременно пускался в рассуждения об Аристотеле и универсалиях, о сочувствии и сопереживании, о возможностях, правах и обязанностях кино, как вида искусства, в материалистическом обществе. Девушкам, с которыми он ходил в театр, нужно было дождаться первого антракта, чтобы узнать, хороший они смотрят спектакль или плохой, а уж в антракте они мигом начинали все понимать. Его воинствующему идеализму до обмороков претил расизм. Про литературу он знал все, кроме одного – как получать от нее удовольствие.
Став его соучеником по летному училищу в калифорнийском городке Санта-Анна, Йоссариан пытался ему помочь.
– Да не будь же ты олухом, – предостерегал Клевинджера Йоссариан, сидя рядом с ним на трибунах учебного плаца и наблюдая за Шайскопфом, который метался внизу, словно безбородый король Лир.
– Нет уж, я скажу ему, – уперся Клевинджер.
– За что? – взывал к небу Шайскопф.
– Не умничай, балбес, – отечески посоветовал Клевинджеру Йоссариан.
– Ничего-то ты не понимаешь, – упрямо отозвался Клевинджер.
– Зато знаю, что бывает с умниками, – сказал Йоссариан.
Лейтенант Шайскопф рвал на себе волосы и скрипел зубами. Его каучуковые щеки страдальчески содрогались. Ему отравляли жизнь безнравственные курсанты его авиароты, не желавшие как следует маршировать на строевых смотрах, которые происходили у них в училище каждое воскресенье. Курсанты были безнравственные, потому что не желали как следует маршировать и протестовали, когда лейтенант Шайскопф не разрешал им выбирать командиров из своей среды, а назначал их сам.
– Пусть мне кто-нибудь скажет! – умолял Шайскопф. – Если это моя вина, то вы обязательно должны мне сказать!
– Он хочет, чтоб ему сказали, – пуще прежнего взбодрился Клевинджер.
– Он хочет, чтоб никто не умничал, – отрезал Йоссариан.
– Да ты что – не слышишь? – запротестовал Клевинджер.
– Я-то слышу, – сказал Йоссариан. – А ты вот, похоже, не слышал, как он тысячу раз говорил нам, чтоб мы не умничали, если хотим спокойно жить.
– Я никого не накажу, – клялся Шайскопф.
– Он никого не накажет, – сказал Клевинджер.
– Он оторвет тебе уши, – сказал Йоссариан.
– Я никого не накажу, – клялся Шайскопф. – Я буду благодарен вам по гроб жизни, если вы откроете мне правду, клянусь!
– Он будет благодарен, – сказал Клевинджер.
– Он будет ненавидеть тебя по гроб жизни, – сказал Йоссариан. – Пока не загнется.
Лейтенант Шайскопф кончил в свое время курсы по подготовке офицеров запаса и приветствовал войну, потому что она дала ему возможность облачаться ежедневно в офицерскую форму и отрывисто, мужественно вылаивать «Бойцы!» молодым парням, попавшим на восемь недель к нему в лапы перед отправкой на бойню. Это был лишенный чувства юмора, тщеславный лейтенант, который выполнял свои обязанности истово и серьезно, а улыбался, только узнав, что какой-нибудь его соперник из офицеров училища свалился в тяжкой болезни. Война казалась ему особенно волнующей, потому что близорукость и хронический гайморит гарантировали ему до поры до времени службу в тылу. Из всех его особенностей самой лучшей была жена, а из всех особенностей жены самой лучшей была ее подруга Дори Даме, которая соглашалась, когда могла – а могла почти всегда, – и по первой просьбе одалживала свою униформу Женского вспомогательного батальона жене лейтенанта Шайскопфа, снимавшей ее по первой просьбе любого курсанта из роты своего мужа в любую субботу.
Дори Даме, девица в хаки с золотистой головкой, особенно охотно соглашалась на автобусных остановках и в телефонных будках или загородных сараюшках. Она многое испробовала и ничего не отвергала. Она была бесстыдной, ладной, девятнадцатилетней и боевитой. Десятки мужчин теряли из-за нее самоуважение и начинали себя презирать, вспоминая, как она подцепила их, взвалила на себя и бросила. Йоссариан любил ее. Она была очаровательной кошечкой и равнодушно сказала ему, согласившись всего один раз, что он «ничего». Страдая по ней, он с нетерпением смотрел, как жена лейтенанта Шайскопфа снимает для него по субботам ее униформу, и мстил таким образом Шайскопфу за Клевинджера, который страдал от мстительности Шайскопфа.
А жена лейтенанта Шайскопфа мстила мужу за его давнее преступление, которого не могла забыть, хотя не помнила, что и как он преступил. Розовая, томная и начитанная, она упрекала Йоссариана за его пошловатый, по ее мнению, выговор, а с книгой не расставалась даже в постели, когда на ней был только солдатский браслет Дори Даме и Йоссариан. Он слегка утомлялся от нее, но все же любил. Кончая Управленческий колледж, она, по безумию своему, специализировалась на математике и теперь ежемесячно ошибалась, не в силах правильно сосчитать до двадцати восьми.
– А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, – говорила она каждый месяц Йоссариану.
– Совсем опсихела, – отзывался он.
– Да нет, я серьезно, – говорила она.
– Я тоже, – отзывался он.
– А знаешь, милый, у нас будет ребеночек, – говорила она мужу.
– Это с чего бы это? – ворчливо отзывался он. – На строевом смотру ребенка не сделаешь. А вот строевой смотр у нас будет.
Лейтенант Шайскопф жаждал отличиться на строевом смотру и обвинить курсанта Клевинджера в подстрекательстве к свержению назначенных Шайскопфом командиров, разобрав его поведение на заседании Дисциплинарного трибунала. Клевинджер был возмутитель спокойствия и грамотей. Лейтенант Шайскопф понимал, что за ним нужен глаз да глаз. Сегодня он баламутит училище, а завтра, глядишь, взбаламутит весь мир. Клевинджер был разгильдяй и грамотей, а лейтенант Шайскопф не раз замечал, что такие люди становятся иногда опаснейшими умниками. От них можно ждать чего угодно. Даже курсанты, выбранные по наущению Клевинджера командирами, дали бы против него веские показания. Дело прекрасно слаживалось. Оставалось только найти, в чем его обвинить.
Со строевой подготовкой к нему придраться было невозможно, потому что он воспринимал смотры почти так же серьезно, как сам лейтенант Шайскопф. Каждое воскресенье курсанты сонно выползали после обеда из бараков и строились в шеренги по двенадцать человек. Покряхтывая с похмелья, они спотыкливо маршировали к парадному плацу и, заняв там свое обычное место среди шестидесяти или семидесяти других курсантских рот, неподвижно стояли по часу, а то и по два на послеполуденной жаре, пока в обморок не грохалось достаточно людей, чтобы день мог именоваться полновесно учебным. Сбоку вдоль плаца выстраивались машины «Скорой помощи», из них вылезали санитары с носилками и портативными рациями, а на крышах машин располагались наблюдатели с биноклями. Училищный писарь отмечал количество обмороков, а заправлял первым этапом смотра офицер-медик со склонностью к бухгалтерскому учету. Он считал удары пульсов и проверял подсчеты писаря. Когда машины «Скорой помощи» заполнялись, медик давал знак дирижеру оркестра, тот начинал марш, и строевой смотр быстро завершался. Роты курсантов маршировали вдоль трибун, делали неуклюжий поворот кругом и тащились обратно в казармы.
А когда они проходили мимо трибун, их строевую выучку оценивали офицеры училища во главе с обрюзгшим усастым полковником. Лучшей роте каждого полка вручалось никому не нужное желтое знамя на деревянном древке. Лучшей роте училища вручалось никому не нужное бордовое знамя на очень длинном деревянном древке, и таскать его, из-за длинного древка, было еще муторней, чем желтое, а таскать приходилось всю неделю, до следующего воскресенья, пока знамя не доставалось очередной лучшей роте училища. Йоссариан считал такие награды сущей бессмыслицей. Денег они не приносили, привилегий тоже. Он мог сравнить их только с олимпийскими медалями и трофеями теннисных турниров, которые увенчивали награжденных дурацкой славой лучших мастеров никому не нужного дела.
Да и сами смотры представлялись ему откровенной бессмыслицей. Он их ненавидел. Они были до омерзения военными. Он ненавидел их музыку и топот, с ненавистью смотрел на них и с ненавистью принимал в них участие – поневоле. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты даже и без солдатской строевой муштры на убийственном солнцепеке. Ему была ненавистна судьба курсанта авиароты, потому что война, вопреки его ожиданиям, не желала кончаться к завершению его учебы. А он стал курсантом только в надежде на это. Новобранец, согласившийся стать авиакурсантом, неделями и неделями ждал, пока освободится место в авиароте, потом неделями и неделями учился, а потом еще неделями и неделями проходил оперативную подготовку, прежде чем его отправляли за океан. Поначалу Йоссариан не мог себе представить, что война продлится так долго, ведь Бог, как ему говорили, был на его стороне и направлял жизнь, как ему опять же говорили, по своему произволению, однако учеба Йоссариана подходила к концу, а конца войне не предвиделось.
Между тем лейтенант Шайскопф жаждал отличиться на строевом смотру и просиживал до глубокой ночи за теоретическими изысканиями, а жена пылко дожидалась его в постели, перечитывая на досуге любимые места из книги Крафта-Эбинга о половых извращениях, пока лейтенант Шайскопф пылко изучал строевые уставы. Сначала он манипулировал шоколадными солдатиками, но они быстро истаивали в его горячих ладонях, и он заказал по почте на вымышленное имя комплект пластмассовых ковбоев, чтобы расставлять их ночами в шеренги по двенадцать и прятать на рассвете от посторонних взглядов под замок. Анатомические исследования Леонардо он читал постоянно. А однажды почувствовал необходимость в живой модели и приказал жене пройтись по комнате строевым шагом.
– Голенькой? – с надеждой спросила она.
Лейтенант Шайскопф гневно прикрыл ладонями глаза. Это было тяжкое испытание для лейтенанта Шайскопфа – жена, которая думала только о своих похотливых прихотях, не замечая титанической борьбы мужа за недостижимый идеал, извечно привлекающий доблестных и благородных мужей.
– Почему ты никогда меня не выпорешь? – кокетливо надув губки, спрашивала его она.
– Это с чего бы это? – ворчливо отзывался он. – Мне некогда, понимаешь? У меня строевой смотр на носу.
И ему действительно было некогда. Наступало очередное воскресенье, и у него оставалось только семь дней для подготовки к следующему строевому смотру. Он просто не мог понять, куда уходит время. Три раза подряд его рота занимала на смотре последнее место, и, удрученный дурной славой своих курсантов, которая бросала тень и на него, он обдумывал самые фантастические способы прорваться к победе – вплоть до приколачивания каждой шеренги из двенадцати человек к длинному дубовому брусу, чтобы курсанты надежно держали строй. Но для этого нужно было раздобыть никелевые медицинские вертлюги, без которых приколоченные к брусу курсанты не смогли бы сделать поворот кругом, а лейтенант Шайскопф сомневался, что начальник снабжения или хирурги из госпиталя согласятся выделить ему нужное количество никелевых вертлюгов.
Но однажды, последовав совету Клевинджера, лейтенант Шайскопф разрешил курсантам самим выбрать себе командиров, и через неделю авиарота выиграла желтое знамя. Лейтенант Шайскопф так взбодрился от этого нежданного успеха, что хряпнул супругу по башке древком полученного знамени, когда она попыталась затащить его ночью в постель, чтобы отпраздновать победу демонстрацией презрения к сексуальному пуританству мелких буржуа. В следующее воскресенье авиарота выиграла на смотре бордовое знамя, и лейтенант Шайскопф был вне себя от восторга. А еще через неделю его авиарота вписала небывалую страницу в историю училища, снова выиграв бордовое знамя, второй раз подряд. Теперь лейтенант Шайскопф так уверовал в собственные возможности, что решился на показ своего великого новшества. Он открыл в ночных изысканиях, что человеку на марше не следует свободно размахивать руками, как это было принято раньше, а надобно отводить их вперед и назад от середины бедра не больше чем на три дюйма, то есть практически не размахивать руками вовсе.
Лейтенант Шайскопф готовился к демонстрации упорно и тайно. Все курсанты были приведены к присяге молчания и занимались строевой подготовкой только по ночам. Они выходили на учебный плац и маршировали в непроглядной тьме, поминутно натыкаясь друг на друга, но сохраняя спокойствие, и вскоре научились ходить в ногу, чтобы не наступать друг другу на пятки, и не махать руками, чтобы не выбивать друг другу глаза. Сначала лейтенант Шайскопф думал заказать у своего друга кровельщика никелевые штыри, вбить их каждому курсанту в тазобедренные кости и подвижно прикрепить к ним запястья медной проволокой трехдюймовой длины, но на это не хватило времени – его всегда не хватало, – да и разжиться во время войны добротной медной проволокой было нелегко. Он, впрочем, отказался от этой мысли еще и потому, что скованные таким образом курсанты не могли бы эффектно грохаться в обморок на первой стадии смотра, снижая тем самым у начальства общее впечатление от своей безупречной строевой выучки.
Сидя днем в офицерском клубе, он всю неделю самодовольно ухмылялся. Его ближайшие друзья сгорали от любопытства.
– Хотел бы я знать, что затевает наш Дерьмокумпол, – рассуждал лейтенант Энгл.
– В воскресенье узнаете, – говорил им с таинственной ухмылкой лейтенант Шайскопф. – Да-да, вы у меня узнаете.
Настало воскресенье, и лейтенант Шайскопф явил изумленным коллегам свое новшество с виртуозным мастерством профессионального импресарио. Он спокойно смотрел, ни слова не говоря, как мимо трибун расхлябанно и рутинно маршируют роты его соперников. Он ничего не сказал, даже когда под испуганные возгласы встревоженных коллег мимо трибун прошли первые шеренги его курсантов со свисающими по швам, будто полудохлые змеи, руками. Он молчал, пока обрюзгший усастый полковник не повернул к нему побагровевшее от ярости лицо, и только тогда произнес фразу, которая сделала его бессмертным.
– Как видите, никакой расхлябанности, полковник, – сказал он.
И вручил благоговейно замершим коллегам несколько должным образом заверенных фотокопий малоизвестной инструкции, которая послужила основой для его незабываемого триумфа. Это был звездный час лейтенанта Шайскопфа. Ему безоговорочно присудили первое место и навечно вручили переходящее бордовое знамя, положив конец воскресным строевым смотрам, потому что бордовое знамя так же трудно достать во время войны, как добротную медную проволоку. Лейтенанту Шайскопфу присвоили не сходя с места звание старшего лейтенанта, и с тех пор он стремительно пошел в гору. Мало кто из коллег сомневался теперь в его воинской гениальности.