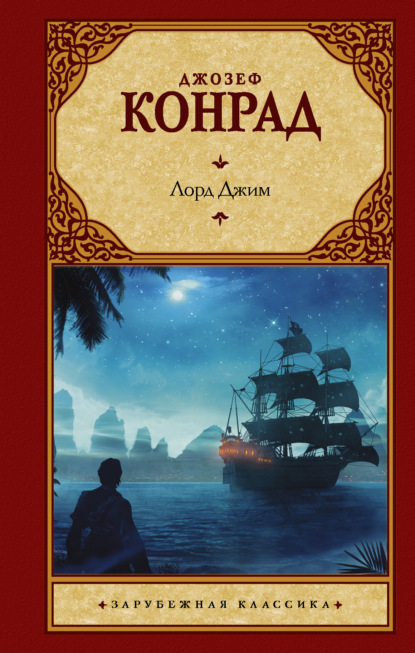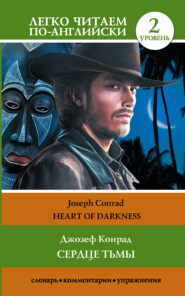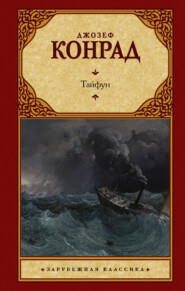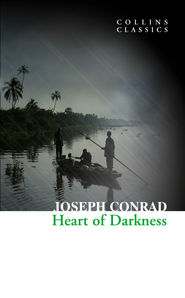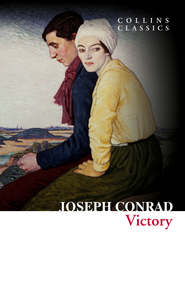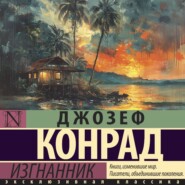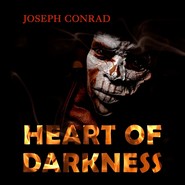По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лорд Джим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Джим стал говорить не по существу, и его болезненно прервали следующим точно поставленным вопросом. Он смутился и внезапно почувствовал усталость. Он ведь как раз о том и собирался рассказать, о чем его сейчас спросили. Собирался рассказать, а теперь, после этого грубого вмешательства, ему оставалось только произнести «да» или «нет».
– Да, я это сделал, – ответил он коротко и правдиво.
Мрачные молодые глаза на красивом лице, статная фигура, расправленные плечи – он прямо стоял на своем огороженном месте, а душа внутри извивалась. Его вынудили ответить на новый вопрос – такой же точный и бесполезный, как и предыдущий. Потом он опять выжидающе замолчал. Во рту сначала почувствовалась пресная сухость, как от пыли, потом соленая горечь, как от морской воды. Отерев влажный лоб, Джим облизнул губы. По спине пробежали мурашки. Грузный заседатель опустил веки и продолжил беззвучно барабанить по бумаге, безучастный и скорбный. Глаза его коллеги, глядевшие поверх обожженных солнцем сцепленных рук, казалось, излучали добродушие. Судья качнулся вперед, так что бледное лицо нависло над цветами, а потом переместил вес своего тела на один из подлокотников и подпер висок рукой. Панки создавали ветер, овевавший и темнолицых местных жителей в объемных складчатых одеждах, и европейцев, которые, держа на коленях тропические шлемы, потели в тиковых костюмах, облепленные ими как второй кожей. Босоногие служители проворно скользили туда-сюда вдоль стен – бесшумные, как привидения, и настороженные, как охотничьи собаки. Длинные белые одеяния были застегнуты на все пуговицы и перевязаны красными поясами, которые перекликались с красными тюрбанами.
Взгляд Джима, блуждавший по залу во время пауз между ответами, остановился на белом мужчине, сидевшем отдельно от остальных. Лицо выглядело изношенным и угрюмым, но спокойные ясные глаза смотрели открыто и с интересом. Ответив на новый вопрос, Джим чуть было не вскричал: «Да какой от этого прок? Какой прок?!» Он слегка топнул ногой, прикусил губу и посмотрел, отвернувшись от судьи, поверх голов. Он снова встретил взгляд того белого мужчины, который не смотрел на него завороженно, как остальные: в этих глазах ощущались и ум и воля. Между вопросами Джим до того забывался, что позволял себе размышлять. «Этот парень, – думал он, – глядит на меня так, будто видит кого-то за моим плечом». Они уже где-то встречались: может быть, на улице, – но Джим был уверен, что никогда не говорил с тем человеком. В течение многих дней он вообще ни с кем не говорил. Только вел беззвучный, бессвязный и бесконечный разговор с самим собой, как узник, запертый в одиночной камере, или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас Джим отвечал на вопросы, имевшие цель, но не имевшие смысла, и не знал, заговорит ли еще хоть раз до конца своей жизни. Слыша собственные правдивые слова, он утверждался в своем и без того устойчивом мнении: от дара речи ему больше не будет пользы. И тот мужчина, видимо, понимал безнадежную тяжесть его положения. Джим посмотрел в белое лицо, бросившееся ему в глаза, и решительно отвернулся, как после окончательного расставания.
Впоследствии в далеких уголках мира у Марлоу много раз возникало желание вспомнить Джима – вспомнить обстоятельно, в подробностях и вслух, – например, после ужина, сидя на веранде, укутанной в неподвижную листву и коронованную цветами, среди глубокого сумрака с огненными крапинами тлеющих сигар. В каждом плетеном кресле – молчаливый слушатель. Иногда какой-нибудь из красных огоньков приходит в движение: удлиняясь, он освещает пальцы ленивой руки и часть лица, умиротворенного отдыхом. Или же в алой вспышке появляются задумчивые глаза и безмятежный лоб. При первом же слове тело Марлоу, растянувшееся в кресле, застывает, как будто крылатый дух преодолел толщу времени и, заставляя губы шевелиться, говорит из прошлого.
Глава 5
– Да, я был на суде, – начинает он. – До сих пор не могу понять, зачем я туда пошел. Я охотно соглашусь верить в ангела-хранителя, который есть у каждого из нас, если вы, ребята, не станете спорить с тем, что все мы также имеем приятелей среди чертей. Я ни в чем не хочу чувствовать себя особенным, а между тем точно знаю: он, то есть черт, у меня есть. Я его, конечно, не видел, зато располагаю массой косвенных доказательств. Он наверняка существует. По натуре он злобен и вечно подстраивает для меня всякое такое. «Какое такое?» – спросите вы. Я имею в виду мое присутствие на разбирательстве и эту историю с желтой собакой… Вы ведь не думаете, будто это обычное дело, чтобы паршивой дворняге позволяли путаться у людей под ногами на крыльце магистратского суда? Так вот… Бес подсовывает мне что-то такое, что необъяснимым и поистине дьявольским образом притягивает людей со слабыми местами, с излишне твердыми местами, со скрытыми позорными клеймами – боже мой! – причем не только притягивает! При виде меня у них развязываются языки для душераздирающих признаний. Как будто мне собственных тайн мало, как будто мне самому не из-за чего терзаться до конца моих дней! Господи, помоги! И за что такая милость, хотел бы я знать? Да будет вам известно, забот у меня не меньше, чем у всякого другого, и память не свободнее, чем у любого странника в этой долине, так что, как видите, я не очень-то гожусь в исповедники. Тогда зачем мне все эти признания? Ума не приложу. Разве только затем, чтобы пересказывать их после ужина? Чарли, дружище, ты так славно нас угостил, что теперь для этих господ даже игра в роббер – слишком бурное развлечение. Они развалились в твоих удобных креслах и думают про себя: «Чем утруждаться, пускай лучше Марлоу болтает».
Болтать? Извольте. О мастере Джиме говорить легко. Особенно после нескольких хороших блюд, на высоте двухсот футов над уровнем моря, с ящичком приличных сигар под рукой, таким славным вечером, как этот. Когда воздух свеж и звезды светят, даже лучшим из нас хочется забыть, что мы здесь только гости и нам придется идти дальше, трясясь над каждой минуткой, терзаясь из-за каждого непоправимого шага и надеясь все-таки выкрутиться благополучно (хотя уверенными быть нельзя – при том как мало помощи от тех, кто задевает нас локтями справа и слева). Известное дело, везде находятся люди, для которых вся жизнь будто отдых с сигарой после ужина – легкое, приятное, пустое время, оживляемое разве что какой-нибудь историйкой, которая забудется, прежде чем ты узнаешь ее конец. Конец… Если таковой, конечно, есть.
Я впервые встретился с ним взглядом, когда его допрашивали. Видите ли, на то разбирательство пришли все, кто был хоть как-то связан с морем, потому что история наделала шуму. Все только о ней и кудахтали, с тех пор как пришла загадочная телеграмма из Адена. Загадочная, хотя и не сообщавшая ничего, кроме фактов – таких голых и безобразных, какими они только могут быть. Утром я одевался в своей каюте и через переборку услышал, как мой зороастриец Дубаш болтает о «Патне» с экономом в кладовой за чашкой чая. На суше первый же знакомый, которого я встретил, с ходу говорит мне: «Слыхал ли ты когда-нибудь что-нибудь подобное?» И все, с кем я ни сталкивался, либо цинически ухмылялись, либо имели печальный вид, либо бормотали под нос ругательства – кто как, смотря что за человек. Даже незнакомые люди запросто заговаривали друг с другом об этой странной истории – лишь бы выплеснуть накипевшее. Вот уж была радость для всяких бездельников – любителей выпить за чужой счет! О «Патне» судачили в портовой конторе, у каждого судового маклера, у каждого агента. Судачили белые, местные, полукровки. Это слово не сходило с языка у лодочников, которые сидели, полуголые, на каменных ступенях. Боже правый! Многие негодовали, кто-то шутил, и все не переставая гадали, что же стало с теми людьми. Прошло недели две или даже больше, и стало ясно: разгадка тайны скорее всего окажется печальной. Но вот одним прекрасным утром, стоя в тени у крыльца портовой конторы, я увидел четверых мужчин, идущих мне навстречу по набережной. Сначала я не мог понять, откуда вдруг взялась эта странная компания, а потом мысленно воскликнул: «Так это же они!»
Это точно были они: трое собственной персоной и с ними четвертая персона – до того огромная в поясе, что и ремней-то таких, я думал, не делают. Хорошо позавтракав, они сошли с парохода компании «Дейл лейн», который причалил где-то через час после восхода солнца. Ошибки быть не могло. Шкипера «Патны» я узнал сразу: это был самый толстый человек в благословенных тропиках, обхвативших кольцом нашу старушку землю. К тому же месяцев за девять до того я встречался с ним в Семаранге. Пока его корабль загружали, он бранил тиранические институты Германской империи и целыми днями сосал пиво у Де Джонга. Однажды Де Джонг, который не моргнув глазом брал по гульдену за бутылку, отозвал меня в сторону, сморщил свою физиономию, похожую на кожаный мешочек, и доверительно говорит: «Торговля есть торговля, капитан, но этот человек – меня от него тошнить. Тьфу!»
Итак, я смотрел на него из тени. Он шел торопливо, немного опережая своих товарищей. Солнце лупило прямо по нему, и от этого его тело казалось еще огромнее. Он напомнил мне циркового слоненка, шагающего на задних ногах. Правда, надо признаться, в нем было нечто величественное – при всей нелепости его вида. Он сошел на берег в грязной пижаме, ярко-зеленой с оранжевыми вертикальными полосками, и в поношенных соломенных туфлях на босу ногу. На голове был выброшенный кем-то тропический шлем, очень замусоленный и на два размера меньше, чем нужно (эта штуковина не держалась бы на большой голове, если бы не веревка из манильской пеньки). Неудивительно, что этакому толстяку нелегко было одолжить у кого-нибудь подходящую для себя одежду. Так значит, идет он, не глядя по сторонам, разгоряченный от спешки, проходит мимо меня на расстоянии каких-нибудь трех футов и в простоте душевной лезет по ступеням в контору, чтобы сделать заявление или дать показания – называйте, как хотите.
Насколько мне известно, первым делом капитан «Патны» обратился к главному инспектору по найму. Арчи Рутвел как раз только что пришел и, по собственным его словам, собирался начать свои тяжкие труды с нагоняя старшему клерку. Может, кто-нибудь из вас знает этого услужливого маленького португальца-полукровку с жалкой тонкой шейкой, который вечно норовит выклянчить у капитанов что-нибудь съестное: кусок соленой свинины, мешочек печенья, немного картошки… Однажды, помнится, я отдал ему живую овцу из своих корабельных запасов. Не то чтобы мне было от него что-то нужно – нет, пользы от него ждать не приходилось. Просто я был тронут тем, как наивно он верит в священность своих притязаний. Эта вера была так сильна, что казалась почти прекрасной. Раса вернее, две расы – и климат… Ну да ладно. Зато теперь я знаю, кто мне друг навеки.
Так вот: Рутвел, стало быть, читал своему клерку суровую нотацию – лекцию о нравственности чиновника, – когда услышал позади себя какой-то шум. Обернулся и увидел, как он сам выразился, нечто огромное и круглое. На середину просторной комнаты словно выкатилась громадная бочка из-под сахара, завернутая в полосатый фланелет. Рутвел уверяет, будто от удивления даже не сразу сообразил, что эта бочка живая. Сидел себе и не понимал, как и зачем к нему в контору доставили такой громоздкий предмет. В приемную набилось полным-полно опахальщиков, уборщиков и полицейских служителей, прибежали матросы и рулевой с парового катера – можно было подумать, что начался мятеж. Все вытягивали шеи и чуть не на головы друг другу лезли, силясь заглянуть в контору. Тем временем капитан «Патны» сумел кое-как стянуть привязанный к голове шлем и с легкими поклонами двинулся на Рутвела, который, по собственному его признанию, пришел в такое смятение, что поначалу слушал и не понимал, чего этому видению нужно. Оно говорило хриплым и мрачным, но уверенным голосом. Постепенно Арчи сообразил: речь идет о «Патне». И тогда ему сразу стало не по себе, ведь он малый впечатлительный и его легко расстроить. Собравшись с духом, он крикнул:
– Стойте! Я к таким делам отношения не имею. Вам нужно к начальнику. А я не могу вас слушать. Ступайте к капитану Эллиоту. Туда, туда.
Рутвел вскочил, обежал вокруг своего длинного стола и принялся то тянуть, то толкать посетителя. Капитан был удивлен, но поначалу не сопротивлялся. Только у самого входа в кабинет начальника порта в нем проснулся какой-то животный инстинкт: он уперся и фыркнул, как испуганный вол.
– Погодите! Да что такое? Пустите же!
Арчи без стука распахнул дверь.
– Капитан «Патны», сэр! – прокричал он. – Входите, капитан.
Старик, писавший какую-то бумагу, так резко выпрямился, что с носа свалилось пенсне. Едва завидев начальника, Арчи захлопнул за капитаном дверь и спасся бегством в свой кабинет. Ему на подпись принесли кое-какие документы, но он говорит, будто не мог вспомнить, как пишется его собственная фамилия, – такой шум поднялся за стенкой. Арчи – самый чувствительный инспектор по найму в обоих полушариях. Говорит, он так терзался, будто бросил человека в пасть голодному льву. Крику в самом деле было немало. С улицы я слышал, как бушевал папаша Эллиот, и у меня есть все основания полагать, что эти звуки разнеслись аж по всей эспланаде до оркестрового павильона. За словом старику лезть в карман не приходилось, и голосом природа его не обделила, а на кого кричать, ему было все равно. Думаю, он запросто наорал бы на самого вице-короля. Вот как он мне это объяснял: «Выше, чем я есть, мне уже не взобраться. Пенсию я заработал, да и отложено кое-что. А потому, если им там не нравятся мои представления о долге, я хоть завтра уеду домой. Человек я старый и всю жизнь говорил что думал. Единственное, чего бы я хотел, – это чтобы мои девочки вышли замуж прежде, чем я умру». Замужество дочерей было его пунктиком. Эти три особы, хотя и очень недурные собой, ужасно походили на него. И если утром он вставал, озабоченный их брачными перспективами, то от одного его вида вся контора начинала трепетать, гадая, кого же он сожрет за завтраком. Ренегата Эллиот, однако, не сожрал. Если позволите мне такую фигуру речи, он разгрыз его на крошечные кусочки и, пардон, выплюнул.
Через несколько секунд чудовищная туша спешно покинула здание портовой конторы и застыла на ступенях рядом с тем местом, где стоял я. Капитан «Патны», глубоко задумавшись, стал грызть ноготь большого пальца. Толстые пурпурные щеки тряслись. Наконец он остановил сердитый косой взгляд на мне. Трое его товарищей ждали чуть поодаль. Один был маленький, гадкий, пожелтевший, с подвязанной рукой. Другой (тип с висячими седыми усами и в синей фланелевой куртке) – длинный, сухой как щепка, не толще древка метлы. Он озирался по сторонам с видом какого-то самоуверенного тупоумия. Третий, крепкий широкоплечий молодой парень, стоял к двум другим спиной, держа руки в карманах, и в их оживленном разговоре не участвовал, просто неподвижно глядел на пустую эспланаду. Подъехала какая-то пропыленная развалина, завешанная жалюзи. Возница, закинув правую ступню на левое колено, принялся критически осматривать пальцы. Молодой человек с «Патны» не двинулся с места, даже головой не пошевелил, а все смотрел на залитую солнцем набережную. То был первый раз, когда я увидел Джима. Он казался таким равнодушным и неприступным, какими люди могут казаться только в юности. Чистое лицо, чистые очертания тела, ноги, твердо стоящие на земле… Казалось, никогда еще солнце не освещало более многообещающего юноши. Глядя на него и зная то, что он знал, и даже побольше, я так разозлился, будто поймал его на попытке чего-то добиться от меня ложными посулами. Он не имел права выглядеть таким надежным! «Если даже парни этого сорта настолько сильно сбиваются с пути…» – сказал я себе. Мне захотелось бросить шляпу под ноги и танцевать на ней от горчайшей досады. (Шкипер одного итальянского парусника именно так и поступил на моих глазах со своей фуражкой, когда его болван помощник натворил бед, пытаясь с ходу поставить судно на два якоря на рейде, где было полным-полно других кораблей.) Видя кажущееся спокойствие этого юнца, я спрашивал себя: он просто дурак? Или чурбан? Можно было подумать, он вот-вот начнет насвистывать песенку. Заметьте: поведение двух других типов меня нисколько не беспокоило. Они, так сказать, совершенно вписывались в ту историю, которая уже успела сделаться всеобщим достоянием и скоро должна была стать предметом судебного разбирательства.
– Этот полоумный старый негодяй, который сидит там наверху, обозвал меня собакой, – заявил капитан «Патны».
Не знаю, вспомнил ли он, что мы уже встречались. Скорее всего да. Наши взгляды пересеклись. Он сверкнул глазами, я улыбнулся. «Собака» – это было самое мягкое из всех слов, которые долетели до меня через открытое окно.
– Неужели? – отозвался я, по какой-то непонятной причине не сумев просто промолчать.
Капитан «Патны» кивнул, снова прикусил большой палец, тихо выругался, а потом поднял глаза на меня и с угрюмо-страстным бесстыдством произнес:
– Ха! Тихий океан большой, мой друг! Вы, чертовы англичане, можете делать што угодно. Ничего, я знаю, где для такого человека, как я, есть достаточно места. У меня знакомстфа в Апии, в Гонолулу…
Он задумался, а я без труда вообразил себе, какого рода «знакомстфа» имелись у него в тех местах. Не стану отрицать: я и сам знавал многих людей подобного сорта. Бывают времена, когда человеку приходится делать вид, будто ему одинаково сладко живется в любой компании. У меня тоже была такая пора, но, вспоминая о ней, я не собираюсь корчить кислую мину. Да, я вращался в дурном обществе, и у тех, с кем я тогда вынужденно сталкивался, отсутствовала моральная – как бы это сказать? – моральная позиция. Но как раз поэтому или же по другой не менее серьезной причине иметь с ними дело было в два раза поучительнее и в двадцать раз веселее, чем с теми респектабельными ворами-коммерсантами, с которыми вы, ребята, частенько садитесь за один стол даже безо всякой необходимости, а просто по привычке, по трусости, по доброте душевной и по сотне других столь же глупых и скользких причин.
– Вы, англичане, все подлецы, – продолжал мой патриотичный австралиец – то ли фленсбургский, то ли штеттинский (теперь уж не помню, какому славному маленькому балтийскому порту выпала сомнительная честь стать гнездом столь ценной птицы). – Кто вы такие, штобы кричать? А? Скажите мне! Вы ничем не лучше других людей! А этот старый мошенник, штоп его, разорался! – Большая туша, подпираемая ногами, как колоннами, ходила ходуном с головы до пят. – Фсегда вы так! Шумите из-за фсякой ерунды только потому, что я родился не в вашей проклятой стране. Заберите мою лицензию. Заберите – мне она не нужна. Такой человек, как я, обойдется без какой-то ферфлухте[15 - От нем. verflucht – проклятый.] лицензии. Плефать я на нее хотел! – Он сплюнул. – Лучше получать американиш граштанстфо!
Крича и дымясь, капитан «Патны» переминался с ноги на ногу, будто кто-то невидимый держал его за лодыжки, а он отчаянно пытался высвободиться. Еще чуть-чуть, и от него бы пошел дым – так он разгорячился. В том, что я не уходил, нет ничего загадочного: любопытство, самое банальное из человеческих чувств, заставляло меня ждать, как повлияет эта сцена на молодого человека, который, держа руки в карманах и повернувшись к тротуару спиной, смотрел поверх газонов эспланады на желтый портик отеля «Малабар». Казалось, он просто ждал приятеля, чтобы пойти на прогулку. Вот как он выглядел, и это было возмутительно. Я полагал, что его должны пронзать тревога и смущение, что он должен извиваться, как жук, насаженный на булавку. В то же время я некоторым образом боялся этого – думаю, вы меня понимаете. Нет ничего ужаснее, чем видеть человека изобличенным – не в преступлении, но в более чем преступном малодушии. Для того чтобы не сделаться нарушителем закона, достаточно обыкновенного присутствия духа. Однако никто из нас не защищен от слабости – такой, о которой мы не знаем, но которую, вероятно, подозреваем в себе (подобно тому как в некоторых частях света нам под каждым кустом мерещится ядовитая змея). Эта слабость может таиться в нас вне зависимости от того, наблюдаем ли мы за ней или нет, просим ли Бога защитить нас от нее или относимся к ней с мужественным пренебрежением, подавляем ли мы ее на протяжении десятилетий или пытаемся не замечать. Подталкиваемые ею, мы совершаем то, за что нас могут осыпать оскорблениями, если не повесить. Но дух – он, право же, способен пережить и осуждение, и даже виселицу! А есть вещи на первый взгляд довольно незначительные, однако совершенно пагубные для некоторых людей. Я смотрел на того юнца, и мне нравилась его внешность. Было видно, что он один из нас. В тот момент он как бы представлял в моих глазах всех себе подобных – мужчин и женщин, которых нельзя назвать ловкими или веселыми, но которые строят свое существование на фундаменте честности и обладают притом инстинктом мужества. Это мужество не боевое и не гражданское, это вообще не какая-либо особенная разновидность отваги. То, о чем я говорю, есть всего лишь врожденная способность смотреть искушению прямо в лицо. Она имеет мало общего с интеллектом, зато и позерство ей чуждо. Эта сила сопротивления груба, если хотите, и тем не менее бесценна. Она есть нерассуждающая благословенная стойкость перед внешними и внутренними страхами, перед могуществом природы и соблазнительной порочностью людей, поддерживаемая честностью, неуязвимой ни для фактов, ни для дурных примеров, ни для подстрекательства идей. К черту идеи! Они, эти бродяги, стучатся в наши умы с черного хода и каждый раз уносят с собой частичку нашей сущности, крупицу нашей веры в те простые вещи, за которые мы должны крепко держаться, если хотим достойно жить и легко умереть!
Впрочем, к Джиму все это прямого отношения не имело. И все-таки внешне он был похож на тех, кого мы так охотно берем в попутчики: славных глупых малых, невосприимчивых к капризам интеллекта и, так сказать, извращениям нервов. Стоит мне только увидеть такого парня, я тотчас готов доверить ему палубу – и в фигуральном, и в профессиональном смысле. Я знаю, что говорю, – мне ли не знать? Ведь скольких ребят я сам сделал моряками – то есть обучил ремеслу, секрет которого легко уместить в одну короткую фразу. Я снова и снова вбивал ее в молодые головы, чтобы она надежно укоренилась в них, проникла в каждую мысль и в каждый юношеский сон. Море было ко мне благосклонно, однако и я, по-моему, не остался перед ним в долгу. Так, во всяком случае, мне кажется, когда я вспоминаю мальчишек, прошедших через мои руки: многие из них уже достигли зрелости, некоторые погибли, но все они стали хорошими моряками. Готов побиться об заклад: если завтра мне придется вернуться домой, то не пройдет и двух дней, как у ворот какого-нибудь дока я встречу загорелого парня на голову выше меня ростом, и он скажет мне сочным молодым баском: «Вы меня не узнаете сэр? Я такой-то. Плавал под вашим началом на таком-то корабле. То был мой первый рейс». И тогда я вспомню растерянного мальчика не выше спинки этого кресла. Вспомню его матушку и, вероятно, старшую сестрицу: они молча стояли на причале и от огорчения не могли даже махать платочками вслед плавно ускользавшему кораблю. А может быть, паренька провожал почтенный отец: привез сына рано утром и решил ненадолго остаться – для того, конечно же, чтобы увидеть, как работает брашпиль[16 - Брашпиль – лебедка, служащая для швартовки судна и поднятия якоря.]. В итоге он остался надолго и даже слишком надолго. Спрыгнул на берег в последний момент, не успев ничего сказать на прощание. Как сейчас слышу голос рейдового лоцмана, который говорит мне с кормы, растягивая слова: «Господин помощник капитана, подождите минуточку! Тут джентльмен сойти хочет… Сюда, сэр, сюда. Чуть не уехали в Талькауано, да? Вот так. Осторожнее. Порядок. Все, ребята, можно!» Буксиры, адски дымя, взбивают старушку реку в яростную пену. Джентльмен на берегу отряхивает колени. Благодушный эконом бросает ему забытый зонт. Все так, как полагается. Отец принес морю маленькую жертву и теперь должен вернуться домой, делая вид, будто нисколько не огорчен. Сама жертва (разумеется, добровольная) в ближайшие же сутки успеет основательно познакомиться с морской болезнью. Но постепенно парнишка овладеет всеми маленькими премудростями и одной великой тайной ремесла. Он будет готов жить или умереть, как пожелает море. И если ты решился играть со стихией в эту игру, в которой человек обречен на проигрыш, то тебе всякий раз бывает приятно, когда увесистая молодая лапа хлопает тебя по спине и бодрый молодой голос говорит: «Помните меня, сэр? Я такой-то…»
Поверьте, это действительно радует. Ты понимаешь: по крайней мере однажды в жизни ты сделал свою работу как надо. Однажды меня уже хлопнули вот так вот по спине, и я поморщился, потому что рука была тяжелая, но после этого сердечного приветствия я весь день ходил окрыленный и лег спать, чувствуя себя менее одиноким, чем прежде. Помню ли я малыша такого-то? Еще бы не помнить! В общем, мне ли не знать, как выглядят такие парни. Потому-то, если бы судил по внешности, я бы доверил Джиму палубу своего корабля и спокойно уснул бы. Но боже мой, как бы я ошибся! От этой мысли мне становится жутко. Молодой человек казался надежным, как новенький соверен, но в его золоте была какая-то дурная примесь. Совсем небольшая: одна капля – не больше! И все-таки в этой единственной капле содержалась редкая отрава, из-за которой весь сплав, вероятно, стоил не больше латуни.
Именно такое подозрение Джим вызывал у меня, когда стоял с наплевательским видом перед портовой конторой. Я не мог поверить собственным глазам. Говорю вам: ради профессиональной чести я хотел, чтобы он терзался. Два других типа, о которых и говорить-то не стоит, увидали своего капитана и не спеша двинулись ему навстречу, болтая между собой. Ими я интересовался не больше, чем какими-нибудь существами, невидимыми для невооруженного глаза. Судя по ухмыляющимся физиономиям, они обменивались шутками. Один держал руку, видимо сломанную, на перевязи. Во втором, долговязом, я по вислым седым усам узнал старшего механика «Патны» – личность во многих отношениях печально известную. Это были два ничтожества. Итак, они подошли. Шкипер неподвижно уставился на мостовую у себя под ногами. Казалось, он раздулся до противоестественных размеров по причине какой-то ужасной болезни или под действием какого-то неизведанного яда. Подняв голову, капитан увидел двух своих подчиненных, его одутловатую физиономию исказила насмешливая гримаса, и он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут его, похоже, осенила некая мысль. С характерным звуком сомкнув толстые лиловатые губы, он решительным утиным шагом подошел к остановившейся у тротуара повозке и стал дергать ручку с таким неистовым нетерпением, что я бы не удивился, если бы ветхий экипаж опрокинулся вместе с лошадью. Встряска заставила возницу прервать созерцание собственной ступни. Обернувшись и увидев, как огромная туша пытается протиснуться в дверцу повозки, бедняга в ужасе вскинул обе руки. Убогое средство передвижения отчаянно раскачивалось, наклоненная толстая шея раскраснелась, жирные бедра напряглись, необъятная оранжево-зеленая спина вздымалась. При виде того, как эта грязная полосатая масса словно бы старается вырыть себе нору, легко было усомниться в реальности происходящего. Стало смешно и страшно, как от гротескного правдоподобия тех видений – пугающих и вместе с тем завораживающих, – которые посещают человека в лихорадке. Капитан «Патны» исчез. Я почти ожидал, что крыша разломится надвое и что вся повозка треснет, как коробочка хлопчатника, но она только просела, лязгнув рессорами, после чего шумно опустилась одна из штор-жалюзи. Затем через маленькое отверстие снова показались плечи капитана и разъяренная, потеющая, брызжущая слюной голова, похожая на привязной аэростат. Кулак, красный, как кусок сырого мяса, сделал в сторону возницы несколько угрожающих движений, сопровождаемых громоподобным приказом ехать. Куда? Может быть, к Тихому океану. Возница хлестнул пони, тот фыркнул, стал на дыбы и рванулся с места галопом. Куда? В Апиа? В Гонолулу? В распоряжении капитана «Патны» было шесть тысяч миль тропического пояса, а точного адреса я не услышал. Фыркающий пони в мгновение ока умчал своего грузного седока в ewigkeit[17 - Вечность (нем.).], и больше я никогда не видел шкипера. Никто из известных мне людей ничего не слышал о нем, после того как он был унесен из поля моего зрения маленькой повозкой, которая скрылась за поворотом, подняв облако белой пыли. Он уехал, исчез, испарился, совершил побег. И, как это ни абсурдно, у меня сложилось впечатление, будто повозку с лошадью и возницей он забрал с собой. Так или иначе, с тех пор я ни разу не встречал гнедого пони с рваным ухом, понукаемого апатичным тамилом, которого мучила мозоль на ступне. Тихий океан действительно большой. Нашлось ли на его просторах место, где капитан «Патны» сумел проявить свои таланты, мне неизвестно. Я знаю одно: шкипер улетел, как ведьма на метле. Низкорослый типчик с перевязанной рукой заблеял вслед повозке: «Капитан! Куда же вы? Капита-а-ан!» Сделав несколько шагов в том направлении, куда уехал шкипер, коротышка остановился и, понурив голову, медленно побрел назад. Молодого человека шум загрохотавших колес заставил резко, не сходя с места, повернуться. Не делая никаких других движений или жестов, он остался стоять в таком положении после того, как повозка исчезла из виду.
Все это произошло гораздо быстрее, чем длится мой рассказ. Дело в том, что я пытаюсь при помощи медлительных слов передать вам мгновенное действие зрительных впечатлений. В следующую секунду на сцене появился клерк-полукровка, которому Арчи поручил принять необходимые меры в отношении бедных моряков, потерпевших крушение. С готовностью бросившись выполнять задание, клерк выбежал из конторы с непокрытой головой и стал озираться. В отношении главного объекта его миссия была обречена на неудачу. Поняв это, он с суетливо-важным видом подошел к оставшимся троим и сразу же оказался втянут в неистовую перебранку с коротышкой, у которого была сломана рука: тому, по всей видимости, не терпелось с кем-нибудь поскандалить. Дескать, он, второй механик «Патны», не позволит собой командовать: он, черт подери, не из этаких! Чтобы какой-то нахальный писаришка-метис запугал его своим враньем? Ну уж нет! Даже будь все «взаправду так», он не потерпит угроз от «субъектов подобного сорта». Наконец он проревел о своем желании, о своем решении, о своем бесповоротном намерении отправиться в постель. «Не будь ты жалкий португалец, – прокричал разбушевавшийся коротышка, – ты бы увидел, что мне место в больнице!» С этими словами он сунул кулак здоровой руки клерку под нос. Начала собираться толпа. Полукровка, изо всех сил стараясь сохранять солидный и горделивый вид, принялся разъяснять свои намерения. Я ушел, не дожидаясь развязки.
Так случилось, что в то время в госпитале лежал один из моих людей. Придя навестить его накануне судебного разбирательства, в палате для белых мужчин я увидел того крикливого коротышку: он метался, лежа на спине, очевидно, в бреду, на руку была наложена шина. К моему великому удивлению, второй тип – тот, что с вислыми усами, – тоже каким-то образом туда попал. Я вспомнил, что во время перебранки возле портовой конторы он улизнул с набережной, шаркая ногами, но притом едва ли не вприскочку и изо всех сил пытаясь скрыть испуг. В том порту он был не впервые и, по всей видимости, прямиком направился в заведение Мариани возле базара. Этот мошенник Мариани, содержатель бильярдной и винного погребка, знал старшего механика «Патны», не раз проворачивал с ним вместе всякие делишки и чуть ли не ноги ему целовал. Он предоставил ему комнату на втором этаже своего притона и запас бутылок. Похоже, усатый ощущал какую-то смутную угрозу для своей безопасности и потому пожелал от всех скрыться. Много позднее сам Мариани (явившись ко мне на борт, чтобы получить с эконома долг за сигары) сказал мне, что сделал бы для своего друга механика много больше, не задавая лишних вопросов, – насколько я понял, в благодарность за какую-то давнюю противозаконную услугу. В огромных вытаращенных глазах кабатчика, черных с яркими белыми уголками, заблестели слезы, когда он, дважды ударив себя кулаком в мускулистую грудь, произнес: «Антонио никогда не забывать! Никогда!» В чем именно заключалось то аморальное обязательство, которое связывало Мариани, я так и не узнал, но что бы это ни было, механик «Патны» получил возможность сколько угодно сидеть под замком в каморке, вся обстановка которой состояла из стола, стула, матраца в углу да осыпавшейся штукатурки на полу. Пребывая в иррациональном состоянии страха и подавленности, он двое суток подбадривал себя напитками, предоставляемыми Антонио, а вечером третьего дня из каморки послышалось несколько ужасающих воплей. Атакуемый легионом многоножек, механик распахнул дверь, одним отчаянным прыжком преодолел шаткую лестницу, приземлился на живот Мариани, быстро встал и, как кролик, выскочил на улицу. Утром полицейские нашли его в мусорной куче. Сначала он подумал, что его тащат на виселицу, и стал геройски бороться за свободу. Но к тому моменту, когда я присел около его кровати, он уже дня два как затих. Осунувшееся бронзовое лицо с белыми усами благообразно покоилось на подушке. Я мог бы подумать, будто передо мной раненый солдат с детской душой, если бы не призрачная тревога в блеске пустых глаз – неопределенный страх, словно крадущийся за стеклом. Старший механик «Патны» казался настолько спокойным, что у меня даже возникла сумасбродная надежда услышать его точку зрения на происшествие, наделавшее столько шуму. Говоря откровенно, мне не терпелось зарыться в неприглядные обстоятельства дела, которое в конечном счете касалось меня только как части расплывчатого множества людей, объединяемых бесславным трудом и определенными правилами поведения. Причины своего любопытства я объяснить не могу. Называйте его нездоровым, если угодно. Но совершенно праздным оно не было. Я хотел что-то найти. Вероятно, я, сам того не осознавая, искал какую-нибудь глубинную причину, объясняющую поступок молодого моряка и хотя бы отчасти его оправдывающую. Теперь я вполне отчетливо вижу несбыточность тогдашней моей надежды. Ибо невозможно похоронить самую упрямую тень, преследующую человека на протяжении всей истории, – тайное сомнение, которое окутывает нас, как туман, гложет, как червь, и холодит сильнее, чем определенность смерти. Если мы однажды усомнились в том, что власть принятого и коронованного кодекса чести незыблема, то переступить через это, не споткнувшись, будет крайне трудно. Такое сомнение порождает панические крики и весьма нередко ведет к злодеяниям. Оно верный спутник катастрофы. Так неужели я поверил в чудо? Да еще и так пылко? Возможно, ища оправдание поступку незнакомого мне молодого человека, я старался не столько ради него, сколько ради самого себя. Одного вида этого парня было достаточно, чтобы его слабость вызвала у меня тревогу личностного свойства и явилась в моих глазах ужасающей тайной, знаком печальной участи всех тех, чья юность в свою пору была похожа на его юность. Боюсь, подлинная причина моей пытливости именно такова. Несомненно, я ждал чуда. Но единственным во всей этой истории, что я сегодня мог бы назвать чудесным, была моя собственная глупость. Ведь я всерьез надеялся услышать от жалкого больного – всем известного мошенника – нечто способное изгнать злой дух моего сомнения, причем надежда моя, похоже, приняла отчаянную форму. После нескольких бессмысленно дружелюбных фраз, на которые он откликнулся охотно, хотя и вяло (как полагается приличному больному), я, не теряя времени, извлек на свет божий слово «Патна», завернув его, словно в нежнейший шелк, в деликатную вопросительную интонацию. Деликатность моя была эгоистична. Я щадил этого человека только потому, что не хотел спугнуть. Ни злости, ни искренней жалости я к нему не испытывал. Сам по себе его опыт не имел для меня никакой ценности, и о его оправдании я не беспокоился. Он состарился, погрязнув в мелких преступлениях, и больше не мог вызывать ни отвращения, ни сочувствия.
– «Патна»? – переспросил он и, как будто бы с трудом припомнив это слово, ответил: – Да, да. В здешних краях я чего только не повидал… Она утонула на моих глазах.
Я уже готов был встретить эту глупую ложь всплеском негодования, но механик прибавил:
– Она кишела рептилиями.
Я промолчал. Что он имел в виду? Блуждающий фантом страха в его глазах словно остановился и печально поглядел в мои. Больной задумчиво продолжил:
– Меня подняли среди ночи, чтобы смотреть, как она тонет.
В голосе больного вдруг зазвучала пугающая сила. Я пожалел о своем сумасбродстве. Нигде поблизости не виднелся белокрылый чепец сестры. Палата была почти пуста. В середине длинного ряда железных коек лежал какой-то моряк, с которым на рейде произошел несчастный случай. Сейчас он сел на постели – коричневый от солнца, худой, с небрежной повязкой на голове. Внезапно мой занятный собеседник вытянул костлявую руку и, как клешней, ухватил меня за плечо.
– Только я один мог разглядеть. Мое острое зрение всем известно. Затем, я думаю, меня и позвали. Никто из них не успел увидеть, как это началось. Но потом-то они увидели. И запели все вместе вот этак.
Раздался волчий вой, проникший даже в самые дальние уголки моей души.
– Ох… Сделайте так, чтоб он заткнулся! – простонала жертва несчастного случая.
– Вы, кажется, не верите мне? – произнес механик с выражением неописуемого самодовольства. – Говорю вам чистую правду: других таких глаз, как мои, вы по эту сторону Персидского залива не найдете. Загляните-ка под кровать.
Я, разумеется, нагнулся. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел бы воспротивиться любопытству.
– Что видите? – спросил механик.
– Ничего, – ответил я, стыдясь собственной наивности.
Он устремил на меня дикий взгляд, полный иссушающего презрения, и сказал:
– То-то же! А если бы я заглянул, я бы увидел! Говорю же вам, ни у кого нет таких глаз, как мои.
Механик снова схватил меня и заставил сесть. Ему не терпелось снять с себя груз своей тайны.
– Миллионы розовых жаб, – сказал он. – Никто их не видит – только я. Миллионы розовых жаб. Это еще хуже, чем глядеть, как тонет корабль. Глядеть на тонущие корабли я мог целыми днями, покуривая трубочку. А почему мне сейчас ее не дают? Я всегда курил, когда смотрел на жаб. Корабль ими кишел. Кто-то, знаете ли, должен был за ними следить.