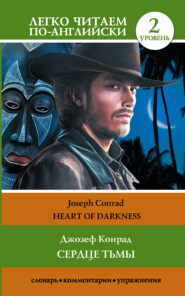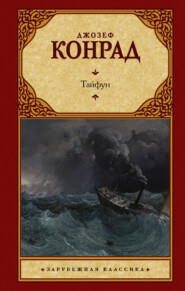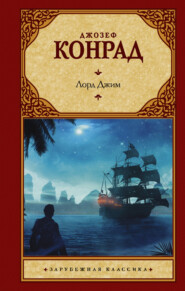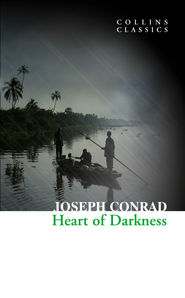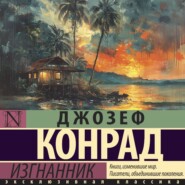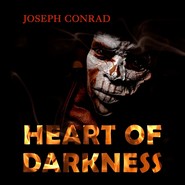По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прыжок за борт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Джим говорил медленно, воспоминания были удивительно отчетливы; если бы эти люди, требующие фактов, пожелали, – он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее возмущение, он пришел к выводу, что лишь мелочная точность рассказа может обнаружить подлинный ужас, скрытый за жутким ликом событий. Факты, какие нужны этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали место во времени и пространстве. Но, помимо этого, было и что-то иное, невидимое, – дух, ведущий к гибели, – словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Событие не было обычным. Каждая мелочь имела величайшее значение, и, к счастью, он запомнил все. Он хотел говорить во имя истины, быть может, также ради себя самого; слова его были обдуманы, а мысль металась в сжатом круге фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных людей; он походил на животное, которое, очутившись за высокой изгородью, обезумев, бегает по кругу, ищет какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его по временам запинаться…
– Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику, на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся. Когда я с ним заговорил, он, словно слепой, на меня наткнулся. Толком он ничего мне не ответил. Он что-то бормотал про себя, я разобрал несколько слов: «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» – словом, что-то о паре. Я подумал…
Джим становился непочтительным; новый вопрос о фактической стороне дела оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватило бесконечное уныние и усталость. Он приближался к этому… приближался… и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать – да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял выпрямившись на возвышении, а душа его стонала от муки. Ему пришлось дать ответ еще на один вопрос по существу, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус морской воды. Он вытер влажный лоб, смочил языком сухие губы, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине.
Грузный асессор опустил ресницы, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго асессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали ласку; председатель слегка наклонился, бледное лицо его приблизилось к цветам. Ветер, нагнетаемый пунками, обвевал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях свои круглые пробковые шляпы; тиковые костюмы облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен шныряли босоногие туземцы-констебли, затянутые в длинные белые одежды; в красных поясах и в красных тюрбанах, они бегали взад и вперед, бесшумные, как призраки, и, подобно гончим, проворные.
Глаза Джима остановились на белом человеке, сидевшем в стороне; лицо у него было усталое, но спокойные глаза смотрели в упор, оживленные и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и почувствовал искушение крикнуть: «Что толку в этом? Что толку?» Но он не крикнул, закусил губу и посмотрел на слушателей, сидящих на скамьях. Он встретился взглядом с белым человеком. Глаза последнего были непохожи на остановившиеся глаза остальных. В этом взгляде была воля. Джим во время паузы между двумя вопросами забылся до того, что стал размышлять.
«Этот парень, – думал он, – глядит на меня так, словно видит кого-то за моим плечом». Где-то он видел этого человека, быть может, на улице, но был уверен, что никогда с ним не говорил. Много дней он не говорил ни с кем, – лишь с самим собой вел молчаливый и нескончаемый разговор, словно узник в одиночной камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, лишенные всякого значения, хотя и преследующие определенную цель, и размышлял о том, заговорит ли он еще когда-нибудь в своей жизни. Звук его собственных правдивых слов подтверждал ту мысль, что дар речи ему больше не нужен. Тот человек как будто понимал мучительность его положения. Джим взглянул на него, затем решительно отвернулся, словно навеки с ним распрощавшись.
Не раз впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.
Случалось это после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, исколотых огненными точками сигар. В тростниковых креслах сидели молчаливые слушатели. Изредка маленькое красное пятнышко поднималось и, разгораясь, освещало пальцы вялой руки или вспыхивало красноватым блеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. Едва начав говорить, Марлоу спокойно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в глубь времен и прошлое вещало его устами.
Глава V
– Я был на разборе дела, – говорил он, – и теперь еще удивляюсь, зачем я пошел. Я готов верить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но, согласитесь и вы со мной, к каждому из нас приставлено и по дьяволу. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не желаю быть человеком исключительным, а я знаю: он у меня есть – дьявол, хочу я сказать. Конечно, я его не видел, но доказательства у меня имеются! Он ко мне приставлен, а так как по природе своей он зол, то и впутывает меня в подобные истории. Какие истории? – спросите вы. Ну, скажем, судебное следствие, история с желтой собакой… Вы считаете невероятным, чтобы облезлой туземной собаке разрешили подвертываться под ноги людям на веранде того дома, в котором находится суд… Вот какими путями – извилистыми, поистине дьявольскими – заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь Юпитером, при виде меня языки развязываются, и начинаются признания, – как будто мне самому не в чем себе признаться, как будто у меня не найдется таких признаний, над которыми я могу мучиться до конца жизни! Хотелось бы знать, чем я заслужил такую милость! Примите к сведению, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не знаю… быть может, это нужно лишь для того, чтобы скоротать время после обеда. Чарли, дорогой мой, ваш обед был очень хорош, и, в результате, этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякие упражнения! Пусть Марлоу рассказывает».
Значит, рассказывать! Пусть так!
Нетрудно говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, когда под рукой ящик с приличными сигарами, а вечер прохладен и залит звездным светом. При таких условиях даже лучшие из нас могли позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании, должны пробивать себе дорогу под перекрестными огнями, следить за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично; однако подлинной уверенности у нас нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся.
Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Все те, кто в той или иной мере были связаны с морем, находились там, в суде, ибо еще задолго вокруг этого дела поднялся шум – с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Эдена, вызвавшая столько пересудов. Я говорю «таинственная», хотя она и преподносила всего лишь голый факт – такой безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Начать с того, что, одеваясь утром в своей каюте, я услыхал через переборку, как мой парс Дубаш лопотал с баталером о «Патне». Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, задавших мне вопрос: «Приходилось ли вам слышать о чем-нибудь более поразительном?» И, смотря по темпераменту, они улыбались цинично, принимали грустный вид либо разражались ругательствами. Люди, совершенно незнакомые, фамильярно заговаривали для того только, чтобы изложить свой взгляд на это дело. Те же речи вы слышали и в управлении порта и у каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от туземцев, даже от полуголых лодочников, сидящих на корточках на каменных ступенях мола. Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что же, собственно, с ними произошло. Вы знаете, кого я имею в виду.
Прошло недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что это таинственное дело обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней управления порта, я увидел четырех людей, шедших мне навстречу по набережной. Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг, если можно так выразиться, возопил мысленно: «Да ведь это они!»
Да, действительно, это были они – трое крупных мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть непристойно. Сытно позавтракав, они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Сомнений быть не могло: с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого толстого человека в тропиках, поясом обвивающих нашу славную старушку-землю. Месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал учреждения германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке де-Джонга; наконец, де-Джонг, который, и глазом не моргнув, лупил гульден за бутылку, отозвал меня в сторонку и, сморщив свое маленькое, обтянутое кожей лицо, заявил: «Торговля – торговлей, капитан, но от этого человека меня мутит. Тьфу!»
Стоя в тени на набережной, я смотрел на толстяка. Он несколько опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он походил на дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был красочен: запачканная пижама с ярко-зелеными и оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем, который был ему мал и держался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не повезет, если дело дойдет до переодевания в чужое платье. Итак, он стремительно летел вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и атаковал лестницу, ведущую в управление порта, чтобы сделать свой доклад.
По-видимому, он прежде всего обратился к помощнику начальника порта. Арчи Рутвел только что пришел в управление и, как он впоследствии рассказывал, собирался начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Каждый из вас должен знать этого клерка – услужливого маленького португальца-полукровку с тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь съестное: кусок солонины, мешок с сухарями либо что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от моих судовых запасов. Меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая – двух рас, пожалуй, – да и климат имеет значение. Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.
Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую проповедь, – полагаю, на тему о морали должностных лиц, – когда услышал за своей спиной чьи-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и вздымающуюся по середине просторной канцелярии. Рутвел был до того ошеломлен, что очень долго не мог сообразить, живое ли перед ним существо, и дивился, какого черта этот предмет водрузился перед его конторкой. За аркой, выходившей в переднюю, толпились слуги, приводившие в движение пунку, туземцы-констебли, боцман и команда портового катера; все они вытягивали шеи и напирали друг на друга. Подлинное столпотворение. Тем временем толстый парень ухитрился снять с головы шляпу и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет этот призрак. Он вещал голосом хриплым и замогильным, но держался неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» принимает новый оборот. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе. Арчи такой чувствительный, но он взял себя в руки и крикнул:
– Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к начальнику порта… Капитана Эллиота – вот кого вам нужно. Сюда, сюда!
Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт подсказал ему поостеречься; он уперся и зафыркал, словно испуганный бычок:
– В чем дело? Пустите меня! Послушайте!
Арчи без стука распахнул двери.
– Капитан «Патны», сэр! – крикнул он. – Пожалуйте, капитан.
Он видел, что старик, что-то писавший, резко приподнял голову, и пенсне слетело у него с носа. Арчи захлопнул дверь и бросился к своей конторке, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но шум, поднявшийся за дверью, был таков, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – самый чувствительный помощник начальника порта на обоих полушариях. Он говорил, что чувствовал себя так, как будто впихнул человека в логовище голодного льва. Действительно, шум поднялся страшный. Я не сомневаюсь, что крики были слышны на другом конце площади. Старый Эллиот имел богатый запас слов, орать умел и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал: «Занять более высокий пост не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и если им не нравится мое представление о долге, я охотно отправлюсь на родину. Я старик, и всю свою жизнь я выкладывал все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж, пока я жив».
То был его пунктик помешательства. Три его дочери удивительно на него походили, но, как это ни странно, были очень хорошенькие. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам по вопросу об их замужестве, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам подчиненных, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел немца, но, если разрешите мне продолжать метафору, разжевал его основательно и… выплюнул.
Через несколько минут я увидел, как толстяк торопливо спустился с лестницы и остановился на ступенях подъезда. Он стоял подле меня, погруженный в глубокое размышление; его толстые багровые щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них – желтолицего вульгарного человечка рука была на перевязи, другой – долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми свисающими усами, худой, как палка, озирался по сторонам с самодовольно-глупым видом. Третий – стройный, широкоплечий юноша засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум остальным, которые о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную площадь. Ветхая, запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против группы; извозчик, положив правую ногу на колено, созерцал свои пальцы. Молодой человек, не двигаясь, смотрел прямо перед собой.
Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, аккуратно одетый, он твердо стоял на ногах – один из самых располагающих к себе мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что, ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, думая этим притворством чего-то от меня добиться. Он не смел выглядеть таким чистым и честным. Мысленно я сказал себе: «Что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда…» От возмущения я готов был швырнуть свою шляпу на землю и растоптать ее, как сделал однажды на моих глазах шкипер итальянской баржи, когда его негодяй помощник запутался с якорями, собираясь отшвартоваться на рейде, где стояло много судов. Я спрашивал себя, видя Джима таким спокойным: «Глуп он или груб до бесчувствия?» Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. Прошу заметить: меня нимало не интересовало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и послужил основанием официального следствия.
– Этот старый негодяй, там, наверху, обозвал меня подлецом, – сказал капитан «Патны».
Узнал ли он меня? Думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами, я улыбался; «подлец» было самым мягким приветствием из всех вылетевших в открытое окно и коснувшихся моего слуха.
– Неужели? – сказал я, почему-то не сумев придержать язык за зубами.
Он кивнул утвердительно, снова укусил себя за палец и тихонько выругался; затем посмотрел на меня с мрачным бесстыдством и воскликнул:
– Ба! Тихий океан велик! Вы, проклятые англичане, можете делать все, что вам угодно. Я знаю, где найдется место для такого человека, как я; меня хорошо знают в Апиа, в Гонолулу, в…
Он приостановился, а я легко мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать нечего – я сам знаком с этой породой. Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь одинаково приятна во всякой компании. Я через это прошел и теперь не хочу с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из этой дурной компании – за неимением ли морального… как бы это сказать… морального положения или по иным не менее важным причинам – вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные почтительные коммерческие воры, которых вы, господа, у себя принимаете. А ведь подлинной необходимости так поступать у вас нет. Вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и разнообразных побуждений.
– Вы, англичане, все поголовно – негодяи, – продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина (право, сейчас я не припомню, какой маленький порт у берегов Балтики осквернился, породив эту редкую птицу). – Чего вы орете? А? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый негодяй черт знает как на меня раскричался.
Вся его туша тряслась с головы до ног.
– Вот так вы, англичане, всегда поступаете: шумите, кричите из-за всякого пустяка, потому только, что я не родился в вашей проклятой стране. Берите мое свидетельство. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!
Он плюнул.
– Я приму американское подданство! – кричал он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых тисков, которые не позволяли ему сойти с места. Он так разгорячился, что макушка его головы буквально дымилась. Меня удерживало любопытство – самая яркая из всех эмоций, и я не уходил, – я хотел знать, как примет новости тот юноша, который, засунув руки в карманы и стоя спиной к тротуару, взирал поверх зеленых клумб площади на желтый портал отеля «Малабар». Он взирал с видом человека, собиравшегося прогуляться, и словно ждал только, чтобы друг к нему присоединился. Вот каким он выглядел, и это было отвратительно. Я ждал. Я думал, что он будет потрясен, пришиблен, станет корчиться, как посаженный на булавку жук… И… я почти боялся это увидеть.
Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, уличенным не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Самая элементарная порядочность препятствует нам совершать преступления, но от слабости неведомой, а может быть, лишь подозреваемой, от слабости скрытой, за которой можно следить или не следить, вооружаться против нее или мужественно ее презирать, – от этой слабости ни один из нас не застрахован. Нас втягивает в ловушку, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и, однако, дух может выжить – пережить осуждение и, клянусь Юпитером, пережить повешение. А бывают проступки – иной раз они кажутся совсем незначительными, – которые кое-кого из нас убивают.
Я наблюдал за этим юношей, мне нравилась его внешность; таких, как он, я знал, – устои у него были хорошие. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей – мужчин и женщин, о которых не скажешь, что они умны или талантливы, но живут они честно и мужественно. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество, я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению, о силе сопротивляемости, не изящной, если хотите, но ценной, о бездумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и вовне, перед властью природы и заманчивым развратом людей… Такое упорство держится на вере, и ее не сокрушат ни факты, ни дурной пример. Все это прямого отношения к Джиму не имеет, но внешность его была так типична для тех добрых, глупых малых, с которыми чувствуешь себя приятно, – людей, не тревожимых капризами ума и, скажем, развращенностью нервов. Такому человеку вы по одному его виду доверили бы палубу – говорю образно и как профессионал. Я бы доверил, а мне полагается это знать. Разве я в свое время не обучал юношей хитростям моря – хитростям, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и, однако, каждый день нужно заново внедрять их в молодые головы.
Ко мне море было великодушно, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки – иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были славными моряками, – тогда мне кажется, что и я у моря в долгу не остался. Вернись я завтра на родину, ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока, и свежий глубокий голос прозвучит над моей головой: «Помните меня, сэр? Как! Да ведь я такой-то. Был совсем желторотым юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание». Уверяю вас, радостно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду. Бросив только один взгляд на этого юношу, я бы доверил ему палубу и заснул сладким сном. А оказывается, это было бы небезопасно. Страшно становилось об этом думать. Он выглядел таким же естественным и не фальшивым, как новенький соверен; однако в его металле была какая-то дьявольская лигатура. Сколько же? Совсем немного, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого, крохотная капелька. Однако, когда он так стоял с видом «на все наплевать», вы начинали думать: «уж не отчеканен ли он весь из меди».
Поверить этому я не мог. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет страдать – ведь есть же профессиональная честь. Двое других – эти парни не идут в счет – заметили своего капитана и стали медленно к нам приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимы невооруженному глазу. Они усмехались, быть может, обменивались шутками. У одного из них была сломана рука; другой – долговязый субъект с седыми усами – был главный механик, личность во многих отношениях замечательная. Для меня они оба были ничто. Они подошли к нам. Шкипер тупо уставился в землю; казалось, от какой-то страшной болезни, неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот, – должно быть, хотел с ними заговорить. Но тут какая-то мысль вдруг пришла ему в голову. Толстые багровые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он вперевалку к гхарри и начал дергать дверную ручку с таким злобным нетерпением, что, казалось, все сооружение вот-вот вместе с пони повалится набок.
Возница, оторванный от исследования своей ступни и уцепившись обеими руками за козлы, повернулся и стал смотреть, как огромная туша ввалилась в его повозку. Маленькая гхарри тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные ляжки, полосатая спина и мучительные усилия этой пестрой туши влезть в нору производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как гротескные видения во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что маленький ящик на колесах лопнет, словно спелый стручок, но он только осел, заскрипели рессоры, и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, голова его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно воздушный шар на привязи, плотная, фыркающая, злобная. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса, и заревел на него, приказывая трогаться в путь. Куда? В Тихий океан?
Возница занес хлыст, пони захрапел, поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. В Апиа? В Гонолулу? У шкипера было в запасе шесть тысяч миль тропиков, а точного адреса я не слыхал. Фыркающий пони в одно мгновение унес его в «вечность», и больше я его не видел. Этого мало: я не видел никого, кто бы встречал его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, оставив за собой целое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился, и особенно нелепым казалось то, что он как будто прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу не видел я с тех пор гнедого пони с разорванным ухом и темного возницу из Тамилы, исследующего свою больную ступню. Тихий океан и в самом деле велик, но, – нашел ли шкипер арену для развития своих талантов или нет, – факт остается фактом: он умчался в пространство, точно ведьма на помеле. Маленький человечек с рукой на перевязи пустился было за экипажем, блея на бегу: «Капитан! Эй, капитан! Послушайте!» Но, пробежав несколько шагов, остановился, опустил голову и побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек, стоявший поодаль, круто повернулся. Больше никаких движений он не делал и снова застыл на месте.
Все это произошло значительно скорее, чем я рассказываю. Через секунду на сцене появился клерк-полукровка, посланный Арчи заняться моряками с «Патны». Преисполненный усердия, он выскочил без шапки, озираясь направо и налево. Миссия его была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной персоны, однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же завязал разговор с парнем, у которого рука была на перевязи. Как оказалось, парень стремился затеять ссору. Он заявил, что не желает подчиняться приказаниям – «ну, нет, черт побери». Его не запугаешь враками. Он не намерен выслушивать грубости от «подобной личности», даже если тот и не врет. У него есть твердое решение – лечь в постель.
«Не будь вы проклятым португальцем, – услышал я его крик, – вы бы поняли, что госпиталь – единственное подходящее для меня место».
Он поднес здоровый кулак к носу своего собеседника. Стала собираться толпа; клерк растерялся, но, делая все возможное, чтобы не уронить своего достоинства, пробовал объясниться. Я ушел, не дождавшись конца.
Случилось так, что в то время в госпитале лежал один из моих матросов; за день до начала следствия я зашел его проведать и увидел в палате того самого маленького человека; он метался, бредил, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвисшими седыми усами также ютился в госпитале. Помню, я обратил внимание, как он улизнул во время спора – ушел, не то волоча ноги, не то прихрамывая и стараясь иметь вид независимый. По-видимому, он не был новичком в порту и направился прямехонько в пивную Мариане, находившуюся неподалеку от базара. Этот бродяга Мариане был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту потакал его порочным наклонностям; теперь он встретил его раболепно и, снабдив батареей бутылок, запер в верхней комнате своего вертепа. По-видимому, долговязый субъект желал спрятаться, опасаясь преследования. Много времени спустя Мариане явился как-то на борт моего судна, чтобы получить с баталера деньги за сигары, и сообщил мне, что для долговязого парня готов был сделать и больше, не задавая вопросов, в благодарность за какую-то гнусную услугу, некогда оказанную ему этим субъектом. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, вытаращил огромные черные глаза – в них блеснули слезы – и воскликнул: «Антонио всегда будет помнить, Антонио всегда будет помнить!»
Какова была эта услуга, я так никогда в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность находиться под замком в комнате, где стояли стол, стул, на полу лежал матрас, да в углу куча обвалившейся штукатурки. Долговязый субъект, отдавшийся безудержному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какие были у Мариане. Так продолжалось до тех пор, пока, к вечеру третьего дня, субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не решился обратиться в бегство от легиона стоножек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с маленькой лестницы, рухнул прямо на живот Мариане, затем вскочил и, как кролик, ринулся на улицу. Рано утром полисмен нашел его в куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на казнь, и он геройски сражался за свою голову; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно, и в таком настроении пребывал уже два дня. На фоне подушки его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным; оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, не будь этой странной тревоги, светившейся в его стеклянных, блестящих глазах, – словно чудовище, безмолвно притаившееся за застекленной рамой. Он был так удивительно спокоен, что я возымел нелепую надежду получить от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела.
Не могу сказать, почему мне так хотелось разобраться в деталях позорного происшествия, в конце концов оно касалось меня лишь как члена известной корпорации. Если хотите, называйте это нездоровым любопытством. Как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся нащупать какую-то тайную причину – смягчающие вину обстоятельства. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся взять верх над самым стойким призраком, созданным человеком, – гнетущим сомнением, обволакивающим, как туман, гложущим, словно червь, более жутким, чем уверенность в смерти, – сомнением в верховной власти твердо установленных норм. Верил ли я в чудо? И почему так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени извинения для этого молодого человека, которого никогда раньше не встречал.
– Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику, на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся. Когда я с ним заговорил, он, словно слепой, на меня наткнулся. Толком он ничего мне не ответил. Он что-то бормотал про себя, я разобрал несколько слов: «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» – словом, что-то о паре. Я подумал…
Джим становился непочтительным; новый вопрос о фактической стороне дела оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватило бесконечное уныние и усталость. Он приближался к этому… приближался… и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать – да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял выпрямившись на возвышении, а душа его стонала от муки. Ему пришлось дать ответ еще на один вопрос по существу, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус морской воды. Он вытер влажный лоб, смочил языком сухие губы, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине.
Грузный асессор опустил ресницы, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго асессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали ласку; председатель слегка наклонился, бледное лицо его приблизилось к цветам. Ветер, нагнетаемый пунками, обвевал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях свои круглые пробковые шляпы; тиковые костюмы облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен шныряли босоногие туземцы-констебли, затянутые в длинные белые одежды; в красных поясах и в красных тюрбанах, они бегали взад и вперед, бесшумные, как призраки, и, подобно гончим, проворные.
Глаза Джима остановились на белом человеке, сидевшем в стороне; лицо у него было усталое, но спокойные глаза смотрели в упор, оживленные и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и почувствовал искушение крикнуть: «Что толку в этом? Что толку?» Но он не крикнул, закусил губу и посмотрел на слушателей, сидящих на скамьях. Он встретился взглядом с белым человеком. Глаза последнего были непохожи на остановившиеся глаза остальных. В этом взгляде была воля. Джим во время паузы между двумя вопросами забылся до того, что стал размышлять.
«Этот парень, – думал он, – глядит на меня так, словно видит кого-то за моим плечом». Где-то он видел этого человека, быть может, на улице, но был уверен, что никогда с ним не говорил. Много дней он не говорил ни с кем, – лишь с самим собой вел молчаливый и нескончаемый разговор, словно узник в одиночной камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, лишенные всякого значения, хотя и преследующие определенную цель, и размышлял о том, заговорит ли он еще когда-нибудь в своей жизни. Звук его собственных правдивых слов подтверждал ту мысль, что дар речи ему больше не нужен. Тот человек как будто понимал мучительность его положения. Джим взглянул на него, затем решительно отвернулся, словно навеки с ним распрощавшись.
Не раз впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.
Случалось это после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, исколотых огненными точками сигар. В тростниковых креслах сидели молчаливые слушатели. Изредка маленькое красное пятнышко поднималось и, разгораясь, освещало пальцы вялой руки или вспыхивало красноватым блеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. Едва начав говорить, Марлоу спокойно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в глубь времен и прошлое вещало его устами.
Глава V
– Я был на разборе дела, – говорил он, – и теперь еще удивляюсь, зачем я пошел. Я готов верить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но, согласитесь и вы со мной, к каждому из нас приставлено и по дьяволу. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не желаю быть человеком исключительным, а я знаю: он у меня есть – дьявол, хочу я сказать. Конечно, я его не видел, но доказательства у меня имеются! Он ко мне приставлен, а так как по природе своей он зол, то и впутывает меня в подобные истории. Какие истории? – спросите вы. Ну, скажем, судебное следствие, история с желтой собакой… Вы считаете невероятным, чтобы облезлой туземной собаке разрешили подвертываться под ноги людям на веранде того дома, в котором находится суд… Вот какими путями – извилистыми, поистине дьявольскими – заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь Юпитером, при виде меня языки развязываются, и начинаются признания, – как будто мне самому не в чем себе признаться, как будто у меня не найдется таких признаний, над которыми я могу мучиться до конца жизни! Хотелось бы знать, чем я заслужил такую милость! Примите к сведению, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не знаю… быть может, это нужно лишь для того, чтобы скоротать время после обеда. Чарли, дорогой мой, ваш обед был очень хорош, и, в результате, этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякие упражнения! Пусть Марлоу рассказывает».
Значит, рассказывать! Пусть так!
Нетрудно говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, когда под рукой ящик с приличными сигарами, а вечер прохладен и залит звездным светом. При таких условиях даже лучшие из нас могли позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании, должны пробивать себе дорогу под перекрестными огнями, следить за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично; однако подлинной уверенности у нас нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся.
Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Все те, кто в той или иной мере были связаны с морем, находились там, в суде, ибо еще задолго вокруг этого дела поднялся шум – с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Эдена, вызвавшая столько пересудов. Я говорю «таинственная», хотя она и преподносила всего лишь голый факт – такой безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Начать с того, что, одеваясь утром в своей каюте, я услыхал через переборку, как мой парс Дубаш лопотал с баталером о «Патне». Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, задавших мне вопрос: «Приходилось ли вам слышать о чем-нибудь более поразительном?» И, смотря по темпераменту, они улыбались цинично, принимали грустный вид либо разражались ругательствами. Люди, совершенно незнакомые, фамильярно заговаривали для того только, чтобы изложить свой взгляд на это дело. Те же речи вы слышали и в управлении порта и у каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от туземцев, даже от полуголых лодочников, сидящих на корточках на каменных ступенях мола. Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что же, собственно, с ними произошло. Вы знаете, кого я имею в виду.
Прошло недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что это таинственное дело обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней управления порта, я увидел четырех людей, шедших мне навстречу по набережной. Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг, если можно так выразиться, возопил мысленно: «Да ведь это они!»
Да, действительно, это были они – трое крупных мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть непристойно. Сытно позавтракав, они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Сомнений быть не могло: с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого толстого человека в тропиках, поясом обвивающих нашу славную старушку-землю. Месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал учреждения германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке де-Джонга; наконец, де-Джонг, который, и глазом не моргнув, лупил гульден за бутылку, отозвал меня в сторонку и, сморщив свое маленькое, обтянутое кожей лицо, заявил: «Торговля – торговлей, капитан, но от этого человека меня мутит. Тьфу!»
Стоя в тени на набережной, я смотрел на толстяка. Он несколько опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он походил на дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был красочен: запачканная пижама с ярко-зелеными и оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем, который был ему мал и держался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не повезет, если дело дойдет до переодевания в чужое платье. Итак, он стремительно летел вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и атаковал лестницу, ведущую в управление порта, чтобы сделать свой доклад.
По-видимому, он прежде всего обратился к помощнику начальника порта. Арчи Рутвел только что пришел в управление и, как он впоследствии рассказывал, собирался начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Каждый из вас должен знать этого клерка – услужливого маленького португальца-полукровку с тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь съестное: кусок солонины, мешок с сухарями либо что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от моих судовых запасов. Меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая – двух рас, пожалуй, – да и климат имеет значение. Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.
Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую проповедь, – полагаю, на тему о морали должностных лиц, – когда услышал за своей спиной чьи-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и вздымающуюся по середине просторной канцелярии. Рутвел был до того ошеломлен, что очень долго не мог сообразить, живое ли перед ним существо, и дивился, какого черта этот предмет водрузился перед его конторкой. За аркой, выходившей в переднюю, толпились слуги, приводившие в движение пунку, туземцы-констебли, боцман и команда портового катера; все они вытягивали шеи и напирали друг на друга. Подлинное столпотворение. Тем временем толстый парень ухитрился снять с головы шляпу и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет этот призрак. Он вещал голосом хриплым и замогильным, но держался неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» принимает новый оборот. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе. Арчи такой чувствительный, но он взял себя в руки и крикнул:
– Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к начальнику порта… Капитана Эллиота – вот кого вам нужно. Сюда, сюда!
Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт подсказал ему поостеречься; он уперся и зафыркал, словно испуганный бычок:
– В чем дело? Пустите меня! Послушайте!
Арчи без стука распахнул двери.
– Капитан «Патны», сэр! – крикнул он. – Пожалуйте, капитан.
Он видел, что старик, что-то писавший, резко приподнял голову, и пенсне слетело у него с носа. Арчи захлопнул дверь и бросился к своей конторке, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но шум, поднявшийся за дверью, был таков, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – самый чувствительный помощник начальника порта на обоих полушариях. Он говорил, что чувствовал себя так, как будто впихнул человека в логовище голодного льва. Действительно, шум поднялся страшный. Я не сомневаюсь, что крики были слышны на другом конце площади. Старый Эллиот имел богатый запас слов, орать умел и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал: «Занять более высокий пост не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и если им не нравится мое представление о долге, я охотно отправлюсь на родину. Я старик, и всю свою жизнь я выкладывал все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж, пока я жив».
То был его пунктик помешательства. Три его дочери удивительно на него походили, но, как это ни странно, были очень хорошенькие. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам по вопросу об их замужестве, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам подчиненных, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел немца, но, если разрешите мне продолжать метафору, разжевал его основательно и… выплюнул.
Через несколько минут я увидел, как толстяк торопливо спустился с лестницы и остановился на ступенях подъезда. Он стоял подле меня, погруженный в глубокое размышление; его толстые багровые щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них – желтолицего вульгарного человечка рука была на перевязи, другой – долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми свисающими усами, худой, как палка, озирался по сторонам с самодовольно-глупым видом. Третий – стройный, широкоплечий юноша засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум остальным, которые о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную площадь. Ветхая, запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против группы; извозчик, положив правую ногу на колено, созерцал свои пальцы. Молодой человек, не двигаясь, смотрел прямо перед собой.
Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, аккуратно одетый, он твердо стоял на ногах – один из самых располагающих к себе мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что, ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, думая этим притворством чего-то от меня добиться. Он не смел выглядеть таким чистым и честным. Мысленно я сказал себе: «Что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда…» От возмущения я готов был швырнуть свою шляпу на землю и растоптать ее, как сделал однажды на моих глазах шкипер итальянской баржи, когда его негодяй помощник запутался с якорями, собираясь отшвартоваться на рейде, где стояло много судов. Я спрашивал себя, видя Джима таким спокойным: «Глуп он или груб до бесчувствия?» Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. Прошу заметить: меня нимало не интересовало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и послужил основанием официального следствия.
– Этот старый негодяй, там, наверху, обозвал меня подлецом, – сказал капитан «Патны».
Узнал ли он меня? Думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами, я улыбался; «подлец» было самым мягким приветствием из всех вылетевших в открытое окно и коснувшихся моего слуха.
– Неужели? – сказал я, почему-то не сумев придержать язык за зубами.
Он кивнул утвердительно, снова укусил себя за палец и тихонько выругался; затем посмотрел на меня с мрачным бесстыдством и воскликнул:
– Ба! Тихий океан велик! Вы, проклятые англичане, можете делать все, что вам угодно. Я знаю, где найдется место для такого человека, как я; меня хорошо знают в Апиа, в Гонолулу, в…
Он приостановился, а я легко мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать нечего – я сам знаком с этой породой. Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь одинаково приятна во всякой компании. Я через это прошел и теперь не хочу с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из этой дурной компании – за неимением ли морального… как бы это сказать… морального положения или по иным не менее важным причинам – вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные почтительные коммерческие воры, которых вы, господа, у себя принимаете. А ведь подлинной необходимости так поступать у вас нет. Вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и разнообразных побуждений.
– Вы, англичане, все поголовно – негодяи, – продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина (право, сейчас я не припомню, какой маленький порт у берегов Балтики осквернился, породив эту редкую птицу). – Чего вы орете? А? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый негодяй черт знает как на меня раскричался.
Вся его туша тряслась с головы до ног.
– Вот так вы, англичане, всегда поступаете: шумите, кричите из-за всякого пустяка, потому только, что я не родился в вашей проклятой стране. Берите мое свидетельство. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!
Он плюнул.
– Я приму американское подданство! – кричал он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых тисков, которые не позволяли ему сойти с места. Он так разгорячился, что макушка его головы буквально дымилась. Меня удерживало любопытство – самая яркая из всех эмоций, и я не уходил, – я хотел знать, как примет новости тот юноша, который, засунув руки в карманы и стоя спиной к тротуару, взирал поверх зеленых клумб площади на желтый портал отеля «Малабар». Он взирал с видом человека, собиравшегося прогуляться, и словно ждал только, чтобы друг к нему присоединился. Вот каким он выглядел, и это было отвратительно. Я ждал. Я думал, что он будет потрясен, пришиблен, станет корчиться, как посаженный на булавку жук… И… я почти боялся это увидеть.
Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, уличенным не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Самая элементарная порядочность препятствует нам совершать преступления, но от слабости неведомой, а может быть, лишь подозреваемой, от слабости скрытой, за которой можно следить или не следить, вооружаться против нее или мужественно ее презирать, – от этой слабости ни один из нас не застрахован. Нас втягивает в ловушку, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и, однако, дух может выжить – пережить осуждение и, клянусь Юпитером, пережить повешение. А бывают проступки – иной раз они кажутся совсем незначительными, – которые кое-кого из нас убивают.
Я наблюдал за этим юношей, мне нравилась его внешность; таких, как он, я знал, – устои у него были хорошие. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей – мужчин и женщин, о которых не скажешь, что они умны или талантливы, но живут они честно и мужественно. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество, я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению, о силе сопротивляемости, не изящной, если хотите, но ценной, о бездумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и вовне, перед властью природы и заманчивым развратом людей… Такое упорство держится на вере, и ее не сокрушат ни факты, ни дурной пример. Все это прямого отношения к Джиму не имеет, но внешность его была так типична для тех добрых, глупых малых, с которыми чувствуешь себя приятно, – людей, не тревожимых капризами ума и, скажем, развращенностью нервов. Такому человеку вы по одному его виду доверили бы палубу – говорю образно и как профессионал. Я бы доверил, а мне полагается это знать. Разве я в свое время не обучал юношей хитростям моря – хитростям, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и, однако, каждый день нужно заново внедрять их в молодые головы.
Ко мне море было великодушно, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки – иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были славными моряками, – тогда мне кажется, что и я у моря в долгу не остался. Вернись я завтра на родину, ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока, и свежий глубокий голос прозвучит над моей головой: «Помните меня, сэр? Как! Да ведь я такой-то. Был совсем желторотым юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание». Уверяю вас, радостно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду. Бросив только один взгляд на этого юношу, я бы доверил ему палубу и заснул сладким сном. А оказывается, это было бы небезопасно. Страшно становилось об этом думать. Он выглядел таким же естественным и не фальшивым, как новенький соверен; однако в его металле была какая-то дьявольская лигатура. Сколько же? Совсем немного, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого, крохотная капелька. Однако, когда он так стоял с видом «на все наплевать», вы начинали думать: «уж не отчеканен ли он весь из меди».
Поверить этому я не мог. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет страдать – ведь есть же профессиональная честь. Двое других – эти парни не идут в счет – заметили своего капитана и стали медленно к нам приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимы невооруженному глазу. Они усмехались, быть может, обменивались шутками. У одного из них была сломана рука; другой – долговязый субъект с седыми усами – был главный механик, личность во многих отношениях замечательная. Для меня они оба были ничто. Они подошли к нам. Шкипер тупо уставился в землю; казалось, от какой-то страшной болезни, неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот, – должно быть, хотел с ними заговорить. Но тут какая-то мысль вдруг пришла ему в голову. Толстые багровые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он вперевалку к гхарри и начал дергать дверную ручку с таким злобным нетерпением, что, казалось, все сооружение вот-вот вместе с пони повалится набок.
Возница, оторванный от исследования своей ступни и уцепившись обеими руками за козлы, повернулся и стал смотреть, как огромная туша ввалилась в его повозку. Маленькая гхарри тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные ляжки, полосатая спина и мучительные усилия этой пестрой туши влезть в нору производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как гротескные видения во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что маленький ящик на колесах лопнет, словно спелый стручок, но он только осел, заскрипели рессоры, и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, голова его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно воздушный шар на привязи, плотная, фыркающая, злобная. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса, и заревел на него, приказывая трогаться в путь. Куда? В Тихий океан?
Возница занес хлыст, пони захрапел, поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. В Апиа? В Гонолулу? У шкипера было в запасе шесть тысяч миль тропиков, а точного адреса я не слыхал. Фыркающий пони в одно мгновение унес его в «вечность», и больше я его не видел. Этого мало: я не видел никого, кто бы встречал его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, оставив за собой целое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился, и особенно нелепым казалось то, что он как будто прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу не видел я с тех пор гнедого пони с разорванным ухом и темного возницу из Тамилы, исследующего свою больную ступню. Тихий океан и в самом деле велик, но, – нашел ли шкипер арену для развития своих талантов или нет, – факт остается фактом: он умчался в пространство, точно ведьма на помеле. Маленький человечек с рукой на перевязи пустился было за экипажем, блея на бегу: «Капитан! Эй, капитан! Послушайте!» Но, пробежав несколько шагов, остановился, опустил голову и побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек, стоявший поодаль, круто повернулся. Больше никаких движений он не делал и снова застыл на месте.
Все это произошло значительно скорее, чем я рассказываю. Через секунду на сцене появился клерк-полукровка, посланный Арчи заняться моряками с «Патны». Преисполненный усердия, он выскочил без шапки, озираясь направо и налево. Миссия его была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной персоны, однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же завязал разговор с парнем, у которого рука была на перевязи. Как оказалось, парень стремился затеять ссору. Он заявил, что не желает подчиняться приказаниям – «ну, нет, черт побери». Его не запугаешь враками. Он не намерен выслушивать грубости от «подобной личности», даже если тот и не врет. У него есть твердое решение – лечь в постель.
«Не будь вы проклятым португальцем, – услышал я его крик, – вы бы поняли, что госпиталь – единственное подходящее для меня место».
Он поднес здоровый кулак к носу своего собеседника. Стала собираться толпа; клерк растерялся, но, делая все возможное, чтобы не уронить своего достоинства, пробовал объясниться. Я ушел, не дождавшись конца.
Случилось так, что в то время в госпитале лежал один из моих матросов; за день до начала следствия я зашел его проведать и увидел в палате того самого маленького человека; он метался, бредил, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвисшими седыми усами также ютился в госпитале. Помню, я обратил внимание, как он улизнул во время спора – ушел, не то волоча ноги, не то прихрамывая и стараясь иметь вид независимый. По-видимому, он не был новичком в порту и направился прямехонько в пивную Мариане, находившуюся неподалеку от базара. Этот бродяга Мариане был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту потакал его порочным наклонностям; теперь он встретил его раболепно и, снабдив батареей бутылок, запер в верхней комнате своего вертепа. По-видимому, долговязый субъект желал спрятаться, опасаясь преследования. Много времени спустя Мариане явился как-то на борт моего судна, чтобы получить с баталера деньги за сигары, и сообщил мне, что для долговязого парня готов был сделать и больше, не задавая вопросов, в благодарность за какую-то гнусную услугу, некогда оказанную ему этим субъектом. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, вытаращил огромные черные глаза – в них блеснули слезы – и воскликнул: «Антонио всегда будет помнить, Антонио всегда будет помнить!»
Какова была эта услуга, я так никогда в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность находиться под замком в комнате, где стояли стол, стул, на полу лежал матрас, да в углу куча обвалившейся штукатурки. Долговязый субъект, отдавшийся безудержному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какие были у Мариане. Так продолжалось до тех пор, пока, к вечеру третьего дня, субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не решился обратиться в бегство от легиона стоножек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с маленькой лестницы, рухнул прямо на живот Мариане, затем вскочил и, как кролик, ринулся на улицу. Рано утром полисмен нашел его в куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на казнь, и он геройски сражался за свою голову; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно, и в таком настроении пребывал уже два дня. На фоне подушки его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным; оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, не будь этой странной тревоги, светившейся в его стеклянных, блестящих глазах, – словно чудовище, безмолвно притаившееся за застекленной рамой. Он был так удивительно спокоен, что я возымел нелепую надежду получить от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела.
Не могу сказать, почему мне так хотелось разобраться в деталях позорного происшествия, в конце концов оно касалось меня лишь как члена известной корпорации. Если хотите, называйте это нездоровым любопытством. Как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся нащупать какую-то тайную причину – смягчающие вину обстоятельства. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся взять верх над самым стойким призраком, созданным человеком, – гнетущим сомнением, обволакивающим, как туман, гложущим, словно червь, более жутким, чем уверенность в смерти, – сомнением в верховной власти твердо установленных норм. Верил ли я в чудо? И почему так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени извинения для этого молодого человека, которого никогда раньше не встречал.