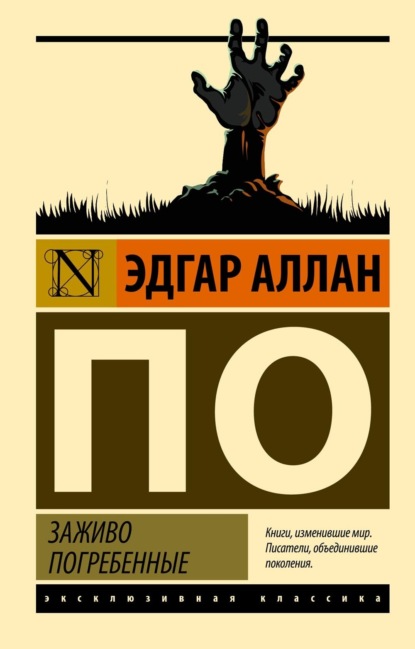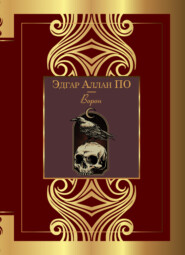По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Заживо погребенные
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Его величество огорчен.
Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном; герцог же на прощание заверил своего партнера, «que s'il n'e?t pas еtе De L'Omelette, il n'aurait point d'objection d'?tre le Diable»[31 - Что если бы он не был де л'Омлетом, он не возражал бы против того, чтобы быть Дьяволом (франц.).].
На стенах иерусалимских[32 - © Перевод. З. Александрова.]
Intonsos rigidam in frontem ascendere canos
Passus erat…
Lucan[33 - Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный… Лукан (лат.).] Перевод: дикий кабан.
– Поспешим на стены, – сказал Абель-Фиттим, обращаясь к Бузи бен Леви и Симону фарисею в десятый день месяца Таммуза, в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое. – Поспешим на крепостной вал, примыкающий к Вениаминовым воротам, в граде Давидовом, откуда виден лагерь необрезанных; ибо близится восход солнца, последний час четвертой стражи, и неверные, во исполнение обещания Помпея, приготовили нам жертвенных агнцев.
Симон, Абель-Фиттим и Бузи бен Леви были гизбаримами, то есть младшими сборщиками жертвований в священном граде Иерусалиме.
– Воистину, – отозвался фарисей, – поспешим, ибо подобная щедрость в язычниках весьма необычна, зато переменчивость всегда отличала этих поклонников Ваала.
– Что они изменчивы и коварны, это столь же истинно, как Пятикнижие, – сказал Бузи бен Леви, – но только по отношению к народу Адонаи. Слыхано ли, чтобы аммонитяне поступались собственной выгодой? Невелика щедрость – поставлять нам жертвенных агнцев по тридцати серебряных сиклей с головы!
– Ты забываешь, бен Леви, – промолвил Абель-Фиттим, – что римлянин Помпеи, святотатственно осаждающий град Всевышнего, может подозревать, что купленных жертвенных агнцев мы употребим на потребности нашего тела, а не духа.
– Клянусь пятью углами моей бороды! – воскликнул фарисей, принадлежавший к секте так называемых топальщиков (небольшой группе праведников, которые так усердно истязали себя, ударяя ногами о мостовую, что были живым упреком для менее ревностных верующих и камнем преткновения на пути менее талантливых пешеходов). – Клянусь пятью углами этой бороды, которую мне, как священнослужителю, не дозволено брить! Неужели мы дожили до того, что римский богохульник, язычник и выскочка осмелился заподозрить нас в присвоении священных предметов на потребу плоти? Неужели мы дожили?..
– Не станем допытываться о побуждениях филистимлянина, – прервал его Абель-Фиттим, – ибо сегодня впервые пользуемся его великодушием, а может быть, жаждой наживы. Поспешим лучше на городскую стену, дабы не пустовал жертвенник, чей огонь негасим под дождями небесными, а дымный столп неколеблем бурями.
Та часть города, куда поспешали наши почтенные гизбаримы и которая носила имя своего строителя царя Давида, почиталась наиболее укрепленной частью Иерусалима, ибо была расположена на крутом и высоком Сионском холме. Вдоль широкого и глубокого кругового рва, вырубленного в скалистом грунте, была воздвигнута крепкая стена. На стене, через равные промежутки, подымались четырехугольные башни белого мрамора, из которых самая низкая имела в вышину шестьдесят, а самая высокая – сто двадцать локтей. Но вблизи Вениаминовых ворот стена отступала от края рва. Между рвом и основанием стены возвышалась отвесная скала в двести пятьдесят локтей, составлявшая часть крутой горы Мориа. Таким образом, взойдя на башню, носившую название Адони-Бэзек, – самую высокую из всех башен вокруг Иерусалима, откуда обычно велись переговоры с осаждавшими, – Симон и его спутники могли видеть неприятельский лагерь с высоты, на много футов превышающей пирамиду Хеопса, а на несколько футов – даже храм Бела.
– Воистину, – вздохнул фарисей, опасливо взглянув с этой головокружительной высоты, – необрезанных – что песку в море или саранчи в пустыне! Долина Царя стала долиной Адоммина.
– А все же, – заметил бен Леви, – покажи мне хоть одного неверного – от алефа до тау – от пустыни до крепостных стен, который казался бы крупнее буквы «иод»!
– Спускайте корзину с серебряными сиклями, – крикнул римский солдат грубым и хриплым голосом, казалось, исходившим из подземных владений Плутона, – спускайте корзину с проклятыми монетами, названия которых благородному римлянину не выговорить – язык сломаешь! Так-то вы благодарны нашему господину Помпею, который снизошел до ваших языческих нужд? Колесница Феба – истинного бога! – уже час, как катит по небу, а ведь вы должны были прийти на крепостную стену к восходу солнца. Эдепол! Или вы думаете, что нам, покорителям мира, только и дела, что дожидаться у каждой паршивой стены ради торга со всякими собаками? Спускайте, говорю! Да глядите, чтобы ваши дрянные монеты были новенькие и полновесные!
– Эль Элоим! – воскликнул фарисей, когда резкий голос центуриона прогремел среди скал и замер у стен храма. – Эль Элоим! Что еще за бог Феб? Кого призывает этот богохульник? Ты, Бузи бен Леви, начитан в писаниях необрезанных и жил среди тех, что имеют дело с терафимом; скажи, о ком толкует язычник? О Нергале? Об Ашиме? О Нибхазе? Тартаке? Адрамелехе? Анамалехе? О Суккот-Бенифе? О Дагоне? Белиале? Ваал-Перите? Ваал-Пеоре? Или Ваал-Зебубе?
– Ни о ком из них. Но не отпускай веревку чересчур быстро; корзина может зацепиться за выступ вон той скалы, и тогда горе нам! – ибо ценности святилища будут из нее извергнуты.
С помощью грубого приспособления тяжело нагруженную корзину спустили в толпу солдат; и сверху было смутно видно, как римляне собрались вокруг; но огромная высота и туман мешали разглядеть, что там делается.
Прошло полчаса.
– Мы опоздаем, – вздохнул по прошествии этого времени фарисей, заглядывая в пропасть, – мы опоздаем! Кафалим снимет нас с должности.
– Никогда больше не вкушать нам от тука земли! – подхватил Абель-Фиттим. – Не умащать бороды благовонным ладаном, не повивать чресел тонким храмовым полотном.
– Рака`! – выругался бен Леви. – Рака! Уж не вздумали ли они украсть наши деньги? О, святой Моисей! Неужели они взвешивают священные сикли скинии?
– Вот наконец-то сигнал! – воскликнул фарисей. – Сигнал! Подымай, Абель-Фиттим! Тяни и ты, Бузи бен Леви! Либо филистимляне еще не отпустили корзину, либо Господь смягчил их сердца, и они положили нам увесистое животное!
И гизбаримы изо всех сил тянули за веревку, а корзина медленно поднималась среди сгустившегося тумана.
* * *
– Бошох хи! – вырвалось у бен Леви спустя час, когда на конце веревки обозначилось что-то неясное. – Бошох хи!
– Бошох хи! Вот тебе на! Это, должно быть, баран из энгедийских рощ, косматый, как долина Иосафата!
– Это первенец стада, – сказал Абель-Фиттим. – Я узнаю его по блеянию и по невинным очертаниям тела. Глаза его прекраснее самоцветов из священного нагрудника, а мясо подобно меду Хеврона.
– Это тучный телец с пастбищ Васана, – промолвил фарисей. – Язычники поступили великодушно. Воспоем же хвалу. Вознесем благодарность на гобоях и псалтерионах. Заиграем на арфах и на кимвалах, на цитрах и саквебутах.
Только когда корзина была уже в нескольких футах от гизбаримов, глухое хрюканье возвестило им приближение огромной свиньи.
– Эль Эману! – воскликнули все трое, возводя глаза к небу и выпуская из рук веревку, от чего освобожденная свинья полетела на головы филистимлян. – Эль Эману! С нами бог! Это трефное мясо!
Бон-Бон[34 - © Перевод. М. Энгельгардт.]
Quand un bon vin meuble mon estomac,
Je suis plus savant que Balzac -
Plus sage que Pibrac;
Mon bras seul faisant l'attaque
De la nation Cossaque,
La mettroit au sac;
De Charon je passerois le lac
En dormant dans son bac;
J'irois au fier Eac,
Sans que mon coeur fit tic ni tac,
Prеsenter du tabac[35 - Когда я в глотку лью коньяк,Я сам ученей, чем Бальзак,И я мудрее, чем Пибрак,Мне нипочем любой казак.Пойду на рать таких воякИ запихну их в свой рюкзак.Могу залезть к Харону в бакИ спать, пока везет чудак,А позови меня Эак,Опять не струшу я никак.И сердце тут ни тик, ни так,Я только гаркну: «Сыпь табак!» (франц.)(Пер. В. В. Левика)].
Французский водевиль
Что Пьер Бон-Бон был ресторатор с необыкновенными достоинствами, этого, я полагаю, не решится отрицать никто из людей, посещавших маленькое кафе в Cul-de-Sac Лефебвр в Руане. Что Пьер Бон-Бон был не менее выдающийся философ своего времени, это еще неоспоримее. Без сомнения, его паштеты были безупречны; но какое перо способно воздать должное его эссе о природе, его мыслям о душе, его наблюдениям о разуме? Если его омлеты, его фрикандо были неоценимы, то какой литератор его эпохи не заплатил бы за «идеи Бон-Бона» вдвое больше, чем за все «Идеи» всех остальных «ученых», вместе взятых? Бон-Бон рылся в таких библиотеках, где никто другой не рылся, прочел столько, что никто другой не мог бы даже представить себе такой груды книг, понял больше, чем всякий другой считал возможным понять; и хотя в эпоху его славы нашлись в Руане авторы, утверждавшие, будто «его высказывания не обладают чистотой слога Академии, ни глубиной Лицея», хотя его доктрины были поняты далеко не всеми, но отсюда вовсе не следует, что их было трудно понять. Я думаю, что многие считали их темными именно вследствие их очевидности. Бон-Бону сам Кант обязан своей метафизикой. Он не был ни платоником, ни, строго говоря, аристотелианцем; он не тратил, подобно новейшему Лейбницу, драгоценных часов, которые могли бы быть употреблены на изобретение какого-нибудь фрикасе, на анализ какого-нибудь ощущения, – он не тратил их на дерзкие попытки примирить масло и воду этических споров. Вовсе нет. Бон-Бон был иониец – Бон-Бон был также италиец. Он рассуждал ? priori[36 - На основании ранее известного (лат.).], он рассуждал также ? posteriori[37 - Исходя из опыта (лат.).]. Его идеи были врожденные или наоборот приобретенные. Он верил в Георгия Трапезундского, верил в Виссариона. Бон-Бон был рьяный бон-бонист.
Я говорю о философе, как о рестораторе. Но да не подумает кто-либо из моих друзей, что наш герой недостаточно ценил важность и достоинство профессиональных обязанностей, доставшихся ему по наследству. Вовсе нет. Трудно сказать, какой стороной своей деятельности он больше гордился. По его мнению, сила инстинкта имела теснейшую связь со способностями желудка. Я, право, не знаю, стал ли бы он спорить с китайцами, по мнению которых душа помещается в животе. Во всяком случае греки, по его мнению, были совершенно правы, обозначая одним и тем же именем душу и грудобрюшную преграду[38 - ?????? (греч.).]. Говоря это, я отнюдь не думаю намекнуть на его обжорство или какой-либо недостаток, предосудительный для метафизика. Если Пьер Бон-Бон имел свои слабости (какой же великий человек не имел их тысячи?), если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, то самые невинные, которые в другом человеке были бы, пожалуй, сочтены за добродетели. Об одной из этих слабостей я не стал бы даже упоминать, если бы она не была крайне выдающейся чертой в его характере. Он никогда не мог удержаться, если представлялся случай что-нибудь купить или продать.
Он не был корыстолюбив, нет. Для нашего философа вовсе не требовалось, чтобы сделка принесла ему выгоду. Лишь бы сделка состоялась – какого угодно рода, на каких угодно условиях, при каких угодно обстоятельствах, – и торжествующая улыбка в течение многих дней озаряла его лицо, а лукавое подмигивание свидетельствовало о его проницательности.
Такая странная особенность в любую эпоху возбудила бы внимание и толки. А если бы она осталась незамеченной в эпоху, к которой относится наш рассказ, так это было бы истинным чудом. Вскоре обратили внимание, что во всех подобных случаях улыбка Бон-Бона резко отличалась от добродушного смеха, которым он сопровождал собственные шутки или приветствовал знакомого. Пошли тревожные слухи; рассказывались истории опасных сделок, заключенных на скорую руку и оплаканных на досуге; приводились примеры необъяснимых побуждений, смутных желаний, противоестественных наклонностей, внушенных виновником всякого зла для каких-то своих собственных целей.
Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном; герцог же на прощание заверил своего партнера, «que s'il n'e?t pas еtе De L'Omelette, il n'aurait point d'objection d'?tre le Diable»[31 - Что если бы он не был де л'Омлетом, он не возражал бы против того, чтобы быть Дьяволом (франц.).].
На стенах иерусалимских[32 - © Перевод. З. Александрова.]
Intonsos rigidam in frontem ascendere canos
Passus erat…
Lucan[33 - Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный… Лукан (лат.).] Перевод: дикий кабан.
– Поспешим на стены, – сказал Абель-Фиттим, обращаясь к Бузи бен Леви и Симону фарисею в десятый день месяца Таммуза, в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое. – Поспешим на крепостной вал, примыкающий к Вениаминовым воротам, в граде Давидовом, откуда виден лагерь необрезанных; ибо близится восход солнца, последний час четвертой стражи, и неверные, во исполнение обещания Помпея, приготовили нам жертвенных агнцев.
Симон, Абель-Фиттим и Бузи бен Леви были гизбаримами, то есть младшими сборщиками жертвований в священном граде Иерусалиме.
– Воистину, – отозвался фарисей, – поспешим, ибо подобная щедрость в язычниках весьма необычна, зато переменчивость всегда отличала этих поклонников Ваала.
– Что они изменчивы и коварны, это столь же истинно, как Пятикнижие, – сказал Бузи бен Леви, – но только по отношению к народу Адонаи. Слыхано ли, чтобы аммонитяне поступались собственной выгодой? Невелика щедрость – поставлять нам жертвенных агнцев по тридцати серебряных сиклей с головы!
– Ты забываешь, бен Леви, – промолвил Абель-Фиттим, – что римлянин Помпеи, святотатственно осаждающий град Всевышнего, может подозревать, что купленных жертвенных агнцев мы употребим на потребности нашего тела, а не духа.
– Клянусь пятью углами моей бороды! – воскликнул фарисей, принадлежавший к секте так называемых топальщиков (небольшой группе праведников, которые так усердно истязали себя, ударяя ногами о мостовую, что были живым упреком для менее ревностных верующих и камнем преткновения на пути менее талантливых пешеходов). – Клянусь пятью углами этой бороды, которую мне, как священнослужителю, не дозволено брить! Неужели мы дожили до того, что римский богохульник, язычник и выскочка осмелился заподозрить нас в присвоении священных предметов на потребу плоти? Неужели мы дожили?..
– Не станем допытываться о побуждениях филистимлянина, – прервал его Абель-Фиттим, – ибо сегодня впервые пользуемся его великодушием, а может быть, жаждой наживы. Поспешим лучше на городскую стену, дабы не пустовал жертвенник, чей огонь негасим под дождями небесными, а дымный столп неколеблем бурями.
Та часть города, куда поспешали наши почтенные гизбаримы и которая носила имя своего строителя царя Давида, почиталась наиболее укрепленной частью Иерусалима, ибо была расположена на крутом и высоком Сионском холме. Вдоль широкого и глубокого кругового рва, вырубленного в скалистом грунте, была воздвигнута крепкая стена. На стене, через равные промежутки, подымались четырехугольные башни белого мрамора, из которых самая низкая имела в вышину шестьдесят, а самая высокая – сто двадцать локтей. Но вблизи Вениаминовых ворот стена отступала от края рва. Между рвом и основанием стены возвышалась отвесная скала в двести пятьдесят локтей, составлявшая часть крутой горы Мориа. Таким образом, взойдя на башню, носившую название Адони-Бэзек, – самую высокую из всех башен вокруг Иерусалима, откуда обычно велись переговоры с осаждавшими, – Симон и его спутники могли видеть неприятельский лагерь с высоты, на много футов превышающей пирамиду Хеопса, а на несколько футов – даже храм Бела.
– Воистину, – вздохнул фарисей, опасливо взглянув с этой головокружительной высоты, – необрезанных – что песку в море или саранчи в пустыне! Долина Царя стала долиной Адоммина.
– А все же, – заметил бен Леви, – покажи мне хоть одного неверного – от алефа до тау – от пустыни до крепостных стен, который казался бы крупнее буквы «иод»!
– Спускайте корзину с серебряными сиклями, – крикнул римский солдат грубым и хриплым голосом, казалось, исходившим из подземных владений Плутона, – спускайте корзину с проклятыми монетами, названия которых благородному римлянину не выговорить – язык сломаешь! Так-то вы благодарны нашему господину Помпею, который снизошел до ваших языческих нужд? Колесница Феба – истинного бога! – уже час, как катит по небу, а ведь вы должны были прийти на крепостную стену к восходу солнца. Эдепол! Или вы думаете, что нам, покорителям мира, только и дела, что дожидаться у каждой паршивой стены ради торга со всякими собаками? Спускайте, говорю! Да глядите, чтобы ваши дрянные монеты были новенькие и полновесные!
– Эль Элоим! – воскликнул фарисей, когда резкий голос центуриона прогремел среди скал и замер у стен храма. – Эль Элоим! Что еще за бог Феб? Кого призывает этот богохульник? Ты, Бузи бен Леви, начитан в писаниях необрезанных и жил среди тех, что имеют дело с терафимом; скажи, о ком толкует язычник? О Нергале? Об Ашиме? О Нибхазе? Тартаке? Адрамелехе? Анамалехе? О Суккот-Бенифе? О Дагоне? Белиале? Ваал-Перите? Ваал-Пеоре? Или Ваал-Зебубе?
– Ни о ком из них. Но не отпускай веревку чересчур быстро; корзина может зацепиться за выступ вон той скалы, и тогда горе нам! – ибо ценности святилища будут из нее извергнуты.
С помощью грубого приспособления тяжело нагруженную корзину спустили в толпу солдат; и сверху было смутно видно, как римляне собрались вокруг; но огромная высота и туман мешали разглядеть, что там делается.
Прошло полчаса.
– Мы опоздаем, – вздохнул по прошествии этого времени фарисей, заглядывая в пропасть, – мы опоздаем! Кафалим снимет нас с должности.
– Никогда больше не вкушать нам от тука земли! – подхватил Абель-Фиттим. – Не умащать бороды благовонным ладаном, не повивать чресел тонким храмовым полотном.
– Рака`! – выругался бен Леви. – Рака! Уж не вздумали ли они украсть наши деньги? О, святой Моисей! Неужели они взвешивают священные сикли скинии?
– Вот наконец-то сигнал! – воскликнул фарисей. – Сигнал! Подымай, Абель-Фиттим! Тяни и ты, Бузи бен Леви! Либо филистимляне еще не отпустили корзину, либо Господь смягчил их сердца, и они положили нам увесистое животное!
И гизбаримы изо всех сил тянули за веревку, а корзина медленно поднималась среди сгустившегося тумана.
* * *
– Бошох хи! – вырвалось у бен Леви спустя час, когда на конце веревки обозначилось что-то неясное. – Бошох хи!
– Бошох хи! Вот тебе на! Это, должно быть, баран из энгедийских рощ, косматый, как долина Иосафата!
– Это первенец стада, – сказал Абель-Фиттим. – Я узнаю его по блеянию и по невинным очертаниям тела. Глаза его прекраснее самоцветов из священного нагрудника, а мясо подобно меду Хеврона.
– Это тучный телец с пастбищ Васана, – промолвил фарисей. – Язычники поступили великодушно. Воспоем же хвалу. Вознесем благодарность на гобоях и псалтерионах. Заиграем на арфах и на кимвалах, на цитрах и саквебутах.
Только когда корзина была уже в нескольких футах от гизбаримов, глухое хрюканье возвестило им приближение огромной свиньи.
– Эль Эману! – воскликнули все трое, возводя глаза к небу и выпуская из рук веревку, от чего освобожденная свинья полетела на головы филистимлян. – Эль Эману! С нами бог! Это трефное мясо!
Бон-Бон[34 - © Перевод. М. Энгельгардт.]
Quand un bon vin meuble mon estomac,
Je suis plus savant que Balzac -
Plus sage que Pibrac;
Mon bras seul faisant l'attaque
De la nation Cossaque,
La mettroit au sac;
De Charon je passerois le lac
En dormant dans son bac;
J'irois au fier Eac,
Sans que mon coeur fit tic ni tac,
Prеsenter du tabac[35 - Когда я в глотку лью коньяк,Я сам ученей, чем Бальзак,И я мудрее, чем Пибрак,Мне нипочем любой казак.Пойду на рать таких воякИ запихну их в свой рюкзак.Могу залезть к Харону в бакИ спать, пока везет чудак,А позови меня Эак,Опять не струшу я никак.И сердце тут ни тик, ни так,Я только гаркну: «Сыпь табак!» (франц.)(Пер. В. В. Левика)].
Французский водевиль
Что Пьер Бон-Бон был ресторатор с необыкновенными достоинствами, этого, я полагаю, не решится отрицать никто из людей, посещавших маленькое кафе в Cul-de-Sac Лефебвр в Руане. Что Пьер Бон-Бон был не менее выдающийся философ своего времени, это еще неоспоримее. Без сомнения, его паштеты были безупречны; но какое перо способно воздать должное его эссе о природе, его мыслям о душе, его наблюдениям о разуме? Если его омлеты, его фрикандо были неоценимы, то какой литератор его эпохи не заплатил бы за «идеи Бон-Бона» вдвое больше, чем за все «Идеи» всех остальных «ученых», вместе взятых? Бон-Бон рылся в таких библиотеках, где никто другой не рылся, прочел столько, что никто другой не мог бы даже представить себе такой груды книг, понял больше, чем всякий другой считал возможным понять; и хотя в эпоху его славы нашлись в Руане авторы, утверждавшие, будто «его высказывания не обладают чистотой слога Академии, ни глубиной Лицея», хотя его доктрины были поняты далеко не всеми, но отсюда вовсе не следует, что их было трудно понять. Я думаю, что многие считали их темными именно вследствие их очевидности. Бон-Бону сам Кант обязан своей метафизикой. Он не был ни платоником, ни, строго говоря, аристотелианцем; он не тратил, подобно новейшему Лейбницу, драгоценных часов, которые могли бы быть употреблены на изобретение какого-нибудь фрикасе, на анализ какого-нибудь ощущения, – он не тратил их на дерзкие попытки примирить масло и воду этических споров. Вовсе нет. Бон-Бон был иониец – Бон-Бон был также италиец. Он рассуждал ? priori[36 - На основании ранее известного (лат.).], он рассуждал также ? posteriori[37 - Исходя из опыта (лат.).]. Его идеи были врожденные или наоборот приобретенные. Он верил в Георгия Трапезундского, верил в Виссариона. Бон-Бон был рьяный бон-бонист.
Я говорю о философе, как о рестораторе. Но да не подумает кто-либо из моих друзей, что наш герой недостаточно ценил важность и достоинство профессиональных обязанностей, доставшихся ему по наследству. Вовсе нет. Трудно сказать, какой стороной своей деятельности он больше гордился. По его мнению, сила инстинкта имела теснейшую связь со способностями желудка. Я, право, не знаю, стал ли бы он спорить с китайцами, по мнению которых душа помещается в животе. Во всяком случае греки, по его мнению, были совершенно правы, обозначая одним и тем же именем душу и грудобрюшную преграду[38 - ?????? (греч.).]. Говоря это, я отнюдь не думаю намекнуть на его обжорство или какой-либо недостаток, предосудительный для метафизика. Если Пьер Бон-Бон имел свои слабости (какой же великий человек не имел их тысячи?), если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, то самые невинные, которые в другом человеке были бы, пожалуй, сочтены за добродетели. Об одной из этих слабостей я не стал бы даже упоминать, если бы она не была крайне выдающейся чертой в его характере. Он никогда не мог удержаться, если представлялся случай что-нибудь купить или продать.
Он не был корыстолюбив, нет. Для нашего философа вовсе не требовалось, чтобы сделка принесла ему выгоду. Лишь бы сделка состоялась – какого угодно рода, на каких угодно условиях, при каких угодно обстоятельствах, – и торжествующая улыбка в течение многих дней озаряла его лицо, а лукавое подмигивание свидетельствовало о его проницательности.
Такая странная особенность в любую эпоху возбудила бы внимание и толки. А если бы она осталась незамеченной в эпоху, к которой относится наш рассказ, так это было бы истинным чудом. Вскоре обратили внимание, что во всех подобных случаях улыбка Бон-Бона резко отличалась от добродушного смеха, которым он сопровождал собственные шутки или приветствовал знакомого. Пошли тревожные слухи; рассказывались истории опасных сделок, заключенных на скорую руку и оплаканных на досуге; приводились примеры необъяснимых побуждений, смутных желаний, противоестественных наклонностей, внушенных виновником всякого зла для каких-то своих собственных целей.