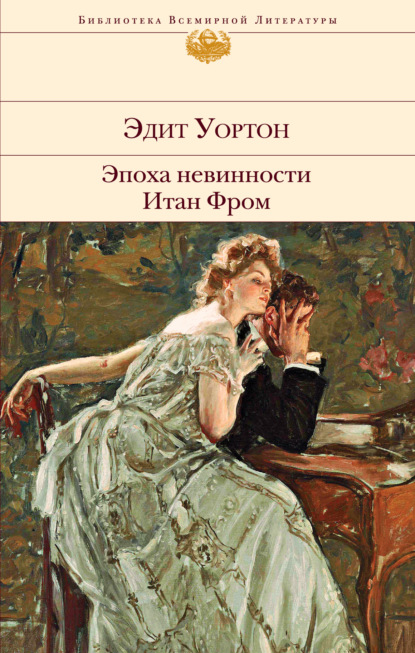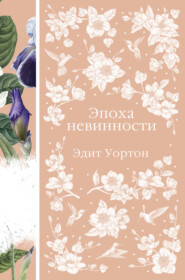По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Эпоха невинности. Итан Фром
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что, и плакать здесь тоже не принято? Да, наверно, и нужды здесь нет плакать, в таком-то раю! – сказала она со смехом и, поправив выбившиеся пряди, взялась за ручку чайника. Его вдруг обожгло сознание, что он назвал ее по имени – «Эллен», и повторил это дважды, а она не заметила. Далеко, увиденная не с той стороны бинокля маячила еле видимая фигурка Мэй Уэлланд – маленькая, светлая – на фоне Нью-Йорка.
Внезапно в дверь просунулась голова Настасии, чтобы произнести что-то на своем звучном итальянском.
Мадам Оленска едва успела вновь пригладить волосы и бросить одобрительное «Gia-gia», как в гостиную вступил герцог Сент-Острей, ведя впереди себя нечто невообразимое: огромную, в ниспадающих мехах даму в черном парике и красных перьях.
– Дорогая моя графиня, вот веду к вам для знакомства старинную мою приятельницу миссис Стратерс. На прошлый прием ее не пригласили, а она выразила желание с вами познакомиться.
Герцог так и сиял, и мадам Оленска выступила вперед, приветствуя странную пару и приглашая ее войти. Казалось, она не замечает ни несоответствия этой пары друг другу, ни некоторой бесцеремонности, какую проявил герцог, вдруг приведя к ней свою приятельницу, но надо отдать ему должное: как видел Арчер, сам герцог тоже ничего этого словно не замечал.
– Разумеется, я выразила желание с вами познакомиться, моя дорогая! – вскричала миссис Стратерс своим громким раскатистым голосом, так подходившим и к резким чертам ее лица, и к вызывающему парику. – Я желаю познакомиться со всеми, кто молод, интересен и так очарователен. А еще герцог говорил мне, что вы любительница музыки, не правда ли, вы говорили это мне, герцог? Кажется, вы и сами играете на фортепьяно, ведь так? Хотите услышать игру Сарасате??[28 - Сарасате Пабло Мартин Мелитон (1844–1908) – испанский скрипач и композитор.] Он будет играть у меня в воскресенье вечером. Воскресными вечерами Нью-Йорк мается и не знает, чем себя занять. Вот я и говорю Нью-Йорку: «Приходите ко мне и развлекайтесь!» Герцог подумал, что идея послушать Сарасате вас соблазнит. Там будут и несколько ваших друзей.
Лицо мадам Оленска вспыхнуло удовольствием:
– Как вы любезны! Как приятно, что герцог подумал обо мне!
Она подвинула к чайному столику кресло, и миссис Стратерс прекрасно в нем уместилась.
– Конечно, я приеду к вам, приеду с радостью!
– Вот и чудесно, дорогая. И привезите с собой этого молодого джентльмена. – Миссис Стратерс дружески протянула руку Арчеру: – Не припоминаю вашего имени, но, конечно, встречалась с вами. С кем я только не встречалась – здесь, в Париже, в Лондоне… Вы не дипломат? У меня на приемах бывает много дипломатов. А музыку вы тоже любите? Герцог, обещайте мне его привезти!
Из-под герцогской бороды донеслось «конечно», и Арчер ретировался, изогнувшись в поклоне столь глубоком, что заныл позвоночник, и он почувствовал себя застенчивым школьником среди невнимательных и равнодушных к нему старших.
Он не жалел, что визит завершился, и даже хотел бы, чтобы это произошло раньше, тем самым избавив его от лишних эмоций. Он вышел на зимнюю вечернюю улицу, и Нью-Йорк опять стал огромным и полным опасностей, а Мэй стала прекраснейшей из женщин. Он завернул в цветочную лавку, чтобы послать ей ежедневную коробку ландышей, которую, к своему конфузу, утром послать позабыл.
Надписывая карточки и ожидая, пока принесут конверт, он окинул взглядом сумрак цветочной лавки и восхитился пучком желтых роз. Таких золотых, как солнечный свет, роз он никогда не видел, и первым его побуждением было прислать эти розы Мэй взамен ландышей. Но нет, цветы эти ей не подходили – слишком пышные, слишком гордые в этой своей огненной сияющей красоте. Повинуясь внезапному скачку настроения и почти безотчетно, он распорядился уложить розы в другую длинную коробку и, сунув свою визитную карточку в другой конверт, надписал на нем адрес графини Оленска, но затем, уже повернувшись, чтоб уйти, вернулся и вытащил карточку, оставив лежавший на коробке конверт пустым.
– Отправите их сейчас немедленно? – спросил он, указав на розы.
Продавец заверил его, что так и будет.
Глава 10
На следующий день он уговорил Мэй после ланча сбежать с ним в Парк. По обычаю старозаветных епископальных семейств Нью-Йорка в воскресные послеполуденные часы Мэй должна была сопровождать родителей в церковь, но на этот раз миссис Уэлланд простила Мэй забвение традиции, поскольку все утро та трудилась, не покладая рук, помогая ей в важнейшем деле подготовки приданого – бесчисленных дюжин постельного белья, и все это с ручной вышивкой.
День был восхитительный. Над сводом голых древесных ветвей над Моллом простиралась небесная лазурь, а снег сверкал на солнце, подобно осколкам хрусталя. Такая погода добавляла сияния красоте Мэй, щеки ее рдели, как листья молодого клена на морозе. Арчеру были приятны обращенные на Мэй взгляды, он гордился ее красотой, и простая радость собственничества вытеснила все другие чувства и сгладила все сложности и противоречия.
– Так приятно утром проснуться и вдохнуть аромат ландышей! – сказала она.
– Вчера ландыши доставили поздно. Утром я занят был…
– Но то, что ты не забываешь мне их присылать каждое утро, делает мне эти ландыши милее, чем если б ты просто распорядился присылать их изо дня в день в назначенный час, и они появлялись бы в моей комнате всякий раз вовремя и неукоснительно, как учитель музыки или как это было, например, у Гертруды Лефертс, когда они с Лоренсом женихались.
– А-а, ну на них это похоже, – со смехом протянул Арчер, оценив проницательность ее замечания.
Покосившись на ее круглую, как спелый плод щечку, он ощутил свое положение достаточно прочным и достаточно безопасным, чтоб добавить:
– Когда я вчера тебе ландыши послал, я вдруг увидел роскошные желтые розы и отправил их мадам Оленска. Ничего, что я так сделал?
– О, как это мило с твоей стороны! Она обожает такие вещи! Странно, что она ничего об этом мне не сказала. Она обедала у нас сегодня и упомянула о том, что мистер Бофорт прислал ей чудесные орхидеи, а Генри Вандерлиден – целую корзину гвоздик из Скитерклиффа. Она словно бы удивилась, что ей шлют цветы. Разве в Европе это не принято? Ей пришелся по вкусу такой обычай.
– А-а, ну, значит, Бофорт затмил меня своими орхидеями, – раздраженно бросил Арчер, а потом, вспомнив, что не положил визитку, подосадовал, что вообще заговорил об этом. Ему захотелось признаться: «Я вчера был с визитом у твоей кузины», но он не решился. Если мадам Оленска сама ничего об этом не сказала, будет неловко, если скажет он, однако, умолчав, он превращает визит в какую-то тайну, и это ему неприятно. Чтобы переменить тему, он заговорил о собственных их планах на будущее и об упрямом желании миссис Уэлланд длить и длить помолвку.
– И ты называешь это долгим! Изабель Чиверс и Реджи были помолвлены два года! А Грейс и Торли – почти полтора! Разве нам так плохо сейчас?
Возражение ее было таким традиционно девичьим, что он даже устыдился тому, что ему оно показалось по-детски глупым. Ведь она всего только повторяет слова, не раз уже кем-то сказанные. И, однако, приближаясь к своему двадцатидвухлетию, можно было бы уже начать говорить и собственные слова. Интересно, в каком возрасте «приличные» дамы обретают такую привычку? «А может, и никогда, если мы их так воспитываем», – размышлял он и вспомнил, как говорил Силлертону Джексону: «Женщины должны иметь свободу, ровно такую же, как мы…»
Теперь его задачей будет снять шоры с глаз этой молодой женщины и научить ее смотреть на мир прямо и видеть все, как есть. Но сколько поколений женщин, чьи взгляды она впитала, так и легли в семейный склеп с шорами на глазах? С легким содроганием припомнил он вычитанные в какой-то из научных книг и часто цитированные сведения о найденных в пещерах Кентукки рыбах, рождающихся без глаз, потому что им, живущим в пещерах, глаза были не нужны. Что, если к тому времени, когда он велит Мэй Уэлланд открыть глаза, в пустом ее взгляде отразится лишь пустота?
– Нам может стать гораздо лучше! Мы могли бы быть вместе, вместе путешествовать!
Лицо ее вспыхнуло радостью.
– Это было бы чудесно! – признала она. Путешествовать ей бы очень хотелось, но мама никак не поймет этого их желания делать все по-своему!
– Так «делать по-своему» – это же самое главное! – упорствовал жених.
– Ньюленд! Какой же ты оригинал! – восхитилась она.
– Оригинал! Да мы все одинаковы, как бумажные куколки, вырезанные из сложенного листа бумаги! Одинаковы, как трафарет на обоях! Неужели мы с тобой не можем выбиться из общего ряда?
– Господи… так что нам – сбежать, что ли? – засмеялась она.
– Если б ты только…
– Ты же любишь меня, Ньюленд! И я так счастлива!
– Но почему не быть еще счастливее?
– Не можем же мы вести себя, как герои романов!
– Почему не можем? Почему?
Такая его настойчивость ее, по-видимому, утомила. Невозможность была ей очевидна, но выискивать для нее причину казалось трудным и хлопотным.
– Ну, я не так умна, чтобы спорить с тобой. Но это… как бы… было бы вульгарно, – сказала она с видимым облегчением, решив, что нашла слово, после которого дальнейшая дискуссия становится невозможной.
– Ты до такой степени боишься показаться вульгарной?
Такой довод ошеломил ее.
– Конечно, боюсь, ужасно боюсь. Как и ты, наверно, – сказала она с легким раздражением в голосе.
Он молчал, нервно постукивая себя тростью по ботинку. Она же, почувствовав, что нашла верный тон для прекращения спора, продолжала уже с легким сердцем:
– Да! Я, кажется, тебе не говорила, что показала Эллен мое кольцо? Она сказала, что оправа просто изумительна. Ничего подобного даже на Рю де ля Пэ не сыщешь! Я так люблю в тебе этот вкус, этот твой эстетизм, Ньюленд!
На следующий день перед ужином, когда он, мрачный, сидел и курил у себя в кабинете, к нему заглянула Джейни. По пути домой из конторы, где он лениво, как и подобало обеспеченному молодому ньюйоркцу его круга и состояния, занимался юриспруденцией, он, против обыкновения, в клуб не зашел. Он был не в настроении и слегка раздражен. Его преследовала и угнетала мысль, что изо дня в день в один и тот же час ему предстоит делать одно и то же.
Внезапно в дверь просунулась голова Настасии, чтобы произнести что-то на своем звучном итальянском.
Мадам Оленска едва успела вновь пригладить волосы и бросить одобрительное «Gia-gia», как в гостиную вступил герцог Сент-Острей, ведя впереди себя нечто невообразимое: огромную, в ниспадающих мехах даму в черном парике и красных перьях.
– Дорогая моя графиня, вот веду к вам для знакомства старинную мою приятельницу миссис Стратерс. На прошлый прием ее не пригласили, а она выразила желание с вами познакомиться.
Герцог так и сиял, и мадам Оленска выступила вперед, приветствуя странную пару и приглашая ее войти. Казалось, она не замечает ни несоответствия этой пары друг другу, ни некоторой бесцеремонности, какую проявил герцог, вдруг приведя к ней свою приятельницу, но надо отдать ему должное: как видел Арчер, сам герцог тоже ничего этого словно не замечал.
– Разумеется, я выразила желание с вами познакомиться, моя дорогая! – вскричала миссис Стратерс своим громким раскатистым голосом, так подходившим и к резким чертам ее лица, и к вызывающему парику. – Я желаю познакомиться со всеми, кто молод, интересен и так очарователен. А еще герцог говорил мне, что вы любительница музыки, не правда ли, вы говорили это мне, герцог? Кажется, вы и сами играете на фортепьяно, ведь так? Хотите услышать игру Сарасате??[28 - Сарасате Пабло Мартин Мелитон (1844–1908) – испанский скрипач и композитор.] Он будет играть у меня в воскресенье вечером. Воскресными вечерами Нью-Йорк мается и не знает, чем себя занять. Вот я и говорю Нью-Йорку: «Приходите ко мне и развлекайтесь!» Герцог подумал, что идея послушать Сарасате вас соблазнит. Там будут и несколько ваших друзей.
Лицо мадам Оленска вспыхнуло удовольствием:
– Как вы любезны! Как приятно, что герцог подумал обо мне!
Она подвинула к чайному столику кресло, и миссис Стратерс прекрасно в нем уместилась.
– Конечно, я приеду к вам, приеду с радостью!
– Вот и чудесно, дорогая. И привезите с собой этого молодого джентльмена. – Миссис Стратерс дружески протянула руку Арчеру: – Не припоминаю вашего имени, но, конечно, встречалась с вами. С кем я только не встречалась – здесь, в Париже, в Лондоне… Вы не дипломат? У меня на приемах бывает много дипломатов. А музыку вы тоже любите? Герцог, обещайте мне его привезти!
Из-под герцогской бороды донеслось «конечно», и Арчер ретировался, изогнувшись в поклоне столь глубоком, что заныл позвоночник, и он почувствовал себя застенчивым школьником среди невнимательных и равнодушных к нему старших.
Он не жалел, что визит завершился, и даже хотел бы, чтобы это произошло раньше, тем самым избавив его от лишних эмоций. Он вышел на зимнюю вечернюю улицу, и Нью-Йорк опять стал огромным и полным опасностей, а Мэй стала прекраснейшей из женщин. Он завернул в цветочную лавку, чтобы послать ей ежедневную коробку ландышей, которую, к своему конфузу, утром послать позабыл.
Надписывая карточки и ожидая, пока принесут конверт, он окинул взглядом сумрак цветочной лавки и восхитился пучком желтых роз. Таких золотых, как солнечный свет, роз он никогда не видел, и первым его побуждением было прислать эти розы Мэй взамен ландышей. Но нет, цветы эти ей не подходили – слишком пышные, слишком гордые в этой своей огненной сияющей красоте. Повинуясь внезапному скачку настроения и почти безотчетно, он распорядился уложить розы в другую длинную коробку и, сунув свою визитную карточку в другой конверт, надписал на нем адрес графини Оленска, но затем, уже повернувшись, чтоб уйти, вернулся и вытащил карточку, оставив лежавший на коробке конверт пустым.
– Отправите их сейчас немедленно? – спросил он, указав на розы.
Продавец заверил его, что так и будет.
Глава 10
На следующий день он уговорил Мэй после ланча сбежать с ним в Парк. По обычаю старозаветных епископальных семейств Нью-Йорка в воскресные послеполуденные часы Мэй должна была сопровождать родителей в церковь, но на этот раз миссис Уэлланд простила Мэй забвение традиции, поскольку все утро та трудилась, не покладая рук, помогая ей в важнейшем деле подготовки приданого – бесчисленных дюжин постельного белья, и все это с ручной вышивкой.
День был восхитительный. Над сводом голых древесных ветвей над Моллом простиралась небесная лазурь, а снег сверкал на солнце, подобно осколкам хрусталя. Такая погода добавляла сияния красоте Мэй, щеки ее рдели, как листья молодого клена на морозе. Арчеру были приятны обращенные на Мэй взгляды, он гордился ее красотой, и простая радость собственничества вытеснила все другие чувства и сгладила все сложности и противоречия.
– Так приятно утром проснуться и вдохнуть аромат ландышей! – сказала она.
– Вчера ландыши доставили поздно. Утром я занят был…
– Но то, что ты не забываешь мне их присылать каждое утро, делает мне эти ландыши милее, чем если б ты просто распорядился присылать их изо дня в день в назначенный час, и они появлялись бы в моей комнате всякий раз вовремя и неукоснительно, как учитель музыки или как это было, например, у Гертруды Лефертс, когда они с Лоренсом женихались.
– А-а, ну на них это похоже, – со смехом протянул Арчер, оценив проницательность ее замечания.
Покосившись на ее круглую, как спелый плод щечку, он ощутил свое положение достаточно прочным и достаточно безопасным, чтоб добавить:
– Когда я вчера тебе ландыши послал, я вдруг увидел роскошные желтые розы и отправил их мадам Оленска. Ничего, что я так сделал?
– О, как это мило с твоей стороны! Она обожает такие вещи! Странно, что она ничего об этом мне не сказала. Она обедала у нас сегодня и упомянула о том, что мистер Бофорт прислал ей чудесные орхидеи, а Генри Вандерлиден – целую корзину гвоздик из Скитерклиффа. Она словно бы удивилась, что ей шлют цветы. Разве в Европе это не принято? Ей пришелся по вкусу такой обычай.
– А-а, ну, значит, Бофорт затмил меня своими орхидеями, – раздраженно бросил Арчер, а потом, вспомнив, что не положил визитку, подосадовал, что вообще заговорил об этом. Ему захотелось признаться: «Я вчера был с визитом у твоей кузины», но он не решился. Если мадам Оленска сама ничего об этом не сказала, будет неловко, если скажет он, однако, умолчав, он превращает визит в какую-то тайну, и это ему неприятно. Чтобы переменить тему, он заговорил о собственных их планах на будущее и об упрямом желании миссис Уэлланд длить и длить помолвку.
– И ты называешь это долгим! Изабель Чиверс и Реджи были помолвлены два года! А Грейс и Торли – почти полтора! Разве нам так плохо сейчас?
Возражение ее было таким традиционно девичьим, что он даже устыдился тому, что ему оно показалось по-детски глупым. Ведь она всего только повторяет слова, не раз уже кем-то сказанные. И, однако, приближаясь к своему двадцатидвухлетию, можно было бы уже начать говорить и собственные слова. Интересно, в каком возрасте «приличные» дамы обретают такую привычку? «А может, и никогда, если мы их так воспитываем», – размышлял он и вспомнил, как говорил Силлертону Джексону: «Женщины должны иметь свободу, ровно такую же, как мы…»
Теперь его задачей будет снять шоры с глаз этой молодой женщины и научить ее смотреть на мир прямо и видеть все, как есть. Но сколько поколений женщин, чьи взгляды она впитала, так и легли в семейный склеп с шорами на глазах? С легким содроганием припомнил он вычитанные в какой-то из научных книг и часто цитированные сведения о найденных в пещерах Кентукки рыбах, рождающихся без глаз, потому что им, живущим в пещерах, глаза были не нужны. Что, если к тому времени, когда он велит Мэй Уэлланд открыть глаза, в пустом ее взгляде отразится лишь пустота?
– Нам может стать гораздо лучше! Мы могли бы быть вместе, вместе путешествовать!
Лицо ее вспыхнуло радостью.
– Это было бы чудесно! – признала она. Путешествовать ей бы очень хотелось, но мама никак не поймет этого их желания делать все по-своему!
– Так «делать по-своему» – это же самое главное! – упорствовал жених.
– Ньюленд! Какой же ты оригинал! – восхитилась она.
– Оригинал! Да мы все одинаковы, как бумажные куколки, вырезанные из сложенного листа бумаги! Одинаковы, как трафарет на обоях! Неужели мы с тобой не можем выбиться из общего ряда?
– Господи… так что нам – сбежать, что ли? – засмеялась она.
– Если б ты только…
– Ты же любишь меня, Ньюленд! И я так счастлива!
– Но почему не быть еще счастливее?
– Не можем же мы вести себя, как герои романов!
– Почему не можем? Почему?
Такая его настойчивость ее, по-видимому, утомила. Невозможность была ей очевидна, но выискивать для нее причину казалось трудным и хлопотным.
– Ну, я не так умна, чтобы спорить с тобой. Но это… как бы… было бы вульгарно, – сказала она с видимым облегчением, решив, что нашла слово, после которого дальнейшая дискуссия становится невозможной.
– Ты до такой степени боишься показаться вульгарной?
Такой довод ошеломил ее.
– Конечно, боюсь, ужасно боюсь. Как и ты, наверно, – сказала она с легким раздражением в голосе.
Он молчал, нервно постукивая себя тростью по ботинку. Она же, почувствовав, что нашла верный тон для прекращения спора, продолжала уже с легким сердцем:
– Да! Я, кажется, тебе не говорила, что показала Эллен мое кольцо? Она сказала, что оправа просто изумительна. Ничего подобного даже на Рю де ля Пэ не сыщешь! Я так люблю в тебе этот вкус, этот твой эстетизм, Ньюленд!
На следующий день перед ужином, когда он, мрачный, сидел и курил у себя в кабинете, к нему заглянула Джейни. По пути домой из конторы, где он лениво, как и подобало обеспеченному молодому ньюйоркцу его круга и состояния, занимался юриспруденцией, он, против обыкновения, в клуб не зашел. Он был не в настроении и слегка раздражен. Его преследовала и угнетала мысль, что изо дня в день в один и тот же час ему предстоит делать одно и то же.