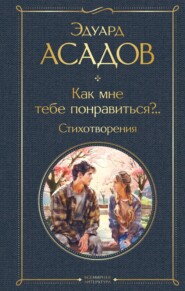По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Интервью у собственного сердца. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Интервью у собственного сердца. Том 1
Эдуард Аркадьевич Асадов
Что связывает Эдуарда Асадова с лордом Вильямом Норманом? Или с Николаем Чернышевским? Как прихотливо иногда переплетаются судьбы людей, казалось бы, далеких друг от друга, как Южный и Северный полюсы, и формируют уникальный характер талантливого человека. История целого рода оживает на страницах автобиографии-исповеди Эдуарда Асадова живо, увлекательно, очень честно, но не назидательно.
О драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий и историй любви его предков, сформировавших особенные жизненные принципы рода, которые и помогли выстоять, быть бесстрашным, честным в самых трагических обстоятельствах судьбы. И о безграничной любви, которая преодолевает все.
Эдуард Аркадьевич Асадов
Интервью у собственного сердца. Том 1
© Асадов Э.А., наследник, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Начало пути: жизнь и поэзия
Кто знает, где концы и где начала,
И по каким путям еще пройду?
Вот пожил в мире, кажется, немало,
Но до сих пор еще чего-то жду…
Э. Асадов
Майка уезжала из нашего города. Маленькая Майка с большим шелковым бантом на голове. Цвета бантов зачастую менялись: алый, черный, ласково-голубой… Не менялась только сама Майка. Она всегда оставалась самой маленькой среди всех своих одноклассников и самой независимой и самой лучшей ученицей в школе. Училась она почти на одни пятерки. Сквозь призму промчавшихся лет, словно через увеличительное стекло, я с удивительной ясностью вижу ее крохотную фигурку, то мелькающую среди подруг в актовом зале, на большой перемене, то бегущую по лестнице с классным журналом в руке, а то в летнем школьном лагере шагающую по лугу с огромным букетом ромашек. За что она симпатизировала мне? Я не знаю. Но как-то так всегда получалось, что она постоянно «совершенно случайно» оказывалась там, где бывал я. А в лагере она как-то раз тайно проникла в нашу мальчишескую палату и положила мне на подушку, когда там никого не было, большой букет васильков… Как-то незаметно я привязался к ней тоже. Но в подростковом возрасте (а было нам всего по тринадцать) симпатии проявляются своеобразно: мы то спорили, то поддразнивали друг друга, обменивались озорными карикатурами и записками, а то старались друг друга как-нибудь разыграть. И это было славно и весело. А вот теперь она уезжала… Шел 1936 год. Страна переживала горячие, но в то же время тревожные дни: все гуще и ярче сверкали доменными печами Тагил и Магнитка, уверенно раздвигал грудью таежную глухомань Комсомольск и все жарче и тверже поигрывал стальными мускулами Уралмаш… набирало силу стахановское движение, а по радио маршеобразно звенела бодрая «Песня о Встречном». И вместе с тем в человечьих сердцах все заметней и напряженней шевелилась тревога. В стране начинались аресты… И люди, ложась спать, больше всего страшились ночного звонка в дверь. Боялась такого звонка и Майкина мама. И, как потом оказалось, боялась не зря. Вот и решилась она отправить дочку к ее отцу, с которым уже не жила, в Новгород. Другого варианта, видимо, не было. Вот и провожали мы Майку шумливой гурьбой на свердловский вокзал. Теперь этот город опять именуется Екатеринбургом. И хоть нам ужасно было жалко расставаться с Майкой, а у некоторых девчонок даже сверкали на ресницах слезинки, все равно, молодость брала свое: ребята шутили, пели песни, пытались острить по поводу будущей Майкиной жизни и даже полушутя, полусерьезно советовали Майке стать летчицей и постоянно прилетать на Урал. Я нес Майкин набитый книгами тяжелый портфель. А она, выждав удобный момент, положила мне в карман на память свой школьный билет с фотографией и тихо шепнула:
– Я там сообщила тебе новый свой адрес… Напиши непременно… Я буду писать тебе тоже… Интересно: встретимся мы с тобой когда-нибудь или нет…
А я убежденно ответил:
– Почему когда-нибудь? Через год, максимум через два, обязательно!
И потихоньку сунул ей в портфель маленькую шоколадку, на более приличную у меня просто не было денег… Эх, знать бы нам тогда, наивным и добрым, что встретиться мы действительно встретимся, но только через двадцать бурных и долгих лет… Встретимся, когда нам будет уже за тридцать, а за спиной будут и война, и тяжкое горе, и надежды, и новые непростые дороги… И вот, когда Майка уже вошла в вагон и начала переговариваться с подругами жестами через оконное стекло, я увидел спешащего по перрону плечистого мужчину в черном драповом пальто с бежавшей рядом с ним рыжей собакой. Подойдя к одному из вагонов, он, присев, снял с собаки ошейник и, что-то сказав, погладил ее по спине. Та доверчиво виляла хвостом и пыталась лизнуть его в щеку. Но мужчина, отстранив пса, выпрямился и, не оглядываясь, пошел к вагону. Собака пристально смотрела ему в спину не шевелясь. Затем я потерял собаку из виду, потому что все внимание обратил теперь на окно, за которым стояла Майка. Она махала мне рукой и что-то говорила напряженно и быстро… Но что? Я так и не понял. Но вот поезд тронулся, и Майкино окно стало уплывать от меня все быстрее и быстрее… Вагоны уже не шли, а с коротким перестуком мелькали, летя в сторону семафора, поднявшего зеленый фонарь. Они бежали, пока последний с багровым огнем позади не начал скрываться вдали. И тут я неожиданно снова заметил того рыжего пса, которого бросил на перроне хозяин. Вытянувшись в тугую напряженную линию, он мчался по шпалам за поездом. И, казалось, не было на свете силы, которая могла бы его удержать! В ту пору я, конечно, не знал и не думал о том, что когда-нибудь напишу об этом стихи. Я только стоял и смотрел с огромным волнением на бегущего за поездом пса.
Почему я говорю об этом сейчас? Да потому, что в эпизоде этом как бы слились, сфокусировались две сверкающие точки: жизнь и поэзия! И сколько впоследствии в судьбе моей вспыхивало всяческих эпизодов и впечатлений, которые под самыми различными углами так или иначе переплавлялись потом в стихотворные строки, – сосчитать невозможно! Только не надо воспринимать это все упрощенно: эпизод – стихотворение, событие – стихотворная фабула. Процесс превращения случая или факта в стихотворный сюжет, в поэтическую строку гораздо сложней и трудней, а подчас и значительно фантастичнее. И тем не менее человеческая и творческая судьбы прозаика или поэта неразрывно друг с другом связаны. Пусть не упрощенно, не напрямую, но связаны непременно. Виссарион Григорьевич Белинский сказал когда-то о Лермонтове замечательные слова: «Вот – поэт, жизнь которого является продолжением его творчества, а его творчество – есть лучшее оправдание его жизни!» Конечно, у каждого поэта могут быть удачные и неудачные строки. Однако пусть не упрекнут меня в излишнем пристрастии, но у Лермонтова, с моей точки зрения, неудачных строк практически нет. И в подтверждение прекрасных строчек Белинского мы могли бы сегодня сказать: разве смогли бы мы понять и прочувствовать до конца глубину переживаний, духовную остроту и вообще весь пафос таких, например, произведений, как «Мцыри», «Смерть поэта» или «Демон», не будучи знакомы с судьбой самого поэта и редкостной глубиной и силой его души?! А разве сумели бы мы понять и прочувствовать до конца сложность характеров героев его произведений, и прежде всего Печорина, не будучи знакомы с характером, жизнью и всеми перипетиями лермонтовской судьбы!
Кто не знает великолепного стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала» и других его отличных стихотворений? И тем не менее до конца понять всю его любовную лирику можно лишь зная о горячей взаимной любви между ним и Софьей Андреевной Миллер (впоследствии Толстой).
А разве же не накладываются многие и многие страницы жизни Ивана Сергеевича Тургенева на его книги, и в частности на такие его романы, как «Вешние воды» и «Дым»?! Где герои ведут себя хоть и по-разному, но, безусловно, сопрягаясь с чувствами и мыслями самого автора! Я уж не говорю о «Записках охотника» и других. Судьба и творчество. Творчество и судьба! Понятия эти зачастую попросту неразделимы! И это касается не только художников. Если нам интересна книга писателя, то, безусловно, интересна и его судьба. И я это лично знаю, не понаслышке. Ибо получил тысячи и тысячи писем с горячей просьбой рассказать о себе. Такие же просьбы получал я в записках на моих литературных вечерах буквально во всех городах России и, как теперь принято говорить, в городах стран СНГ. О близких мне людях, о надеждах, о горе, о счастье и о вечной борьбе, которую я веду во имя моих идеалов и правды.
Не мне судить о том, насколько хороша или нехороша эта книга. Но за то, что она написана и честно и искренне, ручаюсь я абсолютно! Прочтите ее и судите сами!
Биографию свою я излагал уже неоднократно. И начинал я ее так, как обычно начинают все, то есть с упоминания об отце и матери. Впрочем, не только о них. Рассказывал я еще и о своем дедушке по материнской линии Иване Калустовиче, которого с уважительной улыбкой называл «историческим». И это, пожалуй, все. Я полагал, что этого вполне довольно. Да никто меня о большем и не просил. Но вот теперь я все чаще и чаще стал думать о том, что мало мы, в сущности, знаем свою родословную. Редко интересуемся дедушками и бабушками, а уж о прадедах зачастую и не ведаем ничего. Ни от этого ли прохладного равнодушия мы и историю своей родины знаем нередко кое-как, с пятое на десятое? Не отсюда ли идет у некоторых людей довольно слабое притяжение к земле, на которой он вырос, к своему народу? Это не громкие слова, не риторика. Это живая правда. В дореволюционные годы существовало немало домов, особенно в аристократических семьях, где родословное древо известно было до седьмого, а то и до десятого колена. И было это справедливо и хорошо. Иваны, не помнящие родства, были не в чести. В октябре семнадцатого революционная волна, сокрушая отжившее, разметала и унесла вместе с тем и что-то важное, дорогое. В частности, родословные нити, семейные связи, а порой и святое уважение к прошлому. Справедливость требует сказать, что подобного рода «забывчивость» в значительной степени подкрепляла политическая обстановка, царившая в те годы в стране. Считалось почти позором иметь предков с дворянским происхождением, выходцев из священнослужителей или купцов. Люди, в чьих семьях были подобные отцы или деды, старались не говорить об этом вслух, стеснялись вспоминать о них в своих анкетах, а со временем и почти забывали. Впрочем, зачем далеко ходить? Даже в нашей, можно сказать, прогрессивной семье о моем дедушке по линии мамы, который был секретарем Чернышевского, говорили с гордостью, а о дедушке по линии отца, который пытался выбиться в купцы, вспоминали неохотно, а уж в анкеты он не попадал и вовсе. И делалось это отнюдь не из страха, никто в нашей семье этим пороком не страдал, и это не раз подтверждала жизнь, а просто из какой-то неловкости и еще по искреннему убеждению, что подобную дорогу почитать нельзя. И сколько таких неловкостей и провалов в памяти и семейных архивах многих и многих людей, сегодня, пожалуй, и сосчитать нельзя. А это очень и очень жаль, ибо сегодня мы вроде бы уже освобождаемся от общественных и классовых предрассудков минувших лет. А сколько ярких, интересных и самобытных имен безвозвратно кануло уже в Лету…
В каждом из нас всегда перекрещены два начала, две дороги, две жизни: материнская и отцовская. Мы их наследники и продолжатели. Их гены, их кровь, их чувства и мысли, их печали, мечты и надежды и вообще все, что билось, страдало, смеялось и пело в их сердцах, получили по наследству мы и несем дальше, добавляя свои мысли и чувства, свои беды и радости, свою надежду и веру для того, чтобы передать нашим детям. Так устроена жизнь. И устроена справедливо. И не только справедливо, но и хорошо, иначе не казалась бы нам она такой короткой!
Но, итак, о линии материнской. Назвать эту линию линией «прекрасного пола» не было бы никаким преувеличением, так как мама моя обладала и в самом деле красотой. И фотографии ее – наглядное тому подтверждение. Так вот, для того чтобы повнимательней познакомиться с моей родословной по линии мамы, надо мысленно перенестись в Петербург второй половины девятнадцатого века. В ту пору трудился там на Путиловском заводе потомственный рабочий Андреев, носивший имя, соответственное фамилии: Андрей. Дед его, работавший мастеровым в корабельных доках, по семейным преданиям, 14 декабря 1825 года стоял в толпе на Сенатской площади, когда Николай I расстреливал восстание декабристов. Смотрел рабочий Михайло на то, как под взрывами картечи падали молодые смелые люди, обагряя кровавыми пятнами снег, и с того памятного утра люто возненавидел царя. И кто знает, не от него ли жаркие капли той ненависти через несколько поколений добрались до моей мамы и вскипели в ее сердце горячим гневом против несправедливости и увлекли в пламя Гражданской войны?!
Но повернем колесо времени назад. У путиловского рабочего Андрея Андреева была многочисленная семья. Старшей среди детей была Вера – высокая, статная, с независимым взором и еще более независимым характером. Теперь мы на несколько минут прервем наш разговор о рабочей династии и шагнем из пролетарского предместья в аристократический квартал Петербурга.
Где-то возле канала Грибоедова за витой чугунной оградой в глубине сада высился особняк. У ворот – строгий молчаливый привратник. В глубину сада вела посыпанная песком липовая аллея. Хозяином дома был отпрыск старинного английского рода лорд Норман. Вильям Жозеф Норман, несмотря на голубую кровь, не чужд был активной деятельности и обладал крупными рыбными концессиями в России. В богатом особняке вместе с ним жили жена его Жозефина и трое детей: Эдуард, Альфред и Луиза. И жить бы этой семье в довольстве и радости, если бы не поразившая дом беда. Внезапная болезнь свалила и навсегда приковала к постели Жозефину Норман. Строгая и немногословная, она мужественно переносила свое тяжкое горе. Муж был к ней всегда предупредителен и добр, однако был он еще слишком молод для того, чтобы обречь себя на монашеский аскетизм. Рано или поздно что-то непременно должно было произойти. Жизнь это жизнь! И оно, это «что-то», случилось. Я не знаю, где и при каких обстоятельствах встретился английский лорд Вильям Жозеф Норман с девушкой из городского предместья красавицей Верой Андреевой. Возможно, что произошло это где-нибудь на проспекте или в саду в день народного гулянья, или у моря в порту, где девушки помогали морякам выгружать рыбу, или… да мало ли где могли познакомиться люди на свете! Пути Господни неисповедимы… Важно одно: они встретились и полюбили друг друга. О том же, что это было большое и серьезное чувство, а не мимолетный роман, говорит уже сам по себе тот факт, что от этой любви родились на свет целых трое детей: Мария, Вера и Владимир. Лорд Норман человек был порядочный и серьезный. При тяжелобольной, но живой жене он жениться еще раз не мог. Он делал все, что мог, для своей любимой, но положение ее было ужасным. По тогдашним временам девушка, родившая вне брака, считалась навек опозоренной. И каким, надо сказать, сильным характером должна была обладать Вера Андреевна, чтобы не только стойко вынести все угрозы и весь позор, который обрушился на ее голову, но родить еще второго и третьего ребенка! Мальчуганом я видел ее портрет и хорошо его помню: темное шерстяное, застегнутое у ворота старинной брошью платье, спокойное волевое лицо, прямой нос и большие выразительные глаза. А на голове… впрочем, нет, правильнее будет сказать не на голове, а над головой не прическа, не завитки, не кудри, а целое архитектурное сооружение из волос. Не знаю, как и на чем все это держалось, каким искусством должны были обладать руки, совершавшие это парикмахерское чудо, но подымалась эта тогдашняя, с позволения сказать, мода едва ли не на высоту второй головы. Моей бабушкой была старшая из троих ее детей – Мария. Отчество ей дали Васильевна, переведя, очевидно, без лишних затей английское Вильям на более знакомое для русского уха Василий. Отец Веры Андреевны, как это нетрудно понять, не мог ни принять, ни простить, ни тем более оправдать отчаянной любви своей дочери. Он проклял и выгнал ее из дома. И она поселилась со своими чадами в небольшом домике на Васильевском острове, который снял для нее Вильям Жозеф.
Мария Васильевна (моя бабушка) рассказывала впоследствии моей маме, что детьми они бегали потихонечку к дому своего отца и осторожно сквозь чугунные узорчатые решетки смотрели с любопытством в сад. Там на спортивной площадке с хохотом и шумом играли в крокет со своими приятелями юные англичане. А по садовым дорожкам ливрейный лакей не спеша возил в коляске седовласую молчаливую даму, укутанную пледом. Вильям Норман постоянно бывал в доме у Веры Андреевны, был неизменно ласков с детьми. И к чести его следует сказать, что в общениях этих не было ни грамма снисходительного высокомерия. Фактически он относился ко всем, как к членам своей семьи. Конечно, обо всем этом можно судить и рядить как угодно, но я бы просил этого не делать, ибо и без того Вере Андреевне и всем ее детям довелось в ту пору хлебнуть из чаши бытия всякой горечи предостаточно. Но прошло несколько лет, и Жозефина Норман умерла. Вскоре сам собою возник вопрос: что делать дальше? Кто был лорд Норман: лютеранин, католик или протестант, я не знаю, знаю лишь, что он предлагал, причем очень настоятельно, Вере Андреевне принять его веру и вступить с ним в законный брак. Однако Вера Андреевна, при всей своей горячей любви к Норману, согласиться на это не могла. Почему? Причин, как мне кажется, тут было много. Во-первых, я думаю, вера. Дело в том, что Вера Андреевна была религиозна и перейти в другую веру означало для нее изменить Богу, предать свою веру. Понимаю, что, прочитав эти слова, кто-то, возможно, и улыбнется:
– Позвольте! Но если она действительно была религиозной, то как же совместить подлинную веру с поступком, далеким от благословения церкви?
И я отвечу: не будем к ней слишком суровы. Разве мир знает мало подобных поступков? Разве можно назвать атеистками ну, скажем, Анну Каренину, Настастью Филипповну или Веру из гончаровского «Обрыва»? Нет, ответ тут не так однозначен! Просто у глубоких женских натур Бог и любовь нередко неразделимы. Больше того, подлинная любовь, проникая в ее сознание, душу и кровь, становится и смыслом всей ее жизни и зачастую высшим ее божеством. И я в этом искренне убежден!
Вторая причина – дети: Мария, Володя и Вера, которые были крещены в христианской церкви, и ни менять их веру, ни жить с ними в разных вероисповеданиях мать не считала возможным. Имелась еще и третья причина: дети Нормана. Они были уже достаточно взрослыми, пронизаны гордым сознанием своего аристократизма, любили собственную мать, а затем и память о ней, и убедить их согласиться на подобный брак их отца было бы задачей сложнейшей. И хотя они знали о существовании Веры Андреевны и даже, может быть, понимали проблемы отца, но одно дело все это понимать и совсем другое – законно и полностью породниться. И хотя Вера Андреевна выросла в простой семье и в аристократках не числилась, но от природы была умна и все эти сложности понимала отлично. И, несмотря на настоятельные просьбы любимого, сознательно перешагивая через собственное сердце, на брак этот все-таки не пошла. Единственно, на что она смогла согласиться, так это на то, чтобы поселиться рядом с дорогим человеком. Однако из гордости в роскошный особняк лорда Нормана, где жили его дети и вся обстановка дышала памятью о его прежней жене, она не переехала, а поселилась с малышами в небольшом флигеле в глубине сада. Постепенно двое из детей Нормана, Эдуард и Луиза, перестали ее дичиться, подружились и все чаще и чаще стали заглядывать в уютный ее флигелек. Альфред не делал этого никогда. Сколько лет прожила Вера Андреевна в морганатическом браке с Вильямом Жозефом Норманом, я не знаю. Думаю, что приблизительно около пятнадцати лет.
Как и почему расстались эти два любящих сердца: Вильям Жозеф и Вера Андреевна, я долгое время не знал. Даже подумал, грешным делом, не бросил ли знатный англичанин свою дорогую «Вэрушу», и только несколько лет назад узнал, что нет, не бросил. Он умер еще до революции в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала Валентина Владимировна. Она рассказала мне, что в первые послевоенные годы она была в Ленинграде и, зная по слухам о том, что лорд Норман никуда не уезжал, а скончался и похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге, она пошла туда и действительно нашла его могилу: большое из черного мрамора надгробье и надпись на английском языке: «Лорд Вильям Жозеф Норман» и даты рождения и смерти. А рядом могила с надписью: «Жозефина Норман». Тетя моя знала, что для того, чтобы могилу не разорили, нужно заявить о том, что есть родственники и, вероятно, что-то дать «за внимание». Но время было такое, что людям, у которых есть связи с заграницей или были родственники-иностранцы, грозили всякие неприятности. И она, честно говоря, побоялась заявить об этом. А когда вновь через много лет приехала в Ленинград и пришла навестить могилу дедушки, то ее уже не было. Видимо, слишком заманчиво было мраморное надгробье. Дети же Нормана Эдуард, Альфред и Луиза после смерти отца, естественно, уехали на родину в Англию. Несколько слов о клане Норманов в Англии. Он многочисленный и солидный. И когда, слушая зарубежные передачи, я вдруг случайно слышу упоминание этой фамилии, я почему-то вспоминаю о Вере Андреевне и ее горячей жертвенной любви. Несколько лет назад радиостанция Би-би-си рассказала о том, как жене Уинстона Черчилля присваивали звание пэра Англии. Лично я, разумеется, с госпожой Черчилль знаком не был, но хорошо помню ее веселый приветливый голос, когда она в сопровождении многочисленной дипломатической и медицинской свиты, в рамках благотворительной помощи, посетила наш госпиталь в Теплом переулке в Москве в 1945 году. Кстати, директором госпиталя, а затем и института ЦИТО был небезызвестный профессор Приоров. Итак, в семидесятые годы, воздавая должное за общественную деятельность, аристократический Лондон присваивал вдове господина Черчилля звание пэра Англии.
По многовековой традиции претендент на такое звание должен был войти в торжественном облачении в палату лордов, где на традиционном мешке с овечьей шерстью сидел председатель палаты. Претендент обязан был стать на одно колено, а председатель палаты, встав с мешка, клал одну руку на голову нового пэра, а другой брал со стола указ о посвящении претендента и громко его читал. Почему я так подробно сейчас об этом говорю? Да потому, что председателем палаты, посвящавшим госпожу Черчилль в пэры Англии, был… лорд Норман. Кем он приходился Вильяму Жозефу, внуком? Внучатым племянником или еще кем-нибудь? Я сказать не могу. Но клан – это клан. Он жив и будет существовать, наверное, долго.
Итак, как было сказано выше, я не знаю причины, по которой любящие люди Вильям Жозеф и Вера Андреевна расстались. Есть еще одна версия. И она, судя по характерам этих людей, лично мне кажется наиболее вероятной. Говорили, что любовь эта была действительно большой и оборвалась лишь со смертью Вильяма. Дети Нормана Эдуард, Альфред и Луиза уехали в Англию. А «великая грешница», проклятая отцом и фактически отлученная от церкви, после потери близкого человека оставаться в Петербурге долее не могла. И уехала в Казань к каким-то дальним родственникам. Поступила белошвейкой в одну из мастерских и воспитывала детей. Вскоре Владимир уехал учиться в Москву, а с ней остались Мария и Вера. Жить становилось все трудней, и Вера Андреевна стала сдавать одну из комнат студентам Казанского университета. И первым же ее жильцом оказался мой будущий дед Иван (Ованес) Калустович Курдов. Красота и сердечность Марии Васильевны произвели на него глубокое впечатление. Они подружились и, как легко догадаться, полюбили друг друга. После окончания Иваном Калустовичем университета она уехала с мужем сначала на Михайловский завод, где Иван Калустович работал врачом и где, кстати сказать, родилась моя мама, а затем жила с ним до своей смерти в Перми. От этого брака у них родились шестеро детей: Нина, Евгений, Виктор, Анатолий, Лидия (моя мама) и Борис. Забегая вперед, скажу несколько слов о детях. Нина Ивановна, став взрослой, первой ушла из семьи. Вышла замуж, а затем, овдовев, работала в советские годы в каком-то учреждении машинисткой. Была она очень полной, набожной, довольно молчаливой. Имелась у Нины Ивановны одна странность. Она боялась огня и ни разу в жизни не зажгла ни одной спички. Когда ей требовалось зажечь керосинку или керосиновую лампу, она звала кого-нибудь из соседей. Когда мне было лет шесть или семь, она присылала мне в письмах копировальную бумагу и я с удовольствием рисовал под копирку. Мне очень нравилось, что из-под моего карандаша, как по волшебству, сразу возникают две и даже три одинаковые картинки. Старший из сыновей, Евгений, после смерти матери тоже сразу ушел из дома. Говорили, что у него произошел какой-то конфликт с отцом. На какой почве, не знаю, но больше он в дом не вернулся и писем не писал. Вера Васильевна, сестра моей бабушки, рассказывала, что он был участником Гражданской войны, сражался с белыми в звании комиссара, а в послевоенные годы был военным прокурором в Сибири. В 1937 году Женя был арестован и погиб в лагерях. У тети Веры – хотя она приходилась мне двоюродной бабушкой, но я звал ее, как моя мама, тоже тетей, – так вот, у тети Веры в альбоме я видел фотографию Евгения Ивановича: командирская фуражка со звездой, круглое, с полными щеками лицо, небольшие усы и хмурый взгляд больших карих глаз. Нараспашку белый полушубок, грузная фигура и большие, довольно выразительные руки, лежащие на коленях. Ни с ним, ни с другим моим дядей Анатолием не виделся я никогда. Анатолий, по рассказам мамы, был любимцем в семье. Веселый, жизнерадостный, озорной, готовый на любые выдумки и фантазии. Сколько бы шалостей он ни натворил, какие бы ни получил колы-двойки, будучи живым, находчивым и веселым, он всегда умел, что называется, выйти из воды сухим да еще и рассмешить классного надзирателя или педагога. Даже сам Иван Калустович – человек величайшей строгости, не прощавший легко никому никаких слабостей, Анатолию все-таки «слабил» и прощал ему порой то, чего другим детям не спустил бы никогда. Когда началась Первая мировая и кайзеровская Германия своими воинственными дивизиями хлынула на землю России, Анатолий Иванович, так и не закончив последнего класса гимназии, сбежал из дома и ушел добровольцем на фронт, по слухам, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве и там в одном из боев погиб. Но если с Евгением и Анатолием я не был знаком никогда, то уж с Виктором Ивановичем, или попросту дядей Витей, не только общался много-много лет, но и любил его больше всех курдовских родственников. Был он высок ростом, чуть грузноват, красив и пользовался успехом у женщин. И если бы я сказал, что сам он был к ним равнодушен, то попросту погрешил бы против истины. Зажив самостоятельной жизнью, он поселился в уральском городе Серове (бывший Надеждинск). Супругой его была тетя Галя, маленькая, пухлая и шумливая украинка. Познакомились они на фронтах Гражданской войны, где Виктор Иванович был командиром кавалерийского эскадрона, а Галина Васильевна боевой сестрой милосердия. Познакомились, подружились и прожили вместе более двадцати лет. Детей у Галины Васильевны не было, к великому ее сожалению. И тогда они взяли из детдома приемную дочь Виолу, которая была моложе меня на год. Характер у тети Гали был, что называется, ершистый и сложный. Она могла вспыхнуть и расшуметься по самому малому поводу, а разойдясь, накричать, нашуметь и даже обидеть. Но при всем при этом душа у нее наидобрейшая. Она готова была в любой час кинуться на выручку к хорошему человеку. Поддержать, помочь, успокоить. А уж какие она готовила обеды, так просто язык проглотить было можно! И угощать умела на славу. Была она и отличной хозяйкой, и любящей верной женой. Меня она любила, словно сына. И я, живя с мамой в Свердловске, гостил у них в Серове часто и много.
Урал! Строгий, прекрасный, дорогой моему сердцу Урал! Сколько я бродил по твоим лесам и чащобам с корзинкой для грибов и туеском для ягод на лямке через плечо… К скольким ледяным и прозрачнейшим родникам припадал пересохшими губами, сколько богатырских, гигантских кедров облазил, сбивая тяжелые шишки, на каких ночевал ароматнейших сеновалах и в каких сказочных лесных речушках купался! Об этом, наверное, стоит написать когда-нибудь целую книгу! Не знаю как теперь, но в пору моего мальчишества таежные дебри вокруг Серова были воистину первозданно волшебными. И тут никаких преувеличений нет. Но к рассказу об Урале я еще вернусь, а сейчас еще несколько слов о моей родне.
Пятым по счету ребенком стала Лидия Ивановна – моя мама. Для каждого сына его мама и самая ласковая, и самая красивая. Ну, а как объективно? Самой ласковой на свете я бы свою маму, пожалуй, не назвал. Она была очень добрая, но строгая. Профессиональный педагог присутствовал в ней не только в школе, но и дома. Однако, не будь она требовательной и строгой, неизвестно, вышло бы из меня что-то стоящее и нужное людям. Жизнь все-таки подтверждает, что доброта без требовательной строгости сколько-нибудь заметных результатов не дает. Ну, это я так, к слову. Что же касается красоты, то тут просто достаточно посмотреть на любую из маминых фотографий, чтобы сказать, что красота ей дана была редкая. И многие женщины, если бы судьба их наделила такой красотой, жили бы, что называется, безбедно и припеваючи. Многие, но не моя мама. Она была совсем иным человеком. Но о ней еще я скажу несколько слов позже. Самым младшим в семье был Борис. В детстве он тяжело болел, да и став взрослым, закаленным и сильным не сделался и, прожив меньше тридцати лет, умер, оставив двух сыновей: Юрия и Владислава. Когда умерла моя бабушка Мария Васильевна и дедушка мой, которому одному подымать шестерых детей было делом непосильным, женился во второй раз, Вера Андреевна вместе с младшей своей дочерью Верой покинула дом моего деда и поселилась навечно в маленьком уральском городе Кыштыме. Городок этот стоит в самом центре уральской красоты. Две горы Егоза и Сугомак, вокруг сказочная тайга, а посредине огромные озера редкостной чистоты – Синее озеро и Увильды.
Здесь, в Кыштыме, Вера Андреевна и умерла. И вот тут произошла, честное же слово, удивительная и трогательная вещь. Вера Андреевна была более пятнадцати лет невенчанной женой лорда Нормана. Но благородного звания леди не имела никогда. И вот ее дети и внуки решили, так сказать, восстановить справедливость хотя бы посмертно. И на гранитном памятнике над ее могилой была высечена надпись: «ВЕРА АНДРЕЕВНА АНДРЕЕВА. ЛЕДИ-БАБУШКА». И пусть спустя годы многим посетителям кладбища надпись эта покажется странной. Что за беда! Главное, что справедливость хоть и поздно, но все-таки к ней пришла… Думаю, что главными инициаторами этой трогательной надписи выступили дочка Веры Андреевны Вера Васильевна и дядя Витя, который горячо ее любил и был очень добрым человеком. Помните: тот самый, которого женщины не обходили своим вниманием и которым он платил в этом плане от полноты души. С тетей Галей он все-таки расстался. Думаю, что немаловажной причиной тому послужила ее бездетность, а Виктор Иванович детей любил, и даже очень. Знаю это по себе. У себя на работе присмотрел он тихую провинциальную барышню, счетовода Лидочку, Лидию Васильевну. Но на отчество она как-то тянула мало, так как была маленькой, пухленькой и кукольно миленькой. Под руку дядя Витя ходить с ней не мог, так как она была почти вдвое ниже его. И если они выходили куда-то в кино или в гости, то она всегда шла впереди, а он, высокий и грузный, – сзади. У Лидочки был тихий голосок (совсем не как у тети Гали). Она была сентиментальна, мужа звала Витусик и двигалась почти бесшумно. Так же тихо и неприметно родила она «Витусику» пятерых детей: Юру, Веру, Витю, Леву и Риту. Я ее в шутку называл за спиной «Лидусиком». Но хотя мама была и тихая, ребята выросли боевыми. Старший, Юра, пошел в рабочие и проработал на серовском металлургическом заводе 30 лет на прокатке. Второй брат, Лева, и посейчас работает в горячем цеху нагревальщиком печи. Вера тоже работала на заводе. Остальные разлетелись кто куда.
Господи, как же хорошо помню я Серов тех далеких довоенных лет! Узенькая, но быстрая и говорливая речушка со смешным названием Каква, утонувшие в палисадниках деревянные дома, дощатые тротуары, заросшие зеленой травкой тихие улочки с привязанными к колышкам на длинных веревках козами, из-за каждого забора – черемуха и сирень… Каменные дома только в центре. Превосходно помню и тот двухэтажный дом возле Каквы, где в одной из квартир внизу жил Виктор Иванович с тетей Галей и Виолкой. И где я объедался до окаменения живота в лесу черемухой и бултыхался в Какве. И второй, тоже деревянный, одноэтажный домик, где жил он уже с Лидочкой на улице Ленина. Если за весь день по улице пройдет хотя бы один грузовик, то это событие. Да и лошадка с телегой проскрипит не чаще, чем трижды в день. Зеленые цветники, огороды, кудахтанье кур да жующие у ворот козы. Ну, а еще тишина, патриархальная тишина. Тишина по всему городу. Нет, о заводах я не говорю. Там шла своя напряженная и горячая жизнь. Но вот на городские улочки она не выплескивалась никак. Улицы жили своей задумчивой и неторопливой жизнью. Сегодня Серов абсолютно другой. Теперь это небольшой, но современный индустриальный город. Многоэтажные здания, асфальт, телевизоры, «Жигули» и «Волги», огромные дворцы культуры, кинотеатры, рестораны, гостиницы. Короче говоря, «Приезжайте к нам в Серов!». Дружба моя с этим городом не оборвалась. И когда я приезжаю в Серов читать свои стихи, залы, где мне доводится выступать, всегда полны народа. И я глубочайше благодарен городу за ту честь, которую он мне оказал. На том месте, где стоял когда-то дом моего дяди, улица Ленина, дом 149, высится многоэтажный дом. На стене его установлена бронзовая мемориальная доска с моим барельефом и выгравированными датами моего пребывания в Серове. Здесь по установившейся традиции выпускникам десятых классов и школ ПТУ вручались комсомольские билеты. В 1986 году и я был удостоен чести вручить – вместе с первым секретарем горкома комсомола – билеты членов ВЛКСМ юным горожанам рабочего города Серова.
«Исторический дедушка» и другие
О своем дедушке Иване (Ованесе) Калустовиче Курдове мне уже не раз доводилось писать в предисловиях к своим книгам. Однако говорить сейчас о моей родословной и пройти мимо Ивана Калустовича только потому, что уже писал о нем когда-то, было бы абсолютной несправедливостью. Тем более что и на мою маму, и на меня он оказал достаточно большое влияние. Еще и потому, что это был характер уникальнейший, единственный в своем роде. Во всяком случае, я подобных характеров в своей жизни никогда больше не встречал.
Дедушка мой по национальности был армянин. Почему фамилия у него Курдов, я точно не знаю. В семье нашей существовало что-то вроде предания о том, что когда-то, во время армяно-курдской вражды, после какой-то заварухи курдский мальчик попал в плен к армянам. А точнее, его нашли заблудившимся в горах. Был он совсем маленький и имени своего назвать не мог или от страха забыл. Ну, раз он был курдом, то и дали ему фамилию Курдян. Найденыша приютили, выкормили, воспитали. Он абсолютно «обармянился», вырос и женился на армянке. Его сын тоже выбрал в жены армянку, их дети тоже и так далее. Поколения менялись, а фамилия Курдян так и переходила от отца к сыну. В Астрахани, куда переехал дед Ивана Калустовича и где основное население было русским, фамилия эта для удобства произношения трансформировалась в Курдов. Так это было или не так, с полной ответственностью я сказать не могу. Рассказываю как слышал. Во всяком случае, версия эта кажется мне достоверной. Что было дальше? А дальше было вот что…
В 1885 году из далекого Вилюя после двадцатилетней ссылки в Астрахань вернулся знаменитый писатель, революционер и демократ Николай Гаврилович Чернышевский. Возвратился и горячо принялся за работу. Ольга Сократовна, занятая детьми и домашними делами, серьезной помощи в работе оказывать ему не могла. Срочно нужен был секретарь. И тогда друзья порекомендовали Николаю Гавриловичу выпускника старших классов гимназии Ивана Курдова. Для такого человека, как Чернышевский, Курдов обладал, без всяких преувеличений, целым рядом достоинств. Во-первых, он был тесно связан с тайными революционными студенческими кружками. Во-вторых, владел великолепным каллиграфическим почерком, а в-третьих, был скромен и с гранитной твердостью умел хранить тайны. Дедушка рассказывал мне впоследствии, что, прежде чем они с Николаем Гавриловичем садились за работу, Ольга Сократовна непременно усаживала его за стакан чая с неизменными бутербродами. Однако чаепитие всегда было коротким, так как Чернышевский рабочим временем дорожил чрезвычайно. Чтобы поддержать его материальное положение, различные издательства либерального толка заказывали ему переводы. Николай Гаврилович, набросив на плечи шерстяной плед, расхаживал обычно по комнате и диктовал, а Ваня Курдов быстро писал, стараясь не пропустить ни одного звука. Так, «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» Вебера, которую переводил в те дни Чернышевский, почти целиком была переписана рукой моего деда. Чернышевский был в жизни исключительно пунктуальным и обязательным человеком. Во время работы не любил отвлекаться на какие-либо разговоры. Особенно неприятны были ему расспросы о тяжелых и мрачных годах, проведенных в вилюйском остроге. Однажды, по свидетельству моего деда, между ними произошел такой диалог:
– Николай Гаврилович, можно мне задать вам один вопрос?
– Не надо, Ваня, я этого не хочу.
– Но откуда вы знаете, какой я хочу задать вам вопрос?
– Знаю, Ваня, знаю. Только задавать этого вопроса не надо. Давай работать.
С первого дня знакомства и до последних своих дней дедушка мой горячо любил Чернышевского, восхищался им и жадно впитывал его идеи, мысли, советы. Мысли Чернышевского, его идеи, идеи народных демократов стали отныне главным смыслом его жизни.
Сегодня в этом доме музей Чернышевского. В 1985 году, ровно через 100 лет, по приглашению Астраханской филармонии, я выступал в различных концертных залах города. Посетил и дом-музей Чернышевского.
Водил меня по залам этого музея самый крупный специалист по Чернышевскому и автор множества монографий о нем профессор Травушкин Николай Сергеевич. Мне и моей жене Галине Валентиновне он показал стенд, над которым висел портрет моего дедушки и где лежали его рабочие врачебные инструменты. А затем подвел нас к большому дубовому столу и не без торжественности сказал:
– А вот это, Эдуард Аркадьевич, стол, за которым работал Николай Гаврилович. Вот здесь сидел Чернышевский, а вот тут – ваш дедушка.
Удивительное это было ощущение – прикасаться рукой к столу, за которым сидел Чернышевский, а рядом с ним мой дедушка… Словно бы прикоснулся к живому кусочку истории! Не забуду этого ощущения никогда! И, стоя у этого исторического стола, я как бы заново ощутил, почувствовал, услышал, как разговаривают в этой комнате два человека, Николай Гаврилович и мой дед.
Эдуард Аркадьевич Асадов
Что связывает Эдуарда Асадова с лордом Вильямом Норманом? Или с Николаем Чернышевским? Как прихотливо иногда переплетаются судьбы людей, казалось бы, далеких друг от друга, как Южный и Северный полюсы, и формируют уникальный характер талантливого человека. История целого рода оживает на страницах автобиографии-исповеди Эдуарда Асадова живо, увлекательно, очень честно, но не назидательно.
О драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий и историй любви его предков, сформировавших особенные жизненные принципы рода, которые и помогли выстоять, быть бесстрашным, честным в самых трагических обстоятельствах судьбы. И о безграничной любви, которая преодолевает все.
Эдуард Аркадьевич Асадов
Интервью у собственного сердца. Том 1
© Асадов Э.А., наследник, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Начало пути: жизнь и поэзия
Кто знает, где концы и где начала,
И по каким путям еще пройду?
Вот пожил в мире, кажется, немало,
Но до сих пор еще чего-то жду…
Э. Асадов
Майка уезжала из нашего города. Маленькая Майка с большим шелковым бантом на голове. Цвета бантов зачастую менялись: алый, черный, ласково-голубой… Не менялась только сама Майка. Она всегда оставалась самой маленькой среди всех своих одноклассников и самой независимой и самой лучшей ученицей в школе. Училась она почти на одни пятерки. Сквозь призму промчавшихся лет, словно через увеличительное стекло, я с удивительной ясностью вижу ее крохотную фигурку, то мелькающую среди подруг в актовом зале, на большой перемене, то бегущую по лестнице с классным журналом в руке, а то в летнем школьном лагере шагающую по лугу с огромным букетом ромашек. За что она симпатизировала мне? Я не знаю. Но как-то так всегда получалось, что она постоянно «совершенно случайно» оказывалась там, где бывал я. А в лагере она как-то раз тайно проникла в нашу мальчишескую палату и положила мне на подушку, когда там никого не было, большой букет васильков… Как-то незаметно я привязался к ней тоже. Но в подростковом возрасте (а было нам всего по тринадцать) симпатии проявляются своеобразно: мы то спорили, то поддразнивали друг друга, обменивались озорными карикатурами и записками, а то старались друг друга как-нибудь разыграть. И это было славно и весело. А вот теперь она уезжала… Шел 1936 год. Страна переживала горячие, но в то же время тревожные дни: все гуще и ярче сверкали доменными печами Тагил и Магнитка, уверенно раздвигал грудью таежную глухомань Комсомольск и все жарче и тверже поигрывал стальными мускулами Уралмаш… набирало силу стахановское движение, а по радио маршеобразно звенела бодрая «Песня о Встречном». И вместе с тем в человечьих сердцах все заметней и напряженней шевелилась тревога. В стране начинались аресты… И люди, ложась спать, больше всего страшились ночного звонка в дверь. Боялась такого звонка и Майкина мама. И, как потом оказалось, боялась не зря. Вот и решилась она отправить дочку к ее отцу, с которым уже не жила, в Новгород. Другого варианта, видимо, не было. Вот и провожали мы Майку шумливой гурьбой на свердловский вокзал. Теперь этот город опять именуется Екатеринбургом. И хоть нам ужасно было жалко расставаться с Майкой, а у некоторых девчонок даже сверкали на ресницах слезинки, все равно, молодость брала свое: ребята шутили, пели песни, пытались острить по поводу будущей Майкиной жизни и даже полушутя, полусерьезно советовали Майке стать летчицей и постоянно прилетать на Урал. Я нес Майкин набитый книгами тяжелый портфель. А она, выждав удобный момент, положила мне в карман на память свой школьный билет с фотографией и тихо шепнула:
– Я там сообщила тебе новый свой адрес… Напиши непременно… Я буду писать тебе тоже… Интересно: встретимся мы с тобой когда-нибудь или нет…
А я убежденно ответил:
– Почему когда-нибудь? Через год, максимум через два, обязательно!
И потихоньку сунул ей в портфель маленькую шоколадку, на более приличную у меня просто не было денег… Эх, знать бы нам тогда, наивным и добрым, что встретиться мы действительно встретимся, но только через двадцать бурных и долгих лет… Встретимся, когда нам будет уже за тридцать, а за спиной будут и война, и тяжкое горе, и надежды, и новые непростые дороги… И вот, когда Майка уже вошла в вагон и начала переговариваться с подругами жестами через оконное стекло, я увидел спешащего по перрону плечистого мужчину в черном драповом пальто с бежавшей рядом с ним рыжей собакой. Подойдя к одному из вагонов, он, присев, снял с собаки ошейник и, что-то сказав, погладил ее по спине. Та доверчиво виляла хвостом и пыталась лизнуть его в щеку. Но мужчина, отстранив пса, выпрямился и, не оглядываясь, пошел к вагону. Собака пристально смотрела ему в спину не шевелясь. Затем я потерял собаку из виду, потому что все внимание обратил теперь на окно, за которым стояла Майка. Она махала мне рукой и что-то говорила напряженно и быстро… Но что? Я так и не понял. Но вот поезд тронулся, и Майкино окно стало уплывать от меня все быстрее и быстрее… Вагоны уже не шли, а с коротким перестуком мелькали, летя в сторону семафора, поднявшего зеленый фонарь. Они бежали, пока последний с багровым огнем позади не начал скрываться вдали. И тут я неожиданно снова заметил того рыжего пса, которого бросил на перроне хозяин. Вытянувшись в тугую напряженную линию, он мчался по шпалам за поездом. И, казалось, не было на свете силы, которая могла бы его удержать! В ту пору я, конечно, не знал и не думал о том, что когда-нибудь напишу об этом стихи. Я только стоял и смотрел с огромным волнением на бегущего за поездом пса.
Почему я говорю об этом сейчас? Да потому, что в эпизоде этом как бы слились, сфокусировались две сверкающие точки: жизнь и поэзия! И сколько впоследствии в судьбе моей вспыхивало всяческих эпизодов и впечатлений, которые под самыми различными углами так или иначе переплавлялись потом в стихотворные строки, – сосчитать невозможно! Только не надо воспринимать это все упрощенно: эпизод – стихотворение, событие – стихотворная фабула. Процесс превращения случая или факта в стихотворный сюжет, в поэтическую строку гораздо сложней и трудней, а подчас и значительно фантастичнее. И тем не менее человеческая и творческая судьбы прозаика или поэта неразрывно друг с другом связаны. Пусть не упрощенно, не напрямую, но связаны непременно. Виссарион Григорьевич Белинский сказал когда-то о Лермонтове замечательные слова: «Вот – поэт, жизнь которого является продолжением его творчества, а его творчество – есть лучшее оправдание его жизни!» Конечно, у каждого поэта могут быть удачные и неудачные строки. Однако пусть не упрекнут меня в излишнем пристрастии, но у Лермонтова, с моей точки зрения, неудачных строк практически нет. И в подтверждение прекрасных строчек Белинского мы могли бы сегодня сказать: разве смогли бы мы понять и прочувствовать до конца глубину переживаний, духовную остроту и вообще весь пафос таких, например, произведений, как «Мцыри», «Смерть поэта» или «Демон», не будучи знакомы с судьбой самого поэта и редкостной глубиной и силой его души?! А разве сумели бы мы понять и прочувствовать до конца сложность характеров героев его произведений, и прежде всего Печорина, не будучи знакомы с характером, жизнью и всеми перипетиями лермонтовской судьбы!
Кто не знает великолепного стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала» и других его отличных стихотворений? И тем не менее до конца понять всю его любовную лирику можно лишь зная о горячей взаимной любви между ним и Софьей Андреевной Миллер (впоследствии Толстой).
А разве же не накладываются многие и многие страницы жизни Ивана Сергеевича Тургенева на его книги, и в частности на такие его романы, как «Вешние воды» и «Дым»?! Где герои ведут себя хоть и по-разному, но, безусловно, сопрягаясь с чувствами и мыслями самого автора! Я уж не говорю о «Записках охотника» и других. Судьба и творчество. Творчество и судьба! Понятия эти зачастую попросту неразделимы! И это касается не только художников. Если нам интересна книга писателя, то, безусловно, интересна и его судьба. И я это лично знаю, не понаслышке. Ибо получил тысячи и тысячи писем с горячей просьбой рассказать о себе. Такие же просьбы получал я в записках на моих литературных вечерах буквально во всех городах России и, как теперь принято говорить, в городах стран СНГ. О близких мне людях, о надеждах, о горе, о счастье и о вечной борьбе, которую я веду во имя моих идеалов и правды.
Не мне судить о том, насколько хороша или нехороша эта книга. Но за то, что она написана и честно и искренне, ручаюсь я абсолютно! Прочтите ее и судите сами!
Биографию свою я излагал уже неоднократно. И начинал я ее так, как обычно начинают все, то есть с упоминания об отце и матери. Впрочем, не только о них. Рассказывал я еще и о своем дедушке по материнской линии Иване Калустовиче, которого с уважительной улыбкой называл «историческим». И это, пожалуй, все. Я полагал, что этого вполне довольно. Да никто меня о большем и не просил. Но вот теперь я все чаще и чаще стал думать о том, что мало мы, в сущности, знаем свою родословную. Редко интересуемся дедушками и бабушками, а уж о прадедах зачастую и не ведаем ничего. Ни от этого ли прохладного равнодушия мы и историю своей родины знаем нередко кое-как, с пятое на десятое? Не отсюда ли идет у некоторых людей довольно слабое притяжение к земле, на которой он вырос, к своему народу? Это не громкие слова, не риторика. Это живая правда. В дореволюционные годы существовало немало домов, особенно в аристократических семьях, где родословное древо известно было до седьмого, а то и до десятого колена. И было это справедливо и хорошо. Иваны, не помнящие родства, были не в чести. В октябре семнадцатого революционная волна, сокрушая отжившее, разметала и унесла вместе с тем и что-то важное, дорогое. В частности, родословные нити, семейные связи, а порой и святое уважение к прошлому. Справедливость требует сказать, что подобного рода «забывчивость» в значительной степени подкрепляла политическая обстановка, царившая в те годы в стране. Считалось почти позором иметь предков с дворянским происхождением, выходцев из священнослужителей или купцов. Люди, в чьих семьях были подобные отцы или деды, старались не говорить об этом вслух, стеснялись вспоминать о них в своих анкетах, а со временем и почти забывали. Впрочем, зачем далеко ходить? Даже в нашей, можно сказать, прогрессивной семье о моем дедушке по линии мамы, который был секретарем Чернышевского, говорили с гордостью, а о дедушке по линии отца, который пытался выбиться в купцы, вспоминали неохотно, а уж в анкеты он не попадал и вовсе. И делалось это отнюдь не из страха, никто в нашей семье этим пороком не страдал, и это не раз подтверждала жизнь, а просто из какой-то неловкости и еще по искреннему убеждению, что подобную дорогу почитать нельзя. И сколько таких неловкостей и провалов в памяти и семейных архивах многих и многих людей, сегодня, пожалуй, и сосчитать нельзя. А это очень и очень жаль, ибо сегодня мы вроде бы уже освобождаемся от общественных и классовых предрассудков минувших лет. А сколько ярких, интересных и самобытных имен безвозвратно кануло уже в Лету…
В каждом из нас всегда перекрещены два начала, две дороги, две жизни: материнская и отцовская. Мы их наследники и продолжатели. Их гены, их кровь, их чувства и мысли, их печали, мечты и надежды и вообще все, что билось, страдало, смеялось и пело в их сердцах, получили по наследству мы и несем дальше, добавляя свои мысли и чувства, свои беды и радости, свою надежду и веру для того, чтобы передать нашим детям. Так устроена жизнь. И устроена справедливо. И не только справедливо, но и хорошо, иначе не казалась бы нам она такой короткой!
Но, итак, о линии материнской. Назвать эту линию линией «прекрасного пола» не было бы никаким преувеличением, так как мама моя обладала и в самом деле красотой. И фотографии ее – наглядное тому подтверждение. Так вот, для того чтобы повнимательней познакомиться с моей родословной по линии мамы, надо мысленно перенестись в Петербург второй половины девятнадцатого века. В ту пору трудился там на Путиловском заводе потомственный рабочий Андреев, носивший имя, соответственное фамилии: Андрей. Дед его, работавший мастеровым в корабельных доках, по семейным преданиям, 14 декабря 1825 года стоял в толпе на Сенатской площади, когда Николай I расстреливал восстание декабристов. Смотрел рабочий Михайло на то, как под взрывами картечи падали молодые смелые люди, обагряя кровавыми пятнами снег, и с того памятного утра люто возненавидел царя. И кто знает, не от него ли жаркие капли той ненависти через несколько поколений добрались до моей мамы и вскипели в ее сердце горячим гневом против несправедливости и увлекли в пламя Гражданской войны?!
Но повернем колесо времени назад. У путиловского рабочего Андрея Андреева была многочисленная семья. Старшей среди детей была Вера – высокая, статная, с независимым взором и еще более независимым характером. Теперь мы на несколько минут прервем наш разговор о рабочей династии и шагнем из пролетарского предместья в аристократический квартал Петербурга.
Где-то возле канала Грибоедова за витой чугунной оградой в глубине сада высился особняк. У ворот – строгий молчаливый привратник. В глубину сада вела посыпанная песком липовая аллея. Хозяином дома был отпрыск старинного английского рода лорд Норман. Вильям Жозеф Норман, несмотря на голубую кровь, не чужд был активной деятельности и обладал крупными рыбными концессиями в России. В богатом особняке вместе с ним жили жена его Жозефина и трое детей: Эдуард, Альфред и Луиза. И жить бы этой семье в довольстве и радости, если бы не поразившая дом беда. Внезапная болезнь свалила и навсегда приковала к постели Жозефину Норман. Строгая и немногословная, она мужественно переносила свое тяжкое горе. Муж был к ней всегда предупредителен и добр, однако был он еще слишком молод для того, чтобы обречь себя на монашеский аскетизм. Рано или поздно что-то непременно должно было произойти. Жизнь это жизнь! И оно, это «что-то», случилось. Я не знаю, где и при каких обстоятельствах встретился английский лорд Вильям Жозеф Норман с девушкой из городского предместья красавицей Верой Андреевой. Возможно, что произошло это где-нибудь на проспекте или в саду в день народного гулянья, или у моря в порту, где девушки помогали морякам выгружать рыбу, или… да мало ли где могли познакомиться люди на свете! Пути Господни неисповедимы… Важно одно: они встретились и полюбили друг друга. О том же, что это было большое и серьезное чувство, а не мимолетный роман, говорит уже сам по себе тот факт, что от этой любви родились на свет целых трое детей: Мария, Вера и Владимир. Лорд Норман человек был порядочный и серьезный. При тяжелобольной, но живой жене он жениться еще раз не мог. Он делал все, что мог, для своей любимой, но положение ее было ужасным. По тогдашним временам девушка, родившая вне брака, считалась навек опозоренной. И каким, надо сказать, сильным характером должна была обладать Вера Андреевна, чтобы не только стойко вынести все угрозы и весь позор, который обрушился на ее голову, но родить еще второго и третьего ребенка! Мальчуганом я видел ее портрет и хорошо его помню: темное шерстяное, застегнутое у ворота старинной брошью платье, спокойное волевое лицо, прямой нос и большие выразительные глаза. А на голове… впрочем, нет, правильнее будет сказать не на голове, а над головой не прическа, не завитки, не кудри, а целое архитектурное сооружение из волос. Не знаю, как и на чем все это держалось, каким искусством должны были обладать руки, совершавшие это парикмахерское чудо, но подымалась эта тогдашняя, с позволения сказать, мода едва ли не на высоту второй головы. Моей бабушкой была старшая из троих ее детей – Мария. Отчество ей дали Васильевна, переведя, очевидно, без лишних затей английское Вильям на более знакомое для русского уха Василий. Отец Веры Андреевны, как это нетрудно понять, не мог ни принять, ни простить, ни тем более оправдать отчаянной любви своей дочери. Он проклял и выгнал ее из дома. И она поселилась со своими чадами в небольшом домике на Васильевском острове, который снял для нее Вильям Жозеф.
Мария Васильевна (моя бабушка) рассказывала впоследствии моей маме, что детьми они бегали потихонечку к дому своего отца и осторожно сквозь чугунные узорчатые решетки смотрели с любопытством в сад. Там на спортивной площадке с хохотом и шумом играли в крокет со своими приятелями юные англичане. А по садовым дорожкам ливрейный лакей не спеша возил в коляске седовласую молчаливую даму, укутанную пледом. Вильям Норман постоянно бывал в доме у Веры Андреевны, был неизменно ласков с детьми. И к чести его следует сказать, что в общениях этих не было ни грамма снисходительного высокомерия. Фактически он относился ко всем, как к членам своей семьи. Конечно, обо всем этом можно судить и рядить как угодно, но я бы просил этого не делать, ибо и без того Вере Андреевне и всем ее детям довелось в ту пору хлебнуть из чаши бытия всякой горечи предостаточно. Но прошло несколько лет, и Жозефина Норман умерла. Вскоре сам собою возник вопрос: что делать дальше? Кто был лорд Норман: лютеранин, католик или протестант, я не знаю, знаю лишь, что он предлагал, причем очень настоятельно, Вере Андреевне принять его веру и вступить с ним в законный брак. Однако Вера Андреевна, при всей своей горячей любви к Норману, согласиться на это не могла. Почему? Причин, как мне кажется, тут было много. Во-первых, я думаю, вера. Дело в том, что Вера Андреевна была религиозна и перейти в другую веру означало для нее изменить Богу, предать свою веру. Понимаю, что, прочитав эти слова, кто-то, возможно, и улыбнется:
– Позвольте! Но если она действительно была религиозной, то как же совместить подлинную веру с поступком, далеким от благословения церкви?
И я отвечу: не будем к ней слишком суровы. Разве мир знает мало подобных поступков? Разве можно назвать атеистками ну, скажем, Анну Каренину, Настастью Филипповну или Веру из гончаровского «Обрыва»? Нет, ответ тут не так однозначен! Просто у глубоких женских натур Бог и любовь нередко неразделимы. Больше того, подлинная любовь, проникая в ее сознание, душу и кровь, становится и смыслом всей ее жизни и зачастую высшим ее божеством. И я в этом искренне убежден!
Вторая причина – дети: Мария, Володя и Вера, которые были крещены в христианской церкви, и ни менять их веру, ни жить с ними в разных вероисповеданиях мать не считала возможным. Имелась еще и третья причина: дети Нормана. Они были уже достаточно взрослыми, пронизаны гордым сознанием своего аристократизма, любили собственную мать, а затем и память о ней, и убедить их согласиться на подобный брак их отца было бы задачей сложнейшей. И хотя они знали о существовании Веры Андреевны и даже, может быть, понимали проблемы отца, но одно дело все это понимать и совсем другое – законно и полностью породниться. И хотя Вера Андреевна выросла в простой семье и в аристократках не числилась, но от природы была умна и все эти сложности понимала отлично. И, несмотря на настоятельные просьбы любимого, сознательно перешагивая через собственное сердце, на брак этот все-таки не пошла. Единственно, на что она смогла согласиться, так это на то, чтобы поселиться рядом с дорогим человеком. Однако из гордости в роскошный особняк лорда Нормана, где жили его дети и вся обстановка дышала памятью о его прежней жене, она не переехала, а поселилась с малышами в небольшом флигеле в глубине сада. Постепенно двое из детей Нормана, Эдуард и Луиза, перестали ее дичиться, подружились и все чаще и чаще стали заглядывать в уютный ее флигелек. Альфред не делал этого никогда. Сколько лет прожила Вера Андреевна в морганатическом браке с Вильямом Жозефом Норманом, я не знаю. Думаю, что приблизительно около пятнадцати лет.
Как и почему расстались эти два любящих сердца: Вильям Жозеф и Вера Андреевна, я долгое время не знал. Даже подумал, грешным делом, не бросил ли знатный англичанин свою дорогую «Вэрушу», и только несколько лет назад узнал, что нет, не бросил. Он умер еще до революции в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала Валентина Владимировна. Она рассказала мне, что в первые послевоенные годы она была в Ленинграде и, зная по слухам о том, что лорд Норман никуда не уезжал, а скончался и похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге, она пошла туда и действительно нашла его могилу: большое из черного мрамора надгробье и надпись на английском языке: «Лорд Вильям Жозеф Норман» и даты рождения и смерти. А рядом могила с надписью: «Жозефина Норман». Тетя моя знала, что для того, чтобы могилу не разорили, нужно заявить о том, что есть родственники и, вероятно, что-то дать «за внимание». Но время было такое, что людям, у которых есть связи с заграницей или были родственники-иностранцы, грозили всякие неприятности. И она, честно говоря, побоялась заявить об этом. А когда вновь через много лет приехала в Ленинград и пришла навестить могилу дедушки, то ее уже не было. Видимо, слишком заманчиво было мраморное надгробье. Дети же Нормана Эдуард, Альфред и Луиза после смерти отца, естественно, уехали на родину в Англию. Несколько слов о клане Норманов в Англии. Он многочисленный и солидный. И когда, слушая зарубежные передачи, я вдруг случайно слышу упоминание этой фамилии, я почему-то вспоминаю о Вере Андреевне и ее горячей жертвенной любви. Несколько лет назад радиостанция Би-би-си рассказала о том, как жене Уинстона Черчилля присваивали звание пэра Англии. Лично я, разумеется, с госпожой Черчилль знаком не был, но хорошо помню ее веселый приветливый голос, когда она в сопровождении многочисленной дипломатической и медицинской свиты, в рамках благотворительной помощи, посетила наш госпиталь в Теплом переулке в Москве в 1945 году. Кстати, директором госпиталя, а затем и института ЦИТО был небезызвестный профессор Приоров. Итак, в семидесятые годы, воздавая должное за общественную деятельность, аристократический Лондон присваивал вдове господина Черчилля звание пэра Англии.
По многовековой традиции претендент на такое звание должен был войти в торжественном облачении в палату лордов, где на традиционном мешке с овечьей шерстью сидел председатель палаты. Претендент обязан был стать на одно колено, а председатель палаты, встав с мешка, клал одну руку на голову нового пэра, а другой брал со стола указ о посвящении претендента и громко его читал. Почему я так подробно сейчас об этом говорю? Да потому, что председателем палаты, посвящавшим госпожу Черчилль в пэры Англии, был… лорд Норман. Кем он приходился Вильяму Жозефу, внуком? Внучатым племянником или еще кем-нибудь? Я сказать не могу. Но клан – это клан. Он жив и будет существовать, наверное, долго.
Итак, как было сказано выше, я не знаю причины, по которой любящие люди Вильям Жозеф и Вера Андреевна расстались. Есть еще одна версия. И она, судя по характерам этих людей, лично мне кажется наиболее вероятной. Говорили, что любовь эта была действительно большой и оборвалась лишь со смертью Вильяма. Дети Нормана Эдуард, Альфред и Луиза уехали в Англию. А «великая грешница», проклятая отцом и фактически отлученная от церкви, после потери близкого человека оставаться в Петербурге долее не могла. И уехала в Казань к каким-то дальним родственникам. Поступила белошвейкой в одну из мастерских и воспитывала детей. Вскоре Владимир уехал учиться в Москву, а с ней остались Мария и Вера. Жить становилось все трудней, и Вера Андреевна стала сдавать одну из комнат студентам Казанского университета. И первым же ее жильцом оказался мой будущий дед Иван (Ованес) Калустович Курдов. Красота и сердечность Марии Васильевны произвели на него глубокое впечатление. Они подружились и, как легко догадаться, полюбили друг друга. После окончания Иваном Калустовичем университета она уехала с мужем сначала на Михайловский завод, где Иван Калустович работал врачом и где, кстати сказать, родилась моя мама, а затем жила с ним до своей смерти в Перми. От этого брака у них родились шестеро детей: Нина, Евгений, Виктор, Анатолий, Лидия (моя мама) и Борис. Забегая вперед, скажу несколько слов о детях. Нина Ивановна, став взрослой, первой ушла из семьи. Вышла замуж, а затем, овдовев, работала в советские годы в каком-то учреждении машинисткой. Была она очень полной, набожной, довольно молчаливой. Имелась у Нины Ивановны одна странность. Она боялась огня и ни разу в жизни не зажгла ни одной спички. Когда ей требовалось зажечь керосинку или керосиновую лампу, она звала кого-нибудь из соседей. Когда мне было лет шесть или семь, она присылала мне в письмах копировальную бумагу и я с удовольствием рисовал под копирку. Мне очень нравилось, что из-под моего карандаша, как по волшебству, сразу возникают две и даже три одинаковые картинки. Старший из сыновей, Евгений, после смерти матери тоже сразу ушел из дома. Говорили, что у него произошел какой-то конфликт с отцом. На какой почве, не знаю, но больше он в дом не вернулся и писем не писал. Вера Васильевна, сестра моей бабушки, рассказывала, что он был участником Гражданской войны, сражался с белыми в звании комиссара, а в послевоенные годы был военным прокурором в Сибири. В 1937 году Женя был арестован и погиб в лагерях. У тети Веры – хотя она приходилась мне двоюродной бабушкой, но я звал ее, как моя мама, тоже тетей, – так вот, у тети Веры в альбоме я видел фотографию Евгения Ивановича: командирская фуражка со звездой, круглое, с полными щеками лицо, небольшие усы и хмурый взгляд больших карих глаз. Нараспашку белый полушубок, грузная фигура и большие, довольно выразительные руки, лежащие на коленях. Ни с ним, ни с другим моим дядей Анатолием не виделся я никогда. Анатолий, по рассказам мамы, был любимцем в семье. Веселый, жизнерадостный, озорной, готовый на любые выдумки и фантазии. Сколько бы шалостей он ни натворил, какие бы ни получил колы-двойки, будучи живым, находчивым и веселым, он всегда умел, что называется, выйти из воды сухим да еще и рассмешить классного надзирателя или педагога. Даже сам Иван Калустович – человек величайшей строгости, не прощавший легко никому никаких слабостей, Анатолию все-таки «слабил» и прощал ему порой то, чего другим детям не спустил бы никогда. Когда началась Первая мировая и кайзеровская Германия своими воинственными дивизиями хлынула на землю России, Анатолий Иванович, так и не закончив последнего класса гимназии, сбежал из дома и ушел добровольцем на фронт, по слухам, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве и там в одном из боев погиб. Но если с Евгением и Анатолием я не был знаком никогда, то уж с Виктором Ивановичем, или попросту дядей Витей, не только общался много-много лет, но и любил его больше всех курдовских родственников. Был он высок ростом, чуть грузноват, красив и пользовался успехом у женщин. И если бы я сказал, что сам он был к ним равнодушен, то попросту погрешил бы против истины. Зажив самостоятельной жизнью, он поселился в уральском городе Серове (бывший Надеждинск). Супругой его была тетя Галя, маленькая, пухлая и шумливая украинка. Познакомились они на фронтах Гражданской войны, где Виктор Иванович был командиром кавалерийского эскадрона, а Галина Васильевна боевой сестрой милосердия. Познакомились, подружились и прожили вместе более двадцати лет. Детей у Галины Васильевны не было, к великому ее сожалению. И тогда они взяли из детдома приемную дочь Виолу, которая была моложе меня на год. Характер у тети Гали был, что называется, ершистый и сложный. Она могла вспыхнуть и расшуметься по самому малому поводу, а разойдясь, накричать, нашуметь и даже обидеть. Но при всем при этом душа у нее наидобрейшая. Она готова была в любой час кинуться на выручку к хорошему человеку. Поддержать, помочь, успокоить. А уж какие она готовила обеды, так просто язык проглотить было можно! И угощать умела на славу. Была она и отличной хозяйкой, и любящей верной женой. Меня она любила, словно сына. И я, живя с мамой в Свердловске, гостил у них в Серове часто и много.
Урал! Строгий, прекрасный, дорогой моему сердцу Урал! Сколько я бродил по твоим лесам и чащобам с корзинкой для грибов и туеском для ягод на лямке через плечо… К скольким ледяным и прозрачнейшим родникам припадал пересохшими губами, сколько богатырских, гигантских кедров облазил, сбивая тяжелые шишки, на каких ночевал ароматнейших сеновалах и в каких сказочных лесных речушках купался! Об этом, наверное, стоит написать когда-нибудь целую книгу! Не знаю как теперь, но в пору моего мальчишества таежные дебри вокруг Серова были воистину первозданно волшебными. И тут никаких преувеличений нет. Но к рассказу об Урале я еще вернусь, а сейчас еще несколько слов о моей родне.
Пятым по счету ребенком стала Лидия Ивановна – моя мама. Для каждого сына его мама и самая ласковая, и самая красивая. Ну, а как объективно? Самой ласковой на свете я бы свою маму, пожалуй, не назвал. Она была очень добрая, но строгая. Профессиональный педагог присутствовал в ней не только в школе, но и дома. Однако, не будь она требовательной и строгой, неизвестно, вышло бы из меня что-то стоящее и нужное людям. Жизнь все-таки подтверждает, что доброта без требовательной строгости сколько-нибудь заметных результатов не дает. Ну, это я так, к слову. Что же касается красоты, то тут просто достаточно посмотреть на любую из маминых фотографий, чтобы сказать, что красота ей дана была редкая. И многие женщины, если бы судьба их наделила такой красотой, жили бы, что называется, безбедно и припеваючи. Многие, но не моя мама. Она была совсем иным человеком. Но о ней еще я скажу несколько слов позже. Самым младшим в семье был Борис. В детстве он тяжело болел, да и став взрослым, закаленным и сильным не сделался и, прожив меньше тридцати лет, умер, оставив двух сыновей: Юрия и Владислава. Когда умерла моя бабушка Мария Васильевна и дедушка мой, которому одному подымать шестерых детей было делом непосильным, женился во второй раз, Вера Андреевна вместе с младшей своей дочерью Верой покинула дом моего деда и поселилась навечно в маленьком уральском городе Кыштыме. Городок этот стоит в самом центре уральской красоты. Две горы Егоза и Сугомак, вокруг сказочная тайга, а посредине огромные озера редкостной чистоты – Синее озеро и Увильды.
Здесь, в Кыштыме, Вера Андреевна и умерла. И вот тут произошла, честное же слово, удивительная и трогательная вещь. Вера Андреевна была более пятнадцати лет невенчанной женой лорда Нормана. Но благородного звания леди не имела никогда. И вот ее дети и внуки решили, так сказать, восстановить справедливость хотя бы посмертно. И на гранитном памятнике над ее могилой была высечена надпись: «ВЕРА АНДРЕЕВНА АНДРЕЕВА. ЛЕДИ-БАБУШКА». И пусть спустя годы многим посетителям кладбища надпись эта покажется странной. Что за беда! Главное, что справедливость хоть и поздно, но все-таки к ней пришла… Думаю, что главными инициаторами этой трогательной надписи выступили дочка Веры Андреевны Вера Васильевна и дядя Витя, который горячо ее любил и был очень добрым человеком. Помните: тот самый, которого женщины не обходили своим вниманием и которым он платил в этом плане от полноты души. С тетей Галей он все-таки расстался. Думаю, что немаловажной причиной тому послужила ее бездетность, а Виктор Иванович детей любил, и даже очень. Знаю это по себе. У себя на работе присмотрел он тихую провинциальную барышню, счетовода Лидочку, Лидию Васильевну. Но на отчество она как-то тянула мало, так как была маленькой, пухленькой и кукольно миленькой. Под руку дядя Витя ходить с ней не мог, так как она была почти вдвое ниже его. И если они выходили куда-то в кино или в гости, то она всегда шла впереди, а он, высокий и грузный, – сзади. У Лидочки был тихий голосок (совсем не как у тети Гали). Она была сентиментальна, мужа звала Витусик и двигалась почти бесшумно. Так же тихо и неприметно родила она «Витусику» пятерых детей: Юру, Веру, Витю, Леву и Риту. Я ее в шутку называл за спиной «Лидусиком». Но хотя мама была и тихая, ребята выросли боевыми. Старший, Юра, пошел в рабочие и проработал на серовском металлургическом заводе 30 лет на прокатке. Второй брат, Лева, и посейчас работает в горячем цеху нагревальщиком печи. Вера тоже работала на заводе. Остальные разлетелись кто куда.
Господи, как же хорошо помню я Серов тех далеких довоенных лет! Узенькая, но быстрая и говорливая речушка со смешным названием Каква, утонувшие в палисадниках деревянные дома, дощатые тротуары, заросшие зеленой травкой тихие улочки с привязанными к колышкам на длинных веревках козами, из-за каждого забора – черемуха и сирень… Каменные дома только в центре. Превосходно помню и тот двухэтажный дом возле Каквы, где в одной из квартир внизу жил Виктор Иванович с тетей Галей и Виолкой. И где я объедался до окаменения живота в лесу черемухой и бултыхался в Какве. И второй, тоже деревянный, одноэтажный домик, где жил он уже с Лидочкой на улице Ленина. Если за весь день по улице пройдет хотя бы один грузовик, то это событие. Да и лошадка с телегой проскрипит не чаще, чем трижды в день. Зеленые цветники, огороды, кудахтанье кур да жующие у ворот козы. Ну, а еще тишина, патриархальная тишина. Тишина по всему городу. Нет, о заводах я не говорю. Там шла своя напряженная и горячая жизнь. Но вот на городские улочки она не выплескивалась никак. Улицы жили своей задумчивой и неторопливой жизнью. Сегодня Серов абсолютно другой. Теперь это небольшой, но современный индустриальный город. Многоэтажные здания, асфальт, телевизоры, «Жигули» и «Волги», огромные дворцы культуры, кинотеатры, рестораны, гостиницы. Короче говоря, «Приезжайте к нам в Серов!». Дружба моя с этим городом не оборвалась. И когда я приезжаю в Серов читать свои стихи, залы, где мне доводится выступать, всегда полны народа. И я глубочайше благодарен городу за ту честь, которую он мне оказал. На том месте, где стоял когда-то дом моего дяди, улица Ленина, дом 149, высится многоэтажный дом. На стене его установлена бронзовая мемориальная доска с моим барельефом и выгравированными датами моего пребывания в Серове. Здесь по установившейся традиции выпускникам десятых классов и школ ПТУ вручались комсомольские билеты. В 1986 году и я был удостоен чести вручить – вместе с первым секретарем горкома комсомола – билеты членов ВЛКСМ юным горожанам рабочего города Серова.
«Исторический дедушка» и другие
О своем дедушке Иване (Ованесе) Калустовиче Курдове мне уже не раз доводилось писать в предисловиях к своим книгам. Однако говорить сейчас о моей родословной и пройти мимо Ивана Калустовича только потому, что уже писал о нем когда-то, было бы абсолютной несправедливостью. Тем более что и на мою маму, и на меня он оказал достаточно большое влияние. Еще и потому, что это был характер уникальнейший, единственный в своем роде. Во всяком случае, я подобных характеров в своей жизни никогда больше не встречал.
Дедушка мой по национальности был армянин. Почему фамилия у него Курдов, я точно не знаю. В семье нашей существовало что-то вроде предания о том, что когда-то, во время армяно-курдской вражды, после какой-то заварухи курдский мальчик попал в плен к армянам. А точнее, его нашли заблудившимся в горах. Был он совсем маленький и имени своего назвать не мог или от страха забыл. Ну, раз он был курдом, то и дали ему фамилию Курдян. Найденыша приютили, выкормили, воспитали. Он абсолютно «обармянился», вырос и женился на армянке. Его сын тоже выбрал в жены армянку, их дети тоже и так далее. Поколения менялись, а фамилия Курдян так и переходила от отца к сыну. В Астрахани, куда переехал дед Ивана Калустовича и где основное население было русским, фамилия эта для удобства произношения трансформировалась в Курдов. Так это было или не так, с полной ответственностью я сказать не могу. Рассказываю как слышал. Во всяком случае, версия эта кажется мне достоверной. Что было дальше? А дальше было вот что…
В 1885 году из далекого Вилюя после двадцатилетней ссылки в Астрахань вернулся знаменитый писатель, революционер и демократ Николай Гаврилович Чернышевский. Возвратился и горячо принялся за работу. Ольга Сократовна, занятая детьми и домашними делами, серьезной помощи в работе оказывать ему не могла. Срочно нужен был секретарь. И тогда друзья порекомендовали Николаю Гавриловичу выпускника старших классов гимназии Ивана Курдова. Для такого человека, как Чернышевский, Курдов обладал, без всяких преувеличений, целым рядом достоинств. Во-первых, он был тесно связан с тайными революционными студенческими кружками. Во-вторых, владел великолепным каллиграфическим почерком, а в-третьих, был скромен и с гранитной твердостью умел хранить тайны. Дедушка рассказывал мне впоследствии, что, прежде чем они с Николаем Гавриловичем садились за работу, Ольга Сократовна непременно усаживала его за стакан чая с неизменными бутербродами. Однако чаепитие всегда было коротким, так как Чернышевский рабочим временем дорожил чрезвычайно. Чтобы поддержать его материальное положение, различные издательства либерального толка заказывали ему переводы. Николай Гаврилович, набросив на плечи шерстяной плед, расхаживал обычно по комнате и диктовал, а Ваня Курдов быстро писал, стараясь не пропустить ни одного звука. Так, «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» Вебера, которую переводил в те дни Чернышевский, почти целиком была переписана рукой моего деда. Чернышевский был в жизни исключительно пунктуальным и обязательным человеком. Во время работы не любил отвлекаться на какие-либо разговоры. Особенно неприятны были ему расспросы о тяжелых и мрачных годах, проведенных в вилюйском остроге. Однажды, по свидетельству моего деда, между ними произошел такой диалог:
– Николай Гаврилович, можно мне задать вам один вопрос?
– Не надо, Ваня, я этого не хочу.
– Но откуда вы знаете, какой я хочу задать вам вопрос?
– Знаю, Ваня, знаю. Только задавать этого вопроса не надо. Давай работать.
С первого дня знакомства и до последних своих дней дедушка мой горячо любил Чернышевского, восхищался им и жадно впитывал его идеи, мысли, советы. Мысли Чернышевского, его идеи, идеи народных демократов стали отныне главным смыслом его жизни.
Сегодня в этом доме музей Чернышевского. В 1985 году, ровно через 100 лет, по приглашению Астраханской филармонии, я выступал в различных концертных залах города. Посетил и дом-музей Чернышевского.
Водил меня по залам этого музея самый крупный специалист по Чернышевскому и автор множества монографий о нем профессор Травушкин Николай Сергеевич. Мне и моей жене Галине Валентиновне он показал стенд, над которым висел портрет моего дедушки и где лежали его рабочие врачебные инструменты. А затем подвел нас к большому дубовому столу и не без торжественности сказал:
– А вот это, Эдуард Аркадьевич, стол, за которым работал Николай Гаврилович. Вот здесь сидел Чернышевский, а вот тут – ваш дедушка.
Удивительное это было ощущение – прикасаться рукой к столу, за которым сидел Чернышевский, а рядом с ним мой дедушка… Словно бы прикоснулся к живому кусочку истории! Не забуду этого ощущения никогда! И, стоя у этого исторического стола, я как бы заново ощутил, почувствовал, услышал, как разговаривают в этой комнате два человека, Николай Гаврилович и мой дед.