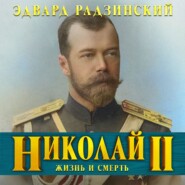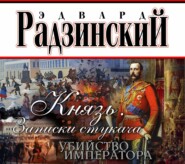По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр II. Жизнь и смерть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай благословляет всех, причем каждого – отдельно. И с каждым, несмотря на возрастающую слабость, беседует. Благословляет Машу, жену наследника, – он ее любил. Берет ее руку и взглядом показывает на императрицу, поручая ей жену. Благословив всех, он сказал: «Помните то, о чем я так часто просил вас: оставайтесь дружны».
Императрица была добра к нему до конца. Она говорит: «С тобой хотят проститься Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен…» – перечисляет Александра Федоровна для благопристойности имена своих фрейлин. И заканчивает: «И Варенька Нелидова».
Николай поблагодарил ее взглядом и сказал: «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть, ты скажешь ей, что прошу меня простить, что я за нее молился… и прошу ее молиться за меня».
Подошла очередь Александра. Все отошли от кровати.
Умирающий царь сказал: «Оставляю тебе команду не в надлежащем порядке… Оставляю тебе много огорчений и забот… – Он помолчал. И вдруг прежним звучным сильным голосом закончил: – Но держи все! Держи вот так!»
И крепко сжатым кулаком железной руки показал Александру, как следует держать Россию.
И вновь благость надвигавшегося конца вернулась к нему…
– Теперь мне нужно остаться одному – подготовиться к последней минуте.
Как много дало им, остававшимся жить, это торжественное расставанье! Это станет одной из причин, почему Александр будет так бояться убийства. Он будет бояться исчезнуть из жизни, вместо того чтобы, как отец, – удалиться с молитвой!
Фрейлина Анна Тютчева описывает, как по залам дворца, полном безмолвных ожидающих придворных, с распущенными волосами скиталась любовница умиравшего, не допущенная им к своей постели.
Увидев Тютчеву, Варенька Нелидова схватила ее за руку, судорожно затрясла и проговорила: «Une belle nuit! Une belle nuit!». (Какая прекрасная ночь! Какая прекрасная ночь!). Она не сознавала своих слов, безумие овладело ее бедной головой. Она очень любила умиравшего государя.
В это время умирающий страшно хрипел… Прохрипел Мандту (по-немецки):
– Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка? (Wird diese infame Musik noch lange dauern?).
Мандт обещал:
– Недолго.
Священник благословил умиравшего, осенив крестом. Царь сделал ему знак: тем же крестом благословить Александра и жену. До самого последнего вздоха он старался высказать семье свою нежность.
После причастия император сказал: «Господи, прими меня с миром»… И успел еле слышно прохрипеть жене: «Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того момента, когда я увидел тебя в первый раз и до этой последней минуты».
Больше он не говорил. Агония была быстрой. Он отошел.
Тридцатилетнее железное царствование закончилось. Они все стояли на коленях вокруг кровати.
Когда Александр взглянул на отца, то был поражен – Николай удивительно помолодел, и черты казались высеченными из мрамора. Как опишет потом все та же Анна Тютчева: «Неземное выражение покоя и завершенности, казалось, говорило: я уже все знаю, все вижу».
С колен Александр встал императором Александром II.
Когда он вышел из кабинета, услышал вокруг: «Да благословит Господь Ваше Величество». Он попросил:
– Не называйте меня сейчас так: это еще слишком больно. Мне надо привыкнуть.
Во время похорон было очень солнечно. В Петропавловской крепости, в соборе, гроб стоял на подножии из красной парчи, под балдахином из парчи серебряной с горностаем… И храм, пронизанный солнечными лучами, сверкал тысячами свечей… Новая императрица рассказала потом Анне Тютчевой: в ту минуту, когда должны были закрыть гроб, вдовствующая императрица положила на сердце Николая крест, сделанный из мозаики храма Святой Софии в Константинополе. Она хотела верить: освобождение Константинополя и братьев-славян от турок – мечта, ради которой воевал ее рыцарь, осуществится.
Брат Костя первым присягнул Александру, чтобы развеять слухи об их соперничестве. Перед присягой они бросились в объятия друг другу и оба горько плакали об отце. Костя сказал:
– Я хочу, чтобы все знали, что я первый и самый верный из твоих подданных.
Да, соперничество было, но смерть и слова отца навсегда примирили.
Теперь они были вместе. И будут вместе до самого конца.
После похорон начался перезвон церковных колоколов, закончившийся артиллерийским салютом в честь нового императора. Этот праздничный салют как бы напоминал о тех страшных выстрелах пушек, сопровождавших вступление отца на трон. Напоминал, что с походами гвардии на дворец – покончено. И это все – благодаря отцу. Гвардия навсегда была устранена от вмешательства в дела династии.
Первый раз почти за полтора столетия престол передавался в совершенном спокойствии.
Император Александр II со всем многочисленным семейством вышел к народу на балкон Зимнего дворца – над Салтыковским подъездом (через этот подъезд был вход в личные апартаменты императорской семьи). Тринадцатилетний цесаревич Николай, одиннадцатилетний Александр и дальше мал мала меньше: девятилетний Владимир, шестилетний Алексей, трехлетняя Мария – вместе с императрицей окружали нового императора.
Сюда – на балкон над Салтыковским подъездом – он будет выходить после каждого покушения.
Через этот подъезд через четверть века внесут его окровавленное тело.
Часть вторая
Император
Глава пятая
Великое время
Оттепель
Почти четыре десятилетия Александр находился за кулисами истории. И только теперь, заканчивая тридцать шестой год своей жизни, вышел на политическую сцену. Но зато вышел в желаннейший момент для любого нового правителя: русское общество поняло – так больше жить нельзя. Как ни трудно ему было признать, но после похорон отца нечто тяжелое спало со столицы… Кончился какой-то гнет. И с него этот гнет тоже сняли. Похоронили не государя, но целую эпоху.
И все та же фрейлина Тютчева записала об умершем: «Его безумно жаль, Царствие ему Небесное. Но он пожал то, что посеял. Ведь все последнее время занимался он не своей родиной, а каким-то “порядком в Европе”, и народы считали его деспотом».
Был февраль, но вдруг наступили столь редкие в Петербурге очень солнечные дни.
После похорон они сидели с женой и Костей и подводили итоги. Отец и вправду оставил команду в ужасном непорядке. Казна пуста, армия беспомощна, вооружение – допотопное, паровой флот в России не существовал. По всей Европе отменили телесные наказания, в России – секли и беспощадно. Куда ни кинь взгляд, всюду – плохо, повсюду – гниль. Крепостное право, забытое в Европе, дикий феодальный суд, где судили чиновники, причем часто в отсутствие тяжущихся сторон, где все решали взятки.
Прямолинейный, пылкий Костя предлагал немедля объявить обществу о разрыве с прошлым – о начале коренных реформ. Но молодая императрица высказала мысль Александра: «Всюду крах, но мы вынуждены будем сейчас молчать. Надобно щадить честь и память отца». Более того, Александр решил: сначала поставим памятник папа?, потом… начнем реформы.
Памятник отцу поставили рядом с площадью, где Николай разгромил мятежных декабристов. И начали готовится к другому великому событию.
Хотя Александр, кроме бессловесной покорности отцу, ничем себя не проявил, но, как всегда в России, после смены правителя в обществе родились великие надежды.
Лев Толстой, переведшийся с Кавказа в Крымскую армию, писал в осажденном союзниками Севастополе: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться, мужать, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России».
Но наш скептик Чаадаев не поверил. Его раздражал этот вечный русский «покорный энтузиазм». Именно тогда появился у Чаадаева весьма эксцентрический жест. Он попросил у врача рецепт на мышьяк для крыс. И каждый раз, когда кто-то при нем начинал говорить о надеждах на нового императора, вынимал из кармана рецепт яда и молча показывал.
Между тем первые благодетельные шаги были сделаны и тотчас. Александр не забыл встречи с декабристами. После 30 лет заточения и ссылок оставшимся в живых декабристам было разрешено вернуться. И они вернулись – вчерашние блестящие гвардейцы, а нынче – больные старики. Последовали и первые либеральные изменения в цензуре.
Недвижная, навечно замерзшая река вдруг шумно тронулась. Начался ледоход. Общество, доселе покорно молчавшее, громко заговорило. И все осуждали прошлое и все требовали реформ. Публично клеймили казнокрадство, достигшее к концу прошедшего царствования небывалых размеров. Петиции с предложениями рекой полились во дворец. «Здесь, в Петербурге, общественное мнение расправляет все более крылья… Все говорят, все толкуют вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкуют. И через это, разумеется, учатся. Если лет пять-шесть так продлится, общественное мнение, могучее и просвещенное, сложится. И позор недавнего безголовья хоть немного изгладится», – писал К. Кавелин в письме к другому известному публицисту М. Погодину.
И тогда же писатель Н. Мельгунов объявил, что верит – при новом царе должна, наконец-то, появиться европейская «гласность». И отец фрейлины Анны Тютчевой, наш замечательный поэт Федор Тютчев приветствовал первые распоряжения Александра знаменитым определением: «Оттепель».
Императрица была добра к нему до конца. Она говорит: «С тобой хотят проститься Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен…» – перечисляет Александра Федоровна для благопристойности имена своих фрейлин. И заканчивает: «И Варенька Нелидова».
Николай поблагодарил ее взглядом и сказал: «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть, ты скажешь ей, что прошу меня простить, что я за нее молился… и прошу ее молиться за меня».
Подошла очередь Александра. Все отошли от кровати.
Умирающий царь сказал: «Оставляю тебе команду не в надлежащем порядке… Оставляю тебе много огорчений и забот… – Он помолчал. И вдруг прежним звучным сильным голосом закончил: – Но держи все! Держи вот так!»
И крепко сжатым кулаком железной руки показал Александру, как следует держать Россию.
И вновь благость надвигавшегося конца вернулась к нему…
– Теперь мне нужно остаться одному – подготовиться к последней минуте.
Как много дало им, остававшимся жить, это торжественное расставанье! Это станет одной из причин, почему Александр будет так бояться убийства. Он будет бояться исчезнуть из жизни, вместо того чтобы, как отец, – удалиться с молитвой!
Фрейлина Анна Тютчева описывает, как по залам дворца, полном безмолвных ожидающих придворных, с распущенными волосами скиталась любовница умиравшего, не допущенная им к своей постели.
Увидев Тютчеву, Варенька Нелидова схватила ее за руку, судорожно затрясла и проговорила: «Une belle nuit! Une belle nuit!». (Какая прекрасная ночь! Какая прекрасная ночь!). Она не сознавала своих слов, безумие овладело ее бедной головой. Она очень любила умиравшего государя.
В это время умирающий страшно хрипел… Прохрипел Мандту (по-немецки):
– Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка? (Wird diese infame Musik noch lange dauern?).
Мандт обещал:
– Недолго.
Священник благословил умиравшего, осенив крестом. Царь сделал ему знак: тем же крестом благословить Александра и жену. До самого последнего вздоха он старался высказать семье свою нежность.
После причастия император сказал: «Господи, прими меня с миром»… И успел еле слышно прохрипеть жене: «Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того момента, когда я увидел тебя в первый раз и до этой последней минуты».
Больше он не говорил. Агония была быстрой. Он отошел.
Тридцатилетнее железное царствование закончилось. Они все стояли на коленях вокруг кровати.
Когда Александр взглянул на отца, то был поражен – Николай удивительно помолодел, и черты казались высеченными из мрамора. Как опишет потом все та же Анна Тютчева: «Неземное выражение покоя и завершенности, казалось, говорило: я уже все знаю, все вижу».
С колен Александр встал императором Александром II.
Когда он вышел из кабинета, услышал вокруг: «Да благословит Господь Ваше Величество». Он попросил:
– Не называйте меня сейчас так: это еще слишком больно. Мне надо привыкнуть.
Во время похорон было очень солнечно. В Петропавловской крепости, в соборе, гроб стоял на подножии из красной парчи, под балдахином из парчи серебряной с горностаем… И храм, пронизанный солнечными лучами, сверкал тысячами свечей… Новая императрица рассказала потом Анне Тютчевой: в ту минуту, когда должны были закрыть гроб, вдовствующая императрица положила на сердце Николая крест, сделанный из мозаики храма Святой Софии в Константинополе. Она хотела верить: освобождение Константинополя и братьев-славян от турок – мечта, ради которой воевал ее рыцарь, осуществится.
Брат Костя первым присягнул Александру, чтобы развеять слухи об их соперничестве. Перед присягой они бросились в объятия друг другу и оба горько плакали об отце. Костя сказал:
– Я хочу, чтобы все знали, что я первый и самый верный из твоих подданных.
Да, соперничество было, но смерть и слова отца навсегда примирили.
Теперь они были вместе. И будут вместе до самого конца.
После похорон начался перезвон церковных колоколов, закончившийся артиллерийским салютом в честь нового императора. Этот праздничный салют как бы напоминал о тех страшных выстрелах пушек, сопровождавших вступление отца на трон. Напоминал, что с походами гвардии на дворец – покончено. И это все – благодаря отцу. Гвардия навсегда была устранена от вмешательства в дела династии.
Первый раз почти за полтора столетия престол передавался в совершенном спокойствии.
Император Александр II со всем многочисленным семейством вышел к народу на балкон Зимнего дворца – над Салтыковским подъездом (через этот подъезд был вход в личные апартаменты императорской семьи). Тринадцатилетний цесаревич Николай, одиннадцатилетний Александр и дальше мал мала меньше: девятилетний Владимир, шестилетний Алексей, трехлетняя Мария – вместе с императрицей окружали нового императора.
Сюда – на балкон над Салтыковским подъездом – он будет выходить после каждого покушения.
Через этот подъезд через четверть века внесут его окровавленное тело.
Часть вторая
Император
Глава пятая
Великое время
Оттепель
Почти четыре десятилетия Александр находился за кулисами истории. И только теперь, заканчивая тридцать шестой год своей жизни, вышел на политическую сцену. Но зато вышел в желаннейший момент для любого нового правителя: русское общество поняло – так больше жить нельзя. Как ни трудно ему было признать, но после похорон отца нечто тяжелое спало со столицы… Кончился какой-то гнет. И с него этот гнет тоже сняли. Похоронили не государя, но целую эпоху.
И все та же фрейлина Тютчева записала об умершем: «Его безумно жаль, Царствие ему Небесное. Но он пожал то, что посеял. Ведь все последнее время занимался он не своей родиной, а каким-то “порядком в Европе”, и народы считали его деспотом».
Был февраль, но вдруг наступили столь редкие в Петербурге очень солнечные дни.
После похорон они сидели с женой и Костей и подводили итоги. Отец и вправду оставил команду в ужасном непорядке. Казна пуста, армия беспомощна, вооружение – допотопное, паровой флот в России не существовал. По всей Европе отменили телесные наказания, в России – секли и беспощадно. Куда ни кинь взгляд, всюду – плохо, повсюду – гниль. Крепостное право, забытое в Европе, дикий феодальный суд, где судили чиновники, причем часто в отсутствие тяжущихся сторон, где все решали взятки.
Прямолинейный, пылкий Костя предлагал немедля объявить обществу о разрыве с прошлым – о начале коренных реформ. Но молодая императрица высказала мысль Александра: «Всюду крах, но мы вынуждены будем сейчас молчать. Надобно щадить честь и память отца». Более того, Александр решил: сначала поставим памятник папа?, потом… начнем реформы.
Памятник отцу поставили рядом с площадью, где Николай разгромил мятежных декабристов. И начали готовится к другому великому событию.
Хотя Александр, кроме бессловесной покорности отцу, ничем себя не проявил, но, как всегда в России, после смены правителя в обществе родились великие надежды.
Лев Толстой, переведшийся с Кавказа в Крымскую армию, писал в осажденном союзниками Севастополе: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться, мужать, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России».
Но наш скептик Чаадаев не поверил. Его раздражал этот вечный русский «покорный энтузиазм». Именно тогда появился у Чаадаева весьма эксцентрический жест. Он попросил у врача рецепт на мышьяк для крыс. И каждый раз, когда кто-то при нем начинал говорить о надеждах на нового императора, вынимал из кармана рецепт яда и молча показывал.
Между тем первые благодетельные шаги были сделаны и тотчас. Александр не забыл встречи с декабристами. После 30 лет заточения и ссылок оставшимся в живых декабристам было разрешено вернуться. И они вернулись – вчерашние блестящие гвардейцы, а нынче – больные старики. Последовали и первые либеральные изменения в цензуре.
Недвижная, навечно замерзшая река вдруг шумно тронулась. Начался ледоход. Общество, доселе покорно молчавшее, громко заговорило. И все осуждали прошлое и все требовали реформ. Публично клеймили казнокрадство, достигшее к концу прошедшего царствования небывалых размеров. Петиции с предложениями рекой полились во дворец. «Здесь, в Петербурге, общественное мнение расправляет все более крылья… Все говорят, все толкуют вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкуют. И через это, разумеется, учатся. Если лет пять-шесть так продлится, общественное мнение, могучее и просвещенное, сложится. И позор недавнего безголовья хоть немного изгладится», – писал К. Кавелин в письме к другому известному публицисту М. Погодину.
И тогда же писатель Н. Мельгунов объявил, что верит – при новом царе должна, наконец-то, появиться европейская «гласность». И отец фрейлины Анны Тютчевой, наш замечательный поэт Федор Тютчев приветствовал первые распоряжения Александра знаменитым определением: «Оттепель».