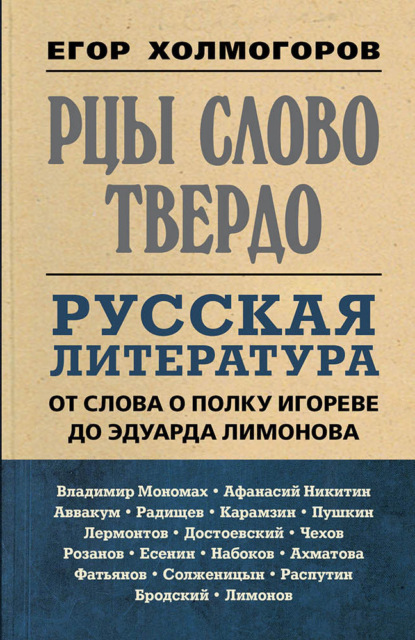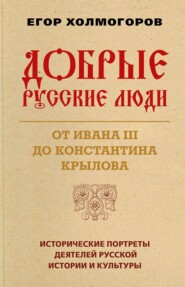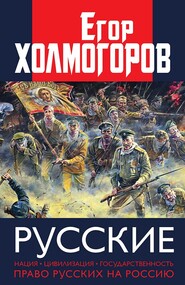По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова
Егор Станиславович Холмогоров
Бисмарку приписывают фразу о том, что Пруссия своей победой над врагом обязана школьному учителю. Так или иначе, с этим не поспоришь: германская нация ковалась тысячами школьных учителей, трудившимися над умами и душами немецких школьников. Егор Холмогоров, «публицист, политический деятель, консервативный идеолог, русский националист», в своей новой книге, соединившей в себе размышления о русской литературе, истории и будущем России, заставляет по-новому взглянуть на знакомые имена из прошлого и настоящего нашей словесности, переосмыслить отношение к некоторым известным авторам и их творчеству и ставит ребром вопрос: а есть ли у русского народа будущее без того, чтобы школьный учитель великой русской литературы не был поставлен во главу угла процесса образования в России? Более того, а будет ли без этого существовать Россия как единое культурное и политическое пространство? Прослеживая развитие отечественной литературы от «Слова о полку Игореве» и Пушкина до Бродского и Лимонова, автор доказывает, что национальная литература и национальный характер – суть сообщающиеся сосуды, и судьба одного неразрывно связана с судьбой другого.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Егор Станиславович Холмогоров
Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова
© Е.С. Холмогоров, 2020
© Книжный мир, 2020
От автора
В этой книге собраны и представлены на суд взыскательного читателя ряд сочинений по русской литературе и, несколько расширяя предмет, русской словесности – от алфавита и орфографии до историографии. Автор не является профессиональным литературоведом или, упаси Бог, литератором. Энциклопедии обычно определяют его как «публицист, политический деятель, консервативный идеолог, русский националист».
Эти четыре характеристики, пожалуй, исчерпывающе описывают тот взгляд на русскую литературу, который представлен в этих очерках. Это взгляд пристрастный, партийный, временами рассчитывающий на «первый-второй», стремящийся мобилизовать прошлое и настоящее великого русского слова на защиту русской национальной идентичности и призывающий писателей и поэтов на ту великую мировую войну между цветущей сложностью традиции, и слякотностью толерантного разложения, которая сегодня кипит от Миннеаполиса и Парижа до Киева и Минска.
Мой друг Дмитрий Ольшанский иногда упрекает меня в «комиссарском подходе» к культуре. Никакой однобокости или ущербности в таком взгляде на русскую литературу я не вижу. Напротив, абстрактный «эстетизм» и внепартийность являются, чаще всего, лишь дымовой завесой антинациональной и леволиберальной пропагандой с её неизбежными камланиями вокруг «Пушкина-негра».
Впрочем, автор надеется на то, что эти очерки доставят читателю не только политическое, но и, до известной степени, интеллектуальное и эстетическое удовольствие. Всегда, когда мог, я старался писать легко, обсуждая интересные смысловые детали, и не брезговал высказываниями от первого лица и мемуарными вставками. Хотя, если говорить о личном, большая часть этих текстов могут быть сведены к одному жанру – запоздавшие сочинения.
Писать сочинения по литературе в отрочестве и юности было для меня невыносимой пыткой. Не то чтобы я литературу не любил – будучи маленьким советским гуманитарием я был неплохо в ней подкован, читал многое из того, чего мои сверстники не читали и того, что им читать не полагалось, располагал солидной отцовской библиотекой, в которой, конечно, не было подростковых сокровищ вроде «Дюмы», зато было немало сокровищ от ксероксного Набокова и пушкинских эпиграмм до Мэри Стюарт и Честертона.
Да и сама жизнь в артистической семье волей-неволей предполагала сопричастность русской литературе. Когда на стене дома почти как икона висит портрет Пушкина, а отец берет тебя на концерт исполняемых им песен на стихи Дениса Давыдова и ты с младых ногтей уверен, что «я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской», а потому «за тебя на черта рад, наша матушка Россия», всё это имеет значение.
Но сочинение-то тут причем? Сочинение в советской школе было крайне своеобразным жанром. От учащегося требовалось высказывать «мысли о прочитанном». Однако высказывать действительно свои мысли, напирая на местоимение «я» тоже было чревато. «От первого лица» полагалось повторять общепринятые лицемерные формулы в строго отмеренной дозировке.
С чужими мнениями тоже было непросто – категорически запрещалось пользоваться какой-либо филологической, исторической, публицистической литературой, кроме, разве что, присяжных революционно-демократических критиков Белинского и Добролюбова. Как в детективах каждый следующий великий сыщик живет так, как будто никогда не читал про Шерлока Холмса, так и мы вынуждены были делать вид, что никакого литературоведения не существует и осмысление Грибоедова, Гоголя и Островского начинается с нас и нашей Анны Иванны как с чистого листа.
Интересуясь историей с того самого момента, когда научился читать, я рано усвоил из историографии совсем другие принципы интеллектуальной деятельности. Твое мнение должно выводиться из сочетания внимательного анализа текста, рассмотрения его интеллектуального контекста и должно продолжать историографическую традицию обсуждения вопроса. Если оно при этом еще и будет само хорошо написано, то совсем прекрасно, историография тоже важный литературный жанр.
Однако подобной историографической филологии в школе не учили. А стало быть тексты, представлявшиеся мною в жанре сочинения на рассмотрение наших словомучительниц, были откровенно убоги, а поскольку филология была в СССР единственной разрешенной формой интеллектуализма, то и ощущал я себя почти идиотом.
По счастью, положение изменилось в 1991 году, когда в знаменитой московской «57-й школе» я попал на уроки Игоря Георгиевича Вишневецкого, ведшего теорию литературы. Сегодняшнему русскому читателю представлять Вишневецкого нет нужды – он автор нашумевшей повести «Ленинград», невероятного по изысканности готического романа «Неизбирательное сродство», изумительной по дантевской силе и не имеющей прецедентов в русской литературе поэмы «Видение», глубокий исследователь жизни и творчества одного из прекрасных, но забытых русских поэтов Степана Шевырева. Тогда это был молодой учитель и начинающий поэт, c невероятным увлечением рассказывавший нам о русской поэзии.
Оказалось, что отношения в кружке символистов, софиология Владимира Соловьева, культ Любови Дмитриевны Менделеевой, самоубийство гусара Князева, – всё это имеет значение для понимания русской литературы. Так же, как имеет значения бисерные хитросплетения образов Мандельштама и звукопись раннего Пастернака. Игорь Георгиевич вполне мог ворваться в класс посреди чужого урока, чтобы объяснить нам, что «ласточка хилая» в «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштама – это аллюзия на греческое звучание слова «ласточка» – ????????. Полтора года продолжалось это интеллектуальное пиршество, за которое я и по сей день признателен, хотя за то, как именно распорядился даром ученик, учитель, разумеется, ответственности не несет.
Тогда я впервые открывал для себя, что понимание литературы – это строгая и вольнолюбивая научная и интеллектуальная дисциплина, а не демонстрация лояльности к господствующему дискурсу, советски-марксистскому ли, либеральному ли…
С дискурсами тоже получалось интересно. Большинство великих русских писателей и поэтов было русскими консерваторами и патриотами. Некоторых можно даже назвать «националистами» в самом строгом академическом смысле слова. Это факт естественный, логичный и неудивительный – патриотизм требует охраны и развития русского языка, то есть языка той великой литературы, в рамках которой они творили если не от прирожденности русских звуков, то хотя бы от того, что искусство поэзии требует слов. В мире существует крайне ограниченное количество «наборов слов», которые действительно пригодны для великой поэзии. И свой набор слов следует защищать и укреплять.
Совсем другое дело филология. И во дни моей юности, и по сей день, поле интерпретации русской литературы было захвачено последователями единственноверного либерального учения и совпадающего с ним, на самом-то деле, советского марксизма и нынешнего западного неомарксизма. Основной функцией этого вохровского литературоведения было систематически искажать и перетолковывать взгляды гениев русского слова так, чтобы они не мешали вести стада дальше по пути прогресса, вперед к запрету русского языка на Украине и сносу памятников в Америке (называю последние по времени рубежи, а сколько их было до этого).
Сколько написано этой красной и голубой филологией страниц о «самообмане» пушкинского консерватизма, о криптореволюционности Достоевского. Когда трудно перетолковать, предпочитают просто запретить и забелить в худших традициях советской цензуры – ни в одно собрание сочинений Иосифа Бродского по решению неких загадочных «наследников» не включается стихотворение «на независимость Украины».
Некоторое время назад мне пришлось создать практически с нуля и на коленке новую, по крайней мере у нас, дисциплину – консервативную кинокритику[1 - Холмогоров, Егор. Истина в кино. Опыт консервативной кинокритики. М.: Книжный мир, 2018.]. По счастью «консервативное литературоведение» в таком учреждении не нуждается – оно представлено достаточно обширной традицией. Из-за крайней литературоцентричности русской культуры, каждый консервативный идеолог, начиная с Михаила Каткова и Константина Леонтьева и заканчивая Игорем Шафаревичем и Константином Крыловым, вынужден с известной регулярностью высказываться о русской литературе. Иногда гений русской словесности оказывается и гением русской консервативной мысли, и высказывается против либерального искажения творчества других гениев русской словесности. Именно так получилось с великолепным антирусофобским пушкиноведческим эссе Александра Солженицына «Колеблет твой треножник».
Национальная, консервативная, православная традиция размышлений о русской литературе огромна. И всё равно её поток слишком мал по сравнению с мощным напором левацких и либеральных перетолкований. Мал ещё и потому, что консерваторы слишком часто покупаются на разводку абстрактного эстетизма. Любя жизнь и действительность как они есть и тщательно взвешивая каждое улучшение, консерватор дает себя убедить, что неважно какова партийность прекрасного, если оно прекрасно. Его внутренняя стеснительность не дает ему сказать «это наши» даже о тех художниках слова, которые «наши» на двести процентов и тем менее он охотно вступает в бой за отвоевание «не совсем наших», а уж совсем неохотно выходит на битву против вредных чужаков, особенно если в них есть толика таланта.
В результате консервативная система оценок русской литературы непрерывно блуждает между тремя риторическими заглушками леволиберальной гипокритики: «Великий N принадлежит всем, недопустима никакая партийность», «Вы не можете отрицать талант левака Х», «Этот Y – посредственность, вы хвалите его только за то, что он ваших взглядов». Не принадлежа ни к мафии российских литераторов, ни к касте литературоведов, автор этой книги, смею надеяться, выработал в себе нечувствительность ко всем видам этого лицемерия, в чем читатель этой книги сможет сам убедиться.
Эта книга страдает родовым проклятием большинства моих книг. Некоторой случайности и спонтанностью происхождения текстов, написанных по оказии. Поэтому в одних случаях перед вами небольшие юбилейные колонки, в других – публицистические проповеди, в третьих, более-менее тщательно проработанные исследовательские статьи, сопровождаемые научным аппаратом, в четвертых – по сути мемуары или лирические эссе в стиле современных блогов (хотя совсем уж блоговых текстов я в эту книгу не включал).
Место издания тоже накладывало свой отпечаток на выбор выразительных средств и объем высказывания – журнал «Новый мир», газеты «Взгляд» и «Культура», сайт телеканала «Царьград», журнал «Свой», альманах «Тетради по консерватизму», легендарный «Спутник и Погром», сайт «Ум+». Наконец, мои собственные издания – «Русский обозреватель» и сайт «100 книг».
Самое огорчительное в этой книге – то, что, наряду с написанными очерками она невидимо полна ненаписанными – о Тютчеве, Гумилеве, Заболоцком, о Гоголе и позабытом Болеславе Маркевиче, об Иване Шмелеве, о Василии Белове и Дмитрии Балашове. Возможно это основание когда-нибудь опубликовать продолжение. Но задерживать публикацию этой книги из-за того, что она неполна было бы делом нестоящим.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить тех, кто помог рождению этой книги. Прежде всего – Андрея Василевского, Игоря Вишневецкого, Артема Серебренникова и Дмитрия Ольшанского, взявших на себя труд прочесть рукопись этой книги и сделать немало существенных замечаний и исправлений. Обязан я поблагодарить тех без чьей инициативы и молитвенной, моральной, организационной, материальной поддержки не могли бы появиться тексты, включенные в эту книгу: Михаила Бударагина, Алексея Зверева, Александра Васильева, Екатерину Злобину, Кирилла Солода, Егора Просвирнина, Екатерину Дмитриеву, Родиона Михайлова, Елену Шаройкину, Аркадия Минакова, Эдуарда Боякова, Любовь Ульянову, протоиерея Владимира Вигилянского и Олесю Николаеву, Владимира Губайловского, Павла Крючкова, протоиерея Виктора (Горбача), Дарью Токареву, Сергея Громова, епископа Троицкого Панкратия, Ивана Демидова, Михаила Смолина, митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, Александру Кирсанову, Константина Малофеева. Наконец, огромную поддержку оказали многочисленные читатели, а порой и благотворители сайта «100 книг», позволившего мне собрать эти тексты вместе.
Посвящение
Эту книгу автор посвящает памяти Константина Крылова (18.10.1967 – 12.05.2020), своего друга, великого русского национального мыслителя, философа, политика, идеолога, эссеиста и публициста, посвятившего немало своих текстов вдумчивому и безжалостному анализу русской литературы. Замечательного писателя, творившего под псевдонимом Михаил Харитонов, далеко вышедшего за первоначальные границы научной фантастики и оставившего в русской литературе яркий след, который нам ещё только предстоит в полной мере оценить.
Ещё в конце 1990-х годов мы, на долгих прогулках по Москве от Таганки до Арбата, или по Ходынскому полю и району Полежаевской, обсуждали необходимость «разбора полетов» в русской литературе, с тем, чтобы она из ментальной удавки на шее русской нации превратилась в средство её духовного и политического самоусиления.
Были писатели, которых Крылов последовательно ненавидел (и я вполне разделял его взгляд), например Салтыков Щедрин, которому он посвятил убийственое эссе «Сглаз»[2 - Крылов, Константин. Нет времени. СПб.: Владимир Даль, 2006, сс. 420–427.]. Были те, в ком он видел не только литературную, сколько национально политическую и антропологическую величину, как «гроссмейстер» русской политики Александр Солженицын: «Вот кто-то встаёт со своей клетки. Протирает глаза, залепленные «обычной жизнью». Оглядывается по сторонам, оценивая ситуацию. Понимает, что она безнадёжна, вокруг монстры, поле обстреливается и шансов нет. Пытается лечь на место и слиться с поверхностью – но размазаться достаточно тонким слоем уже не получается. И тогда он берёт в руки оружие – пистолет, мобильник, кредитную карточку или просто авторучку. И делает первый ход»[3 - Крылов, Константин. Прогнать чертей. М.: Издательская группа «Скименъ», 2010, с. 415.]. Сам Крылов был таким гроссмейстером русской философии и русской национальной мысли.
Выражаю робкую надежду, что, при всей фрагментарности, а порой – заостренной полемичности к некоторым взглядам и суждениям Крылова, представляемая вниманию читателя книга лежит в русле того замысла, который мы обсуждали два десятилетия назад. С тех пор одному из нас суждено было самому стать частью пантеона великой русской литературы, а другому остается об этом пантеоне размышлять.
Рцы слово твердо
I.
Глаголь добро есть. Собственный язык – основа независимого существования нации. Непонятность нашей речи для чужаков мешает слишком уж просто забыть себя и слиться с ними. Пока живы хотя бы несколько слов родного языка, народ себя еще хранит. Собственная система письменности – основа независимого существования целой цивилизации. Засечной чертой стоят буквы, ограждая духовное пространство от поглощения иными культурами.
Алфавит же – декларация цивилизационного суверенитета. Многовековой секрет устойчивости Поднебесной – в ее тысячах иероглифов, в космосе письмен, практически непостижимом для внешних. Невозможно себе представить, чтобы сломлен был и армянский народ, пока он пользуется буквами, изобретенными Месропом Маштоцем. И напротив, новая идея, новая религия приносит и новые письмена. Сокрушив царство персов, ислам навязал им арабскую письменность, скрепляющую единство устремленного к Мекке культурного пространства.
Именно этот дар алфавита, не пролив и капли людской крови, преподнесли славянским народам братья Константин-Кирилл и Мефодий. Установив на греческой основе оригинальный алфавит, они открыли саму возможность развития самобытной славянской цивилизации – учащейся у Древней Греции и Византии, продолжающей, но и превосходящей их.
Этой независимости не хотели для славян немецкие епископы, гнавшие Константина и мучившие в застенках Мефодия во имя торжества латинской азбуки. Они желали, чтобы славян поглотил находившийся на подъеме романо-германский мир. Ободриты, руяне, лужичане – многие славянские этносы навсегда были стерты из учебников. Полякам и чехам с превеликим трудом, в конечном счете, не без помощи русских удалось отстоять независимость. И то, полякам борьба эта, пожалуй, стоила славянской души…
Бережно приняв дар солунских братьев, русский народ хранил его тысячелетие и создал на этой основе великое государство, великую культуру, а главное – язык и литературу, равных которым в истории человечества сыщется не так уж и много.
«Аз, буки, веди», – лепетал мальчишка, учимый читать строгим дьячком по старинному «Часослову». И в этом лепете заключены были «Слово о полку Игореве» и «Сказание о Мамаевом побоище», Аввакум и Ломоносов, Пушкин и Достоевский. Никто не осмелится даже спорить, что сей великий язык дан великому народу.
Иностранцу, выросшему на строгих и суховатых литерах латинского алфавита, изживших даже средневековую вычурность готических шрифтов, русские буквы кажутся причудливыми, порой несуразными и раздражающими. Сколько раз я слышал и нытье наших «патриотов заграницы», что русскому шрифту невозможно придать латинское изящество и простоту. Сколько раз они тонко намекали, что след бы и нам «латинизироваться», вырубив разделяющий нас с Европой «Герцинский лес» кириллицы.
Но упрямая неуступчивость букв, начертанных святой рукой, служила оградой древу нашего языка даже в эпоху петровских реформ, когда он был буквально полонен заимствованиями: «виктория», «фортеция» «баталия», «першпектива». Но начертание «чужебесных» (как выражался славянский просветитель Юрий Крижанич) слов требовало перекодировки.
И вот уже язык, между буквенными жерновами, как бы сам собой перетирал чужие слова. Не «першпектива», а Невский проспект. Не «баталия», а Полтавская битва. Не «фортеция», а Брестская крепость. Не «виктория», а Победа.
Грустно наблюдать сегодня, как кириллические славянские языки один за другим капитулируют под натиском латиницы. В Черногории, Болгарии и Сербии все больше латинских надписей и вывесок. Поддаваясь магии прибыли, славянские языки «евроинтегрируются», хороня будущее ради надежды на еврокомфорт. А там уже недалеко и до иудиного греха, отступничества и от Православия, и от дружбы с Россией, поразившего власти страны Монтенегро.
Отказ от кириллицы – признак цивилизационной неустойчивости, потери самих себя, комплекса неполноценности перед западными небратьями. Но в центре кириллического мира несокрушимо возвышается Россия. И тем яснее, что провидение призвало солунских братьев создать алфавит именно для нашей цивилизации, заложив фундамент ее величия.
В то время как кто-то «латинизируется», я бы рекомендовал нам прочнее утверждать русский язык на древней церковнославянской основе. Именно «славянизировав» с невероятным остроумием и тактом наш язык, Пушкин создал саму возможность уникальной русской литературы. И нам следует пойти по тому же пути в литературном образовании (особенно школьном), лексиконе и даже в алфавите. Не то что вернуться к старой орфографии, но возвратить, быть может, иные из исторических букв: фиту, ижицу, омегу, увеличив тем самым лица необщее выраженье русской азбуки.
Егор Станиславович Холмогоров
Бисмарку приписывают фразу о том, что Пруссия своей победой над врагом обязана школьному учителю. Так или иначе, с этим не поспоришь: германская нация ковалась тысячами школьных учителей, трудившимися над умами и душами немецких школьников. Егор Холмогоров, «публицист, политический деятель, консервативный идеолог, русский националист», в своей новой книге, соединившей в себе размышления о русской литературе, истории и будущем России, заставляет по-новому взглянуть на знакомые имена из прошлого и настоящего нашей словесности, переосмыслить отношение к некоторым известным авторам и их творчеству и ставит ребром вопрос: а есть ли у русского народа будущее без того, чтобы школьный учитель великой русской литературы не был поставлен во главу угла процесса образования в России? Более того, а будет ли без этого существовать Россия как единое культурное и политическое пространство? Прослеживая развитие отечественной литературы от «Слова о полку Игореве» и Пушкина до Бродского и Лимонова, автор доказывает, что национальная литература и национальный характер – суть сообщающиеся сосуды, и судьба одного неразрывно связана с судьбой другого.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Егор Станиславович Холмогоров
Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова
© Е.С. Холмогоров, 2020
© Книжный мир, 2020
От автора
В этой книге собраны и представлены на суд взыскательного читателя ряд сочинений по русской литературе и, несколько расширяя предмет, русской словесности – от алфавита и орфографии до историографии. Автор не является профессиональным литературоведом или, упаси Бог, литератором. Энциклопедии обычно определяют его как «публицист, политический деятель, консервативный идеолог, русский националист».
Эти четыре характеристики, пожалуй, исчерпывающе описывают тот взгляд на русскую литературу, который представлен в этих очерках. Это взгляд пристрастный, партийный, временами рассчитывающий на «первый-второй», стремящийся мобилизовать прошлое и настоящее великого русского слова на защиту русской национальной идентичности и призывающий писателей и поэтов на ту великую мировую войну между цветущей сложностью традиции, и слякотностью толерантного разложения, которая сегодня кипит от Миннеаполиса и Парижа до Киева и Минска.
Мой друг Дмитрий Ольшанский иногда упрекает меня в «комиссарском подходе» к культуре. Никакой однобокости или ущербности в таком взгляде на русскую литературу я не вижу. Напротив, абстрактный «эстетизм» и внепартийность являются, чаще всего, лишь дымовой завесой антинациональной и леволиберальной пропагандой с её неизбежными камланиями вокруг «Пушкина-негра».
Впрочем, автор надеется на то, что эти очерки доставят читателю не только политическое, но и, до известной степени, интеллектуальное и эстетическое удовольствие. Всегда, когда мог, я старался писать легко, обсуждая интересные смысловые детали, и не брезговал высказываниями от первого лица и мемуарными вставками. Хотя, если говорить о личном, большая часть этих текстов могут быть сведены к одному жанру – запоздавшие сочинения.
Писать сочинения по литературе в отрочестве и юности было для меня невыносимой пыткой. Не то чтобы я литературу не любил – будучи маленьким советским гуманитарием я был неплохо в ней подкован, читал многое из того, чего мои сверстники не читали и того, что им читать не полагалось, располагал солидной отцовской библиотекой, в которой, конечно, не было подростковых сокровищ вроде «Дюмы», зато было немало сокровищ от ксероксного Набокова и пушкинских эпиграмм до Мэри Стюарт и Честертона.
Да и сама жизнь в артистической семье волей-неволей предполагала сопричастность русской литературе. Когда на стене дома почти как икона висит портрет Пушкина, а отец берет тебя на концерт исполняемых им песен на стихи Дениса Давыдова и ты с младых ногтей уверен, что «я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской», а потому «за тебя на черта рад, наша матушка Россия», всё это имеет значение.
Но сочинение-то тут причем? Сочинение в советской школе было крайне своеобразным жанром. От учащегося требовалось высказывать «мысли о прочитанном». Однако высказывать действительно свои мысли, напирая на местоимение «я» тоже было чревато. «От первого лица» полагалось повторять общепринятые лицемерные формулы в строго отмеренной дозировке.
С чужими мнениями тоже было непросто – категорически запрещалось пользоваться какой-либо филологической, исторической, публицистической литературой, кроме, разве что, присяжных революционно-демократических критиков Белинского и Добролюбова. Как в детективах каждый следующий великий сыщик живет так, как будто никогда не читал про Шерлока Холмса, так и мы вынуждены были делать вид, что никакого литературоведения не существует и осмысление Грибоедова, Гоголя и Островского начинается с нас и нашей Анны Иванны как с чистого листа.
Интересуясь историей с того самого момента, когда научился читать, я рано усвоил из историографии совсем другие принципы интеллектуальной деятельности. Твое мнение должно выводиться из сочетания внимательного анализа текста, рассмотрения его интеллектуального контекста и должно продолжать историографическую традицию обсуждения вопроса. Если оно при этом еще и будет само хорошо написано, то совсем прекрасно, историография тоже важный литературный жанр.
Однако подобной историографической филологии в школе не учили. А стало быть тексты, представлявшиеся мною в жанре сочинения на рассмотрение наших словомучительниц, были откровенно убоги, а поскольку филология была в СССР единственной разрешенной формой интеллектуализма, то и ощущал я себя почти идиотом.
По счастью, положение изменилось в 1991 году, когда в знаменитой московской «57-й школе» я попал на уроки Игоря Георгиевича Вишневецкого, ведшего теорию литературы. Сегодняшнему русскому читателю представлять Вишневецкого нет нужды – он автор нашумевшей повести «Ленинград», невероятного по изысканности готического романа «Неизбирательное сродство», изумительной по дантевской силе и не имеющей прецедентов в русской литературе поэмы «Видение», глубокий исследователь жизни и творчества одного из прекрасных, но забытых русских поэтов Степана Шевырева. Тогда это был молодой учитель и начинающий поэт, c невероятным увлечением рассказывавший нам о русской поэзии.
Оказалось, что отношения в кружке символистов, софиология Владимира Соловьева, культ Любови Дмитриевны Менделеевой, самоубийство гусара Князева, – всё это имеет значение для понимания русской литературы. Так же, как имеет значения бисерные хитросплетения образов Мандельштама и звукопись раннего Пастернака. Игорь Георгиевич вполне мог ворваться в класс посреди чужого урока, чтобы объяснить нам, что «ласточка хилая» в «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштама – это аллюзия на греческое звучание слова «ласточка» – ????????. Полтора года продолжалось это интеллектуальное пиршество, за которое я и по сей день признателен, хотя за то, как именно распорядился даром ученик, учитель, разумеется, ответственности не несет.
Тогда я впервые открывал для себя, что понимание литературы – это строгая и вольнолюбивая научная и интеллектуальная дисциплина, а не демонстрация лояльности к господствующему дискурсу, советски-марксистскому ли, либеральному ли…
С дискурсами тоже получалось интересно. Большинство великих русских писателей и поэтов было русскими консерваторами и патриотами. Некоторых можно даже назвать «националистами» в самом строгом академическом смысле слова. Это факт естественный, логичный и неудивительный – патриотизм требует охраны и развития русского языка, то есть языка той великой литературы, в рамках которой они творили если не от прирожденности русских звуков, то хотя бы от того, что искусство поэзии требует слов. В мире существует крайне ограниченное количество «наборов слов», которые действительно пригодны для великой поэзии. И свой набор слов следует защищать и укреплять.
Совсем другое дело филология. И во дни моей юности, и по сей день, поле интерпретации русской литературы было захвачено последователями единственноверного либерального учения и совпадающего с ним, на самом-то деле, советского марксизма и нынешнего западного неомарксизма. Основной функцией этого вохровского литературоведения было систематически искажать и перетолковывать взгляды гениев русского слова так, чтобы они не мешали вести стада дальше по пути прогресса, вперед к запрету русского языка на Украине и сносу памятников в Америке (называю последние по времени рубежи, а сколько их было до этого).
Сколько написано этой красной и голубой филологией страниц о «самообмане» пушкинского консерватизма, о криптореволюционности Достоевского. Когда трудно перетолковать, предпочитают просто запретить и забелить в худших традициях советской цензуры – ни в одно собрание сочинений Иосифа Бродского по решению неких загадочных «наследников» не включается стихотворение «на независимость Украины».
Некоторое время назад мне пришлось создать практически с нуля и на коленке новую, по крайней мере у нас, дисциплину – консервативную кинокритику[1 - Холмогоров, Егор. Истина в кино. Опыт консервативной кинокритики. М.: Книжный мир, 2018.]. По счастью «консервативное литературоведение» в таком учреждении не нуждается – оно представлено достаточно обширной традицией. Из-за крайней литературоцентричности русской культуры, каждый консервативный идеолог, начиная с Михаила Каткова и Константина Леонтьева и заканчивая Игорем Шафаревичем и Константином Крыловым, вынужден с известной регулярностью высказываться о русской литературе. Иногда гений русской словесности оказывается и гением русской консервативной мысли, и высказывается против либерального искажения творчества других гениев русской словесности. Именно так получилось с великолепным антирусофобским пушкиноведческим эссе Александра Солженицына «Колеблет твой треножник».
Национальная, консервативная, православная традиция размышлений о русской литературе огромна. И всё равно её поток слишком мал по сравнению с мощным напором левацких и либеральных перетолкований. Мал ещё и потому, что консерваторы слишком часто покупаются на разводку абстрактного эстетизма. Любя жизнь и действительность как они есть и тщательно взвешивая каждое улучшение, консерватор дает себя убедить, что неважно какова партийность прекрасного, если оно прекрасно. Его внутренняя стеснительность не дает ему сказать «это наши» даже о тех художниках слова, которые «наши» на двести процентов и тем менее он охотно вступает в бой за отвоевание «не совсем наших», а уж совсем неохотно выходит на битву против вредных чужаков, особенно если в них есть толика таланта.
В результате консервативная система оценок русской литературы непрерывно блуждает между тремя риторическими заглушками леволиберальной гипокритики: «Великий N принадлежит всем, недопустима никакая партийность», «Вы не можете отрицать талант левака Х», «Этот Y – посредственность, вы хвалите его только за то, что он ваших взглядов». Не принадлежа ни к мафии российских литераторов, ни к касте литературоведов, автор этой книги, смею надеяться, выработал в себе нечувствительность ко всем видам этого лицемерия, в чем читатель этой книги сможет сам убедиться.
Эта книга страдает родовым проклятием большинства моих книг. Некоторой случайности и спонтанностью происхождения текстов, написанных по оказии. Поэтому в одних случаях перед вами небольшие юбилейные колонки, в других – публицистические проповеди, в третьих, более-менее тщательно проработанные исследовательские статьи, сопровождаемые научным аппаратом, в четвертых – по сути мемуары или лирические эссе в стиле современных блогов (хотя совсем уж блоговых текстов я в эту книгу не включал).
Место издания тоже накладывало свой отпечаток на выбор выразительных средств и объем высказывания – журнал «Новый мир», газеты «Взгляд» и «Культура», сайт телеканала «Царьград», журнал «Свой», альманах «Тетради по консерватизму», легендарный «Спутник и Погром», сайт «Ум+». Наконец, мои собственные издания – «Русский обозреватель» и сайт «100 книг».
Самое огорчительное в этой книге – то, что, наряду с написанными очерками она невидимо полна ненаписанными – о Тютчеве, Гумилеве, Заболоцком, о Гоголе и позабытом Болеславе Маркевиче, об Иване Шмелеве, о Василии Белове и Дмитрии Балашове. Возможно это основание когда-нибудь опубликовать продолжение. Но задерживать публикацию этой книги из-за того, что она неполна было бы делом нестоящим.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить тех, кто помог рождению этой книги. Прежде всего – Андрея Василевского, Игоря Вишневецкого, Артема Серебренникова и Дмитрия Ольшанского, взявших на себя труд прочесть рукопись этой книги и сделать немало существенных замечаний и исправлений. Обязан я поблагодарить тех без чьей инициативы и молитвенной, моральной, организационной, материальной поддержки не могли бы появиться тексты, включенные в эту книгу: Михаила Бударагина, Алексея Зверева, Александра Васильева, Екатерину Злобину, Кирилла Солода, Егора Просвирнина, Екатерину Дмитриеву, Родиона Михайлова, Елену Шаройкину, Аркадия Минакова, Эдуарда Боякова, Любовь Ульянову, протоиерея Владимира Вигилянского и Олесю Николаеву, Владимира Губайловского, Павла Крючкова, протоиерея Виктора (Горбача), Дарью Токареву, Сергея Громова, епископа Троицкого Панкратия, Ивана Демидова, Михаила Смолина, митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, Александру Кирсанову, Константина Малофеева. Наконец, огромную поддержку оказали многочисленные читатели, а порой и благотворители сайта «100 книг», позволившего мне собрать эти тексты вместе.
Посвящение
Эту книгу автор посвящает памяти Константина Крылова (18.10.1967 – 12.05.2020), своего друга, великого русского национального мыслителя, философа, политика, идеолога, эссеиста и публициста, посвятившего немало своих текстов вдумчивому и безжалостному анализу русской литературы. Замечательного писателя, творившего под псевдонимом Михаил Харитонов, далеко вышедшего за первоначальные границы научной фантастики и оставившего в русской литературе яркий след, который нам ещё только предстоит в полной мере оценить.
Ещё в конце 1990-х годов мы, на долгих прогулках по Москве от Таганки до Арбата, или по Ходынскому полю и району Полежаевской, обсуждали необходимость «разбора полетов» в русской литературе, с тем, чтобы она из ментальной удавки на шее русской нации превратилась в средство её духовного и политического самоусиления.
Были писатели, которых Крылов последовательно ненавидел (и я вполне разделял его взгляд), например Салтыков Щедрин, которому он посвятил убийственое эссе «Сглаз»[2 - Крылов, Константин. Нет времени. СПб.: Владимир Даль, 2006, сс. 420–427.]. Были те, в ком он видел не только литературную, сколько национально политическую и антропологическую величину, как «гроссмейстер» русской политики Александр Солженицын: «Вот кто-то встаёт со своей клетки. Протирает глаза, залепленные «обычной жизнью». Оглядывается по сторонам, оценивая ситуацию. Понимает, что она безнадёжна, вокруг монстры, поле обстреливается и шансов нет. Пытается лечь на место и слиться с поверхностью – но размазаться достаточно тонким слоем уже не получается. И тогда он берёт в руки оружие – пистолет, мобильник, кредитную карточку или просто авторучку. И делает первый ход»[3 - Крылов, Константин. Прогнать чертей. М.: Издательская группа «Скименъ», 2010, с. 415.]. Сам Крылов был таким гроссмейстером русской философии и русской национальной мысли.
Выражаю робкую надежду, что, при всей фрагментарности, а порой – заостренной полемичности к некоторым взглядам и суждениям Крылова, представляемая вниманию читателя книга лежит в русле того замысла, который мы обсуждали два десятилетия назад. С тех пор одному из нас суждено было самому стать частью пантеона великой русской литературы, а другому остается об этом пантеоне размышлять.
Рцы слово твердо
I.
Глаголь добро есть. Собственный язык – основа независимого существования нации. Непонятность нашей речи для чужаков мешает слишком уж просто забыть себя и слиться с ними. Пока живы хотя бы несколько слов родного языка, народ себя еще хранит. Собственная система письменности – основа независимого существования целой цивилизации. Засечной чертой стоят буквы, ограждая духовное пространство от поглощения иными культурами.
Алфавит же – декларация цивилизационного суверенитета. Многовековой секрет устойчивости Поднебесной – в ее тысячах иероглифов, в космосе письмен, практически непостижимом для внешних. Невозможно себе представить, чтобы сломлен был и армянский народ, пока он пользуется буквами, изобретенными Месропом Маштоцем. И напротив, новая идея, новая религия приносит и новые письмена. Сокрушив царство персов, ислам навязал им арабскую письменность, скрепляющую единство устремленного к Мекке культурного пространства.
Именно этот дар алфавита, не пролив и капли людской крови, преподнесли славянским народам братья Константин-Кирилл и Мефодий. Установив на греческой основе оригинальный алфавит, они открыли саму возможность развития самобытной славянской цивилизации – учащейся у Древней Греции и Византии, продолжающей, но и превосходящей их.
Этой независимости не хотели для славян немецкие епископы, гнавшие Константина и мучившие в застенках Мефодия во имя торжества латинской азбуки. Они желали, чтобы славян поглотил находившийся на подъеме романо-германский мир. Ободриты, руяне, лужичане – многие славянские этносы навсегда были стерты из учебников. Полякам и чехам с превеликим трудом, в конечном счете, не без помощи русских удалось отстоять независимость. И то, полякам борьба эта, пожалуй, стоила славянской души…
Бережно приняв дар солунских братьев, русский народ хранил его тысячелетие и создал на этой основе великое государство, великую культуру, а главное – язык и литературу, равных которым в истории человечества сыщется не так уж и много.
«Аз, буки, веди», – лепетал мальчишка, учимый читать строгим дьячком по старинному «Часослову». И в этом лепете заключены были «Слово о полку Игореве» и «Сказание о Мамаевом побоище», Аввакум и Ломоносов, Пушкин и Достоевский. Никто не осмелится даже спорить, что сей великий язык дан великому народу.
Иностранцу, выросшему на строгих и суховатых литерах латинского алфавита, изживших даже средневековую вычурность готических шрифтов, русские буквы кажутся причудливыми, порой несуразными и раздражающими. Сколько раз я слышал и нытье наших «патриотов заграницы», что русскому шрифту невозможно придать латинское изящество и простоту. Сколько раз они тонко намекали, что след бы и нам «латинизироваться», вырубив разделяющий нас с Европой «Герцинский лес» кириллицы.
Но упрямая неуступчивость букв, начертанных святой рукой, служила оградой древу нашего языка даже в эпоху петровских реформ, когда он был буквально полонен заимствованиями: «виктория», «фортеция» «баталия», «першпектива». Но начертание «чужебесных» (как выражался славянский просветитель Юрий Крижанич) слов требовало перекодировки.
И вот уже язык, между буквенными жерновами, как бы сам собой перетирал чужие слова. Не «першпектива», а Невский проспект. Не «баталия», а Полтавская битва. Не «фортеция», а Брестская крепость. Не «виктория», а Победа.
Грустно наблюдать сегодня, как кириллические славянские языки один за другим капитулируют под натиском латиницы. В Черногории, Болгарии и Сербии все больше латинских надписей и вывесок. Поддаваясь магии прибыли, славянские языки «евроинтегрируются», хороня будущее ради надежды на еврокомфорт. А там уже недалеко и до иудиного греха, отступничества и от Православия, и от дружбы с Россией, поразившего власти страны Монтенегро.
Отказ от кириллицы – признак цивилизационной неустойчивости, потери самих себя, комплекса неполноценности перед западными небратьями. Но в центре кириллического мира несокрушимо возвышается Россия. И тем яснее, что провидение призвало солунских братьев создать алфавит именно для нашей цивилизации, заложив фундамент ее величия.
В то время как кто-то «латинизируется», я бы рекомендовал нам прочнее утверждать русский язык на древней церковнославянской основе. Именно «славянизировав» с невероятным остроумием и тактом наш язык, Пушкин создал саму возможность уникальной русской литературы. И нам следует пойти по тому же пути в литературном образовании (особенно школьном), лексиконе и даже в алфавите. Не то что вернуться к старой орфографии, но возвратить, быть может, иные из исторических букв: фиту, ижицу, омегу, увеличив тем самым лица необщее выраженье русской азбуки.