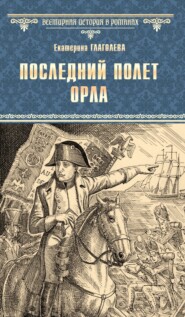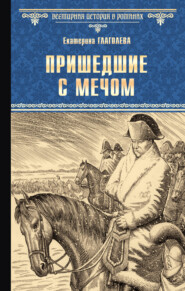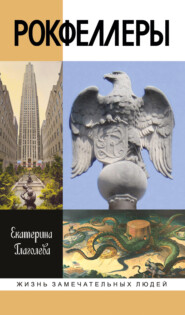По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путь Долгоруковых
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Денег у Прохора больше не было (а разбойники платили за харчи крестьянам, и те были рады-радешеньки). Один из его новых соседей, Митька Жаров, предложил ссудить ему рубль под будущую добычу.
– Вот, – сказал он, острогав небольшую палочку. – Я тебе даю столько гривен (он сделал десять зарубок), а ты мне вернешь, стало быть, столько (добавил еще одну).
Прохор хмыкнул:
– А ты сам не из жидов ли будешь?
– Не хочешь – не бери. – Митька пожал плечами – точь-в-точь как Хлап.
Прохор вообще заметил, что Митька Хлапа боготворит и всячески пытается ему подражать. О Тимошкиных подвигах он мог рассказывать часами, и глаза у него тогда светились детским восторгом. Хлап был известный вор на Москве (потому и бежал и пристал к разбойникам). Прежде был он дворовым человеком одного купца из Китай-города; таскал у него сначала кое-что по мелочи – посуду, кур, старую одежу – и продавал; хозяин его за то, понятно, наказывал. Тогда Тимошка ночью выкрал у него сундук с казной прямо из спальни и задал лытуна. Но два дня спустя его на Красной площади углядели дворовые его господина, скрутили и привели обратно. Вертеться бы Тимошке вниз пупом под плетьми, но он закричал: «Слово и дело!» Пришлось везти его в село Преображенское, в Тайный приказ, а он дорогой исхитрился бежать. И уж тут-то дал себе волю. Кого он только не грабил – и купцов, и мастеровых, и помещиков! И ведь хитер – наплетет с три короба, так что сторожа сами ему двери откроют, а он им нож к горлу приставит: отдавай, мол, добро, если жизнь дорога!
– Хлапу человека порешить – что курицу зарезать, – хвастался Митька. – В Лафертове придворный лекарь-немчин хотел было тревогу поднять, так он и его ножом пырнул, и жену его, а потом столько добра взял, что насилу унесешь!
– Ну и брешет твой Тимошка! – не выдержал Прохор. – Барин мой жил в самом Лафертовском дворце, с государем Петром Алексеичем. Лекаря, точно, ограбили, только никто его живота не лишал. Ночью, когда все спали, влезли через окошко да вынесли посуду и кой-какое барахлишко.
Митька насупился и замолчал. Об этом разговоре он, видно, донес Хлапу, потому что тот стал смотреть на Прохора с еще большей неприязнью. А огневщик Тихон предупредил, что теперь Хлап непременно захочет повязать Прохора кровью, чтобы тому потом не отвертеться. Душа у Тимошки черная, он запросто сможет пристроить любого в немшоную баню, где людей вешают, кто сколько потянет.
И все-таки Прохор сам вызвался идти на разведку, ошалев от безделья. А еще он хотел показать Хлапу, что не боится его.
Пока Тимошки не было, Прохор с Куваем сходили к пристани посмотреть, удобно ли там причалить, а Столоп оставался у околицы – наверное, дрых. Хлап вернулся часа через два – веселый и будто выпивши. Мужиков в селе нет, только древние деды да ребятня, – все на сенокосе. Управляющий уехал в Касимов. Кабатчик сказывал, будто из городского гарнизона обещали отрядить команду, чтобы изловить разбойников, да только нет о ней ни слуху ни духу.
Обратно шли берегом Оки. Тимошка рассказывал байки из своей прошлой жизни, и за разговорами они миновали то место, где надо было выбираться на дорогу. Вышли у какой-то незнакомой развилки, заспорили, куда теперь. Хлап и его приятели кричали и махали руками, не слушая друг друга, Прохор молчал. Прохор и увидел того мужика, который ехал на возу сена.
– Эй, дядя! – закричал ему издали Хлап. – Которая дорога на Рождествено? Сюда, что ль?
– Тоже мне, племяш нашелся! – огрызнулся мужик. – Ступай на все четыре стороны!
Хлап встал, расставив ноги и засунув большие пальцы рук за поясок, сузил глаза и нехорошо посмотрел на грубияна.
– Что ж ты ругаешься, дядя? Я ведь, кажись, не обидел тебя ничем?
– А поди ты к бесу на поветь! – Мужик встряхнул вожжами, погоняя свою лошадь.
То, что было дальше, произошло так быстро, что Прохор и глазом моргнуть не успел. Трое его спутников разом бросились к возу, стянули с него за ноги мужика, привязали вожжами к оглобле, после чего Столоп высек кресалом огонь и запалил сено. Испуганная лошадь помчалась со всех ног, не разбирая дороги; бедный мужик был вынужден бежать рядом, да разве угонишься – споткнулся и волочился по земле. Разбойники помирали со смеху, глядя, как он вскидывает ногами. Наконец у телеги оторвалась передняя ось, и воз остался догорать в поле, а лошадь с незадачливым хозяином вскоре скрылась из глаз.
Разбойники пошли дальше (другой дорогой), утирая выступившие от смеха слезы, а у Прохора было так гадко на душе, что аж мутило.
– Чтой-то ты смурной? – спросил его Хлап голосом, в котором звучала угроза.
– Сена сколько пожгли. Жалко, – буркнул Прохор.
– Да-а, не нашего ты сукна епанча, – протянул Тимошка.
– Каков есть.
Они остановились. Прохор встал так, чтобы видеть всех троих и не дать кому-нибудь подкатиться ему сзади под ноги. Он был опытным кулачным бойцом и в честной драке сумел бы за себя постоять. Хлап, похоже, это понял.
– Завтра посмотрим, кровь в тебе ходит или сыворотка, – процедил он сквозь зубы.
…Трех человек оставили стеречь лодки, а сами, направляемые Хлапом, повалили гурьбой в село. На площади у церкви разделились: несколько разбойников пошли пошарить по справным избам, примеченным Тимошкой, сам он с небольшим отрядом направился в кабак (Хлапу доставляло особую радость грабить людей, с которыми он накануне вел задушевную беседу), основные же силы атаман повел в дом приказчика. Прохор был с ними.
Выстрел в воздух, истошный женский крик, топот ног по двору, скрип рассохшихся досок, грохот в подклете и дребезг разбиваемых горшков, снова крик, оборвавшийся глухим стуком, звон высаженной окончины, поросячий визг где-то на заднем дворе… Прохор ныряет с залитого солнцем двора в темные сени, спотыкается о какой-то куль, лежащий на полу, – нет, не куль, баба. Сомлела? Или убили? Окрик атамана, его сапоги поднимаются по лестнице, и Прохор спешит следом, выходит в горницу, бросает взгляд в красный угол, мысленно шепчет «Господи, прости», а атаман уже стоит у кованого сундука с хитрым замком – ну-ка… Прохор достает из-за пояса топор, пытается обухом сбить замок – не получается, тогда он начинает рубить топором крышку. Дерево крепкое, видно, мореный дуб, да еще схваченное железными полосами. Хрясь, хрясь… вот уже в щель можно просунуть руку… Книги? Ободрав тыльную сторону ладони о зазубренную щель, Прохор достает одну и подает атаману. Тот раскрывает, перелистывает несколько страниц, удовлетворенно кивает и указывает на шкафик возле стола. У шкафа тонкие дверцы, но Прохор рубит его в щепы; на пол сыплются свитки бумаги и сероватые плотные листы, сложенные и потертые на сгибах; откуда-то вываливается бутыль с чернилами, и по полу растекается темное пятно. Атаман приказывает все это собрать, вынести на двор и там сжечь.
Прохор с Тихоном бросают свитки в огонь, и бумага тотчас чернеет и обращается в темно-серый пепел с кляксами сургуча. Зато книги в кожаных переплетах гореть не хотят, только тлеют, издавая едкую вонь. Прохор вырывает из них страницы, исписанные от руки, и бросает в костер. Он неграмотный, но понял, что книги эти не духовные: те выглядят иначе, буквы покрывают всю страницу сплошняком, а здесь колонками, неровно и внизу – приложение руки, – видать, крепостные грамоты, податные списки или долговые расписки.
К костру двое волокут упирающегося мужика, у которого левый глаз уже заплыл, на правой скуле свежая ссадина, а из распухшего носа сочится кровь.
– Ой, не знаю, ничего я не знаю! – скулит он.
– Ничего, сейчас пятки тебе поджарим, разом припомнишь, – весело говорит один из разбойников.
Прохор разгибается и стискивает кулаки; Тихон предостерегающе кладет руку ему на плечо, но тот ее сбрасывает. Тогда Тихон обхватывает его сзади и толкает к крыльцу:
– Идем-ко, подмогнуть надоть…
В руки Прохору суют тяжелый звякающий мешок – наверно, с посудой; он оглядывается, услышав дикий вой мужика, которого суют ногами в костер: «А-а-а-а! У-у-у-у!»; но в это время на крыльцо выходит атаман и коротко свистит в два пальца. Крик прекращается и переходит во всхлипывания; вокруг дома бегают хлопцы с охапками соломы, и когда Прохор вслед за другими выходит со своей ношей на улицу, сзади уже слышится бодрое потрескивание огня и тянет густым дымом.
Добычу складывали в лодки. В доме приказчика денег не нашли, взяли только посуду, одежу поважнее, старую пищаль да конскую упряжь почти новую – можно будет продать. Зато Хлап отличился: его молодцы приволокли из кабака сундучище, набитый деньгами. Правда, самого его почему-то не было. Когда Федор Зима уже начал терять терпение, крича, что если этот курвин сын Тимошка сей же час не явится, пусть потом вплавь догоняет, на пригорке у спуска к пристани появились Хлап и Митька Жаров, толкая впереди себя перепуганного попа в полном церковном облачении. Атаман присвистнул, спрыгнул на берег и пошел им навстречу.
– Чада мои… чада… – повторяет поп, и борода его трясется, а руки дрожат.
Тимошка, напустив на себя смиренный вид, но мигнув атаману, объясняет, что батюшка по доброте своей согласился прийти сюда и отслужить молебен о путешествующих. Поп растерянно вертит головой, пытаясь понять, взаправду это или с ним шутят злую шутку, но атаман свистом вызывает всех на берег, велит стать рядком и обнажить головы.
– Да как же я?… Без певчих?… Без…
– Ничего, батька, мы подпоем.
Место у мостков неширокое, разбойники толпой обступают попа, тому страшно, и когда он заводит «Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно и во веки веков», голос его дрожит и срывается. Но Хлап звонким тенором тянет: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», и вид у него такой, будто он всю жизнь на клиросе пел. Поп успокаивается, и далее молебен идет своим чередом.
Прохор вместе со всеми крестится и поет «Господи, помилуй». В мыслях у него сумбур, и он цепляется за знакомые слова молитвы, чтобы унять эту круговерть, вернуть ясность гудящей голове: «Отче наш, Иже еси на небесех, да будет воля Твоя…» Но перед глазами пляшут языки костра, искаженное мукой лицо пытаемого мужика, баба, кулем лежащая в сенях… Те самые люди, которые волокли мужика к костру, сейчас стоят рядом, крестятся, славят пресвятую Троицу и взывают к Николаю-угоднику… «Слава, слава, аллилуйя…» У Прохора сдавило горло; он часто моргает, крестится и кланяется.
После молебна попа отпустили с миром, вся ватага погрузилась в лодки с дуваном, и Тимошка Хлап, заливисто свистнув, тем же сильным высоким голосом повел:
Посеяли лен за рекою,
Уродился лен с бородою!
И гребцы, налегая на весла, подхватили:
Люли, люли, с бородою!
Люли, люли, с бородою!
Люли, люли, с бородою!
Глава 9
Мягко плещется о борта вода, ходко бегут острогрудые струги под тугими парусами, а если обвиснет парус, гребцы налягут на весла, помогая себе бездумной песней. Ока стелется причудливой лентой меж зеленых берегов, неряшливо растрепавшиеся облачка зависают над ней, охорашиваясь, смотрятся, точно в зеркало, пока оно не покроется рябью от набежавшего ветерка или не всколыхнет его какая-нибудь рыба, плеснув сильным хвостом. Куда ни глянь – даль неохватная, редко глаз зацепится за рощицу на бугре, далекую верхушку колоколенки или блеснувший под солнечным лучом медный крест; луга, перекатываясь волнами травы под играющим с нею ветерком, ждут косарей; стрижи носятся то над ними, то над водой; в прибрежных зарослях осоки трещат крыльями глазастые стрекозы. Но Наташа не глядит на все это: сидит, вжавшись в угол чердака на корме, не видя света божьего, и отказывается выходить на палубу, где пахнет дегтем, смолой, мужским потом и пригорелой кашей из общего котла.
В канун Дня Петра и Павла добежали из Касимова до Мурома, миновав стоящее на высоком холме село Карачарово – имение Шереметевых, но там не остались, а поплыли дальше – в Нижний Новгород. Иван, никогда прежде там не бывавший, вышел посмотреть; Наташина мадам стояла рядом. За стрелкой, где Ока впадает в Волгу, открывался вид на краснокирпичный кремль, вскарабкавшийся на зеленую кручу правого берега, перебрасывая стены от одной башни к другой; под ними ярусами лепился посад, красовался прянично-нарядный храм; на пологом левом берегу протянулись Торговые ряды. Наташа и тогда не вышла; не видала она и Козьмодемьянска со старым острогом на пригорке, рвом, идущим сверху к часовне у самой воды, и бестолковой россыпью деревянных домишек, крытых драницей. И только когда причалили к берегу в Казани, она, покачиваясь на нетвердых ногах, сошла по сходням. Увидев ее бледное, опухшее от слез лицо с сизыми тенями под глазами, даже Алексей Григорьевич встревожился и спросил, не нужно ли позвать к ней лекаря.
Казань временно жила без губернатора: «царствовавший» там прежние пять лет Артемий Петрович Волынский, против которого было начато следствие за лихоимство, выехал в столицу, чтобы бить челом новой императрице и попытаться оправдаться. Начальством в городе остался вице-губернатор Кудрявцев, который и сочинил донос на Волынского. Оправдываться губернатору было не впервой: он уже изведал на себе гнев царя Петра, когда попался на тех же самых прегрешениях в Астрахани, где притеснял и донимал поборами и «подарками» инородцев. В Казань его назначили после смерти императора, и там он взялся за старое, хотя и для города сделал немало полезного: суровыми мерами пресек воровство и разбой, устроил освещение на улицах кремля, велел сломать ненужные деревянные «городские» стены во избежание новых пожаров. Долгоруковы ему в свое время благоволили, но Артемий Петрович не поддержал «затейку» Верховного совета, мечтавшего ограничить права новой государыни, чтобы оставить реальную власть в своих руках. Если уж при грозном Петре Алексеевиче уцелел, то и сейчас выкрутится…
– Вот, – сказал он, острогав небольшую палочку. – Я тебе даю столько гривен (он сделал десять зарубок), а ты мне вернешь, стало быть, столько (добавил еще одну).
Прохор хмыкнул:
– А ты сам не из жидов ли будешь?
– Не хочешь – не бери. – Митька пожал плечами – точь-в-точь как Хлап.
Прохор вообще заметил, что Митька Хлапа боготворит и всячески пытается ему подражать. О Тимошкиных подвигах он мог рассказывать часами, и глаза у него тогда светились детским восторгом. Хлап был известный вор на Москве (потому и бежал и пристал к разбойникам). Прежде был он дворовым человеком одного купца из Китай-города; таскал у него сначала кое-что по мелочи – посуду, кур, старую одежу – и продавал; хозяин его за то, понятно, наказывал. Тогда Тимошка ночью выкрал у него сундук с казной прямо из спальни и задал лытуна. Но два дня спустя его на Красной площади углядели дворовые его господина, скрутили и привели обратно. Вертеться бы Тимошке вниз пупом под плетьми, но он закричал: «Слово и дело!» Пришлось везти его в село Преображенское, в Тайный приказ, а он дорогой исхитрился бежать. И уж тут-то дал себе волю. Кого он только не грабил – и купцов, и мастеровых, и помещиков! И ведь хитер – наплетет с три короба, так что сторожа сами ему двери откроют, а он им нож к горлу приставит: отдавай, мол, добро, если жизнь дорога!
– Хлапу человека порешить – что курицу зарезать, – хвастался Митька. – В Лафертове придворный лекарь-немчин хотел было тревогу поднять, так он и его ножом пырнул, и жену его, а потом столько добра взял, что насилу унесешь!
– Ну и брешет твой Тимошка! – не выдержал Прохор. – Барин мой жил в самом Лафертовском дворце, с государем Петром Алексеичем. Лекаря, точно, ограбили, только никто его живота не лишал. Ночью, когда все спали, влезли через окошко да вынесли посуду и кой-какое барахлишко.
Митька насупился и замолчал. Об этом разговоре он, видно, донес Хлапу, потому что тот стал смотреть на Прохора с еще большей неприязнью. А огневщик Тихон предупредил, что теперь Хлап непременно захочет повязать Прохора кровью, чтобы тому потом не отвертеться. Душа у Тимошки черная, он запросто сможет пристроить любого в немшоную баню, где людей вешают, кто сколько потянет.
И все-таки Прохор сам вызвался идти на разведку, ошалев от безделья. А еще он хотел показать Хлапу, что не боится его.
Пока Тимошки не было, Прохор с Куваем сходили к пристани посмотреть, удобно ли там причалить, а Столоп оставался у околицы – наверное, дрых. Хлап вернулся часа через два – веселый и будто выпивши. Мужиков в селе нет, только древние деды да ребятня, – все на сенокосе. Управляющий уехал в Касимов. Кабатчик сказывал, будто из городского гарнизона обещали отрядить команду, чтобы изловить разбойников, да только нет о ней ни слуху ни духу.
Обратно шли берегом Оки. Тимошка рассказывал байки из своей прошлой жизни, и за разговорами они миновали то место, где надо было выбираться на дорогу. Вышли у какой-то незнакомой развилки, заспорили, куда теперь. Хлап и его приятели кричали и махали руками, не слушая друг друга, Прохор молчал. Прохор и увидел того мужика, который ехал на возу сена.
– Эй, дядя! – закричал ему издали Хлап. – Которая дорога на Рождествено? Сюда, что ль?
– Тоже мне, племяш нашелся! – огрызнулся мужик. – Ступай на все четыре стороны!
Хлап встал, расставив ноги и засунув большие пальцы рук за поясок, сузил глаза и нехорошо посмотрел на грубияна.
– Что ж ты ругаешься, дядя? Я ведь, кажись, не обидел тебя ничем?
– А поди ты к бесу на поветь! – Мужик встряхнул вожжами, погоняя свою лошадь.
То, что было дальше, произошло так быстро, что Прохор и глазом моргнуть не успел. Трое его спутников разом бросились к возу, стянули с него за ноги мужика, привязали вожжами к оглобле, после чего Столоп высек кресалом огонь и запалил сено. Испуганная лошадь помчалась со всех ног, не разбирая дороги; бедный мужик был вынужден бежать рядом, да разве угонишься – споткнулся и волочился по земле. Разбойники помирали со смеху, глядя, как он вскидывает ногами. Наконец у телеги оторвалась передняя ось, и воз остался догорать в поле, а лошадь с незадачливым хозяином вскоре скрылась из глаз.
Разбойники пошли дальше (другой дорогой), утирая выступившие от смеха слезы, а у Прохора было так гадко на душе, что аж мутило.
– Чтой-то ты смурной? – спросил его Хлап голосом, в котором звучала угроза.
– Сена сколько пожгли. Жалко, – буркнул Прохор.
– Да-а, не нашего ты сукна епанча, – протянул Тимошка.
– Каков есть.
Они остановились. Прохор встал так, чтобы видеть всех троих и не дать кому-нибудь подкатиться ему сзади под ноги. Он был опытным кулачным бойцом и в честной драке сумел бы за себя постоять. Хлап, похоже, это понял.
– Завтра посмотрим, кровь в тебе ходит или сыворотка, – процедил он сквозь зубы.
…Трех человек оставили стеречь лодки, а сами, направляемые Хлапом, повалили гурьбой в село. На площади у церкви разделились: несколько разбойников пошли пошарить по справным избам, примеченным Тимошкой, сам он с небольшим отрядом направился в кабак (Хлапу доставляло особую радость грабить людей, с которыми он накануне вел задушевную беседу), основные же силы атаман повел в дом приказчика. Прохор был с ними.
Выстрел в воздух, истошный женский крик, топот ног по двору, скрип рассохшихся досок, грохот в подклете и дребезг разбиваемых горшков, снова крик, оборвавшийся глухим стуком, звон высаженной окончины, поросячий визг где-то на заднем дворе… Прохор ныряет с залитого солнцем двора в темные сени, спотыкается о какой-то куль, лежащий на полу, – нет, не куль, баба. Сомлела? Или убили? Окрик атамана, его сапоги поднимаются по лестнице, и Прохор спешит следом, выходит в горницу, бросает взгляд в красный угол, мысленно шепчет «Господи, прости», а атаман уже стоит у кованого сундука с хитрым замком – ну-ка… Прохор достает из-за пояса топор, пытается обухом сбить замок – не получается, тогда он начинает рубить топором крышку. Дерево крепкое, видно, мореный дуб, да еще схваченное железными полосами. Хрясь, хрясь… вот уже в щель можно просунуть руку… Книги? Ободрав тыльную сторону ладони о зазубренную щель, Прохор достает одну и подает атаману. Тот раскрывает, перелистывает несколько страниц, удовлетворенно кивает и указывает на шкафик возле стола. У шкафа тонкие дверцы, но Прохор рубит его в щепы; на пол сыплются свитки бумаги и сероватые плотные листы, сложенные и потертые на сгибах; откуда-то вываливается бутыль с чернилами, и по полу растекается темное пятно. Атаман приказывает все это собрать, вынести на двор и там сжечь.
Прохор с Тихоном бросают свитки в огонь, и бумага тотчас чернеет и обращается в темно-серый пепел с кляксами сургуча. Зато книги в кожаных переплетах гореть не хотят, только тлеют, издавая едкую вонь. Прохор вырывает из них страницы, исписанные от руки, и бросает в костер. Он неграмотный, но понял, что книги эти не духовные: те выглядят иначе, буквы покрывают всю страницу сплошняком, а здесь колонками, неровно и внизу – приложение руки, – видать, крепостные грамоты, податные списки или долговые расписки.
К костру двое волокут упирающегося мужика, у которого левый глаз уже заплыл, на правой скуле свежая ссадина, а из распухшего носа сочится кровь.
– Ой, не знаю, ничего я не знаю! – скулит он.
– Ничего, сейчас пятки тебе поджарим, разом припомнишь, – весело говорит один из разбойников.
Прохор разгибается и стискивает кулаки; Тихон предостерегающе кладет руку ему на плечо, но тот ее сбрасывает. Тогда Тихон обхватывает его сзади и толкает к крыльцу:
– Идем-ко, подмогнуть надоть…
В руки Прохору суют тяжелый звякающий мешок – наверно, с посудой; он оглядывается, услышав дикий вой мужика, которого суют ногами в костер: «А-а-а-а! У-у-у-у!»; но в это время на крыльцо выходит атаман и коротко свистит в два пальца. Крик прекращается и переходит во всхлипывания; вокруг дома бегают хлопцы с охапками соломы, и когда Прохор вслед за другими выходит со своей ношей на улицу, сзади уже слышится бодрое потрескивание огня и тянет густым дымом.
Добычу складывали в лодки. В доме приказчика денег не нашли, взяли только посуду, одежу поважнее, старую пищаль да конскую упряжь почти новую – можно будет продать. Зато Хлап отличился: его молодцы приволокли из кабака сундучище, набитый деньгами. Правда, самого его почему-то не было. Когда Федор Зима уже начал терять терпение, крича, что если этот курвин сын Тимошка сей же час не явится, пусть потом вплавь догоняет, на пригорке у спуска к пристани появились Хлап и Митька Жаров, толкая впереди себя перепуганного попа в полном церковном облачении. Атаман присвистнул, спрыгнул на берег и пошел им навстречу.
– Чада мои… чада… – повторяет поп, и борода его трясется, а руки дрожат.
Тимошка, напустив на себя смиренный вид, но мигнув атаману, объясняет, что батюшка по доброте своей согласился прийти сюда и отслужить молебен о путешествующих. Поп растерянно вертит головой, пытаясь понять, взаправду это или с ним шутят злую шутку, но атаман свистом вызывает всех на берег, велит стать рядком и обнажить головы.
– Да как же я?… Без певчих?… Без…
– Ничего, батька, мы подпоем.
Место у мостков неширокое, разбойники толпой обступают попа, тому страшно, и когда он заводит «Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно и во веки веков», голос его дрожит и срывается. Но Хлап звонким тенором тянет: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», и вид у него такой, будто он всю жизнь на клиросе пел. Поп успокаивается, и далее молебен идет своим чередом.
Прохор вместе со всеми крестится и поет «Господи, помилуй». В мыслях у него сумбур, и он цепляется за знакомые слова молитвы, чтобы унять эту круговерть, вернуть ясность гудящей голове: «Отче наш, Иже еси на небесех, да будет воля Твоя…» Но перед глазами пляшут языки костра, искаженное мукой лицо пытаемого мужика, баба, кулем лежащая в сенях… Те самые люди, которые волокли мужика к костру, сейчас стоят рядом, крестятся, славят пресвятую Троицу и взывают к Николаю-угоднику… «Слава, слава, аллилуйя…» У Прохора сдавило горло; он часто моргает, крестится и кланяется.
После молебна попа отпустили с миром, вся ватага погрузилась в лодки с дуваном, и Тимошка Хлап, заливисто свистнув, тем же сильным высоким голосом повел:
Посеяли лен за рекою,
Уродился лен с бородою!
И гребцы, налегая на весла, подхватили:
Люли, люли, с бородою!
Люли, люли, с бородою!
Люли, люли, с бородою!
Глава 9
Мягко плещется о борта вода, ходко бегут острогрудые струги под тугими парусами, а если обвиснет парус, гребцы налягут на весла, помогая себе бездумной песней. Ока стелется причудливой лентой меж зеленых берегов, неряшливо растрепавшиеся облачка зависают над ней, охорашиваясь, смотрятся, точно в зеркало, пока оно не покроется рябью от набежавшего ветерка или не всколыхнет его какая-нибудь рыба, плеснув сильным хвостом. Куда ни глянь – даль неохватная, редко глаз зацепится за рощицу на бугре, далекую верхушку колоколенки или блеснувший под солнечным лучом медный крест; луга, перекатываясь волнами травы под играющим с нею ветерком, ждут косарей; стрижи носятся то над ними, то над водой; в прибрежных зарослях осоки трещат крыльями глазастые стрекозы. Но Наташа не глядит на все это: сидит, вжавшись в угол чердака на корме, не видя света божьего, и отказывается выходить на палубу, где пахнет дегтем, смолой, мужским потом и пригорелой кашей из общего котла.
В канун Дня Петра и Павла добежали из Касимова до Мурома, миновав стоящее на высоком холме село Карачарово – имение Шереметевых, но там не остались, а поплыли дальше – в Нижний Новгород. Иван, никогда прежде там не бывавший, вышел посмотреть; Наташина мадам стояла рядом. За стрелкой, где Ока впадает в Волгу, открывался вид на краснокирпичный кремль, вскарабкавшийся на зеленую кручу правого берега, перебрасывая стены от одной башни к другой; под ними ярусами лепился посад, красовался прянично-нарядный храм; на пологом левом берегу протянулись Торговые ряды. Наташа и тогда не вышла; не видала она и Козьмодемьянска со старым острогом на пригорке, рвом, идущим сверху к часовне у самой воды, и бестолковой россыпью деревянных домишек, крытых драницей. И только когда причалили к берегу в Казани, она, покачиваясь на нетвердых ногах, сошла по сходням. Увидев ее бледное, опухшее от слез лицо с сизыми тенями под глазами, даже Алексей Григорьевич встревожился и спросил, не нужно ли позвать к ней лекаря.
Казань временно жила без губернатора: «царствовавший» там прежние пять лет Артемий Петрович Волынский, против которого было начато следствие за лихоимство, выехал в столицу, чтобы бить челом новой императрице и попытаться оправдаться. Начальством в городе остался вице-губернатор Кудрявцев, который и сочинил донос на Волынского. Оправдываться губернатору было не впервой: он уже изведал на себе гнев царя Петра, когда попался на тех же самых прегрешениях в Астрахани, где притеснял и донимал поборами и «подарками» инородцев. В Казань его назначили после смерти императора, и там он взялся за старое, хотя и для города сделал немало полезного: суровыми мерами пресек воровство и разбой, устроил освещение на улицах кремля, велел сломать ненужные деревянные «городские» стены во избежание новых пожаров. Долгоруковы ему в свое время благоволили, но Артемий Петрович не поддержал «затейку» Верховного совета, мечтавшего ограничить права новой государыни, чтобы оставить реальную власть в своих руках. Если уж при грозном Петре Алексеевиче уцелел, то и сейчас выкрутится…