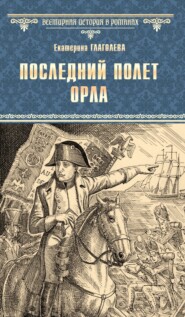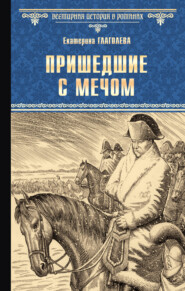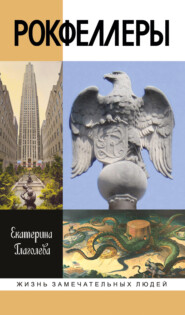По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путь Долгоруковых
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Долгоруковых поместили всех в одном доме сразу за кремлевской стеной, у начала улицы, ведущей к Богородицкому монастырю, и приставили к ним караул – сменявших друг друга пятерых солдат, вооруженных ружьями с примкнутыми штыками. В Казани пришлось задержаться на неделю: большое судно, на котором могла бы сплавляться дальше вся семья, еще не успели подготовить. 8 июля был праздник Казанской иконы Божьей Матери, но ссыльным не позволили пойти в церковь. Воздух дрожал от гула множества колоколов, по улицам текли празднично разряженные толпы, и сестры Долгоруковы не отходили от слюдяных окошек: тихонько отворив окончину, таращились в щелку на людей, жадным взглядом выискивая диковинки: татарок в платьях поверх шаровар, черемисок с круглыми, как три сложенных бублика, шапками поверх платка и в узорчатых расшитых передниках, мужчин в безрукавках и тюбетейках на выбритых затылках… Наташа лежала на кровати, отвернувшись к стене или уставившись невидящим взглядом в потолок; Иван маялся: с женой нудно, с отцом на ровном месте вспыхивали ссоры, с Николаем совестно чего-то, а с Екатериной они друг друга терпеть не могли. Скорей бы уж ехать, что ли…
Только Мария Штауден была вольна пойти, куда ей вздумается. Сенатский указ ее как иноземки не касался, но Макшеев предупредил, что далее Казани ей следовать за Долгоруковыми будет нельзя, придется вернуться в Москву. Мадам с тоской смотрела на Наташу, простертую на постели; даже думать о расставании с ее девочкой, которая выросла у нее на руках, было мучительно. Чтобы занять мысли и руки, гувернантка каждый день ходила на берег Казанки – туда, где смолили и конопатили судно для перевозки ссыльных, и обустраивала там под палубой каюту для Наташи: отгородила чуланчик, где она будет спать, обила стены плотным сукном, чтобы защитить от сырости. Рабочие привыкли к ней, приветствовали, называя мамашей, поставили на корме «павильончик» по ее указке. Их веселил ее ломаный русский язык, но вместе с тем вид этой дородной женщины, державшейся прямо и с достоинством, внушал им уважение. Окончив работу, оглядев все в последний раз (будет ли ее девочке здесь удобно?), пожилая немка присела на топчан и впервые задумалась о себе: куда она теперь? Что будет с нею? Где доведется окончить свои дни? Вера и Екатерина еще малы, но им наверняка взяли другую гувернантку. Конечно, граф Шереметев не выбросит ее на улицу, он даст ей рекомендацию в какой-нибудь хороший дом… И тут она так пронзительно почувствовала свое одиночество, что захотелось завыть, подняв голову кверху, как собака на луну.
Мария поскорее выбралась наверх.
– Уходишь, мамаша? – подмигнул ей молодой матрос, пробегавший мимо с ведром, шлепая босыми ногами. – Видерзейн тебе!
– Auf wiedersehen! [3 - До свидания! (нем.)] – чинно наклонив голову, ответила Мария. И внезапно застыла, пораженная новой мыслью: а не уехать ли ей домой?…
Дом… Трехэтажный, с островерхой черепичной крышей, плотно прилегающий к другим таким же домам, многоглазо таращившимся на узкую мощеную улицу в ее родном Вольфенбюттеле… Как называлась эта улица? О майн Готт, она совсем забыла!.. Мария поднималась по зеленому пригорку к Казанскому кремлю и, глядя на белые стены и крытую тесом галерею над бойницами, вспоминала выгнутую улочку с непересыхающей лужицей посередине, стук деревянных башмаков по мостовой, вывеску на лавке господина Шлеггера и доносящийся оттуда колбасный запах, от которого во рту сразу скапливается слюна…
– …Герр Шлеггер больше не отпускает товар в кредит, фрау Штауден. И герр Файнзель тоже. А мне вы уже два месяца не платили жалованье!
Служанка говорит с госпожой, не опуская глаз и даже позволяет себе повышать голос, а мать Марии, вместо того чтобы одернуть нахалку и указать ей на дверь, униженно просит еще немного обождать, ее муж должен скоро получить наследство… Господин Штауден – нотариус, он никогда не был богачом, а в последнее время дела и вовсе идут плохо. Как прокормить пятерых детей, как выдать замуж трех дочерей? Мария засиделась в девицах, ей пошел двадцать третий год… Странно, она совсем не помнит лица своей матери. Наверное, потому, что мать отводила глаза, когда говорила, что ей нужно поехать в Брауншвейг к дяде Клаусу и попытать счастья там. Знакомый крестьянин, чем-то когда-то обязанный герру Штаудену, согласился подвезти ее в своем фургоне; последнее, что осталось в памяти, – проселочная дорога от заставы, острый шпиль колокольни поверх липовых крон, которые становятся все меньше, дальше с каждым шагом низкорослой чубатой лошаденки. Именно дядя Клаус впервые произнес слово «Россия»: там можно заработать хорошие деньги, русские посылают своих детей в Европу, их надо учить языкам и политесу, а Мария грамотна, обучена разному рукоделию и говорит по-французски, она может поступить в гувернантки. Не беда, что она не знает русского: принцессе Шарлотте Вольфенбюттельской это не помешало выйти замуж за русского кронпринца Алексея… Дядя Клаус купил Марии кое-что из белья, новые башмаки, дал денег на дорогу и рекомендательное письмо к господину Альтбергеру, с которым когда-то три года проучился в Виттенбергском университете: теперь бывший однокашник проживал в Москве, в Лефортово. Путь Марии лежал на восток: Берлин, Франкфурт, Варшава… Дядя посоветовал ей не рассказывать никому без особой нужды, что она едет в Россию: время сейчас неспокойное, война, а царь Петр слишком напористо стал вмешиваться в дела немецких княжеств, с тех пор как выдал замуж свою племянницу Екатерину за герцога Мекленбургского. Лучше держать язык за зубами: того и гляди, какой-нибудь подозрительный трактирщик донесет в полицию…
Дилижансы, пыль, тряска, постоялые дворы, клопы, блохи, пьяные прусские солдаты, лодочные переправы через реки, снова пыль… Молодой девушке трудно и неприлично путешествовать в одиночку. Мария искала себе хороших попутчиков и каждому рассказывала иную историю: пожилому пастору из Магдебурга – что она спешит повидаться с больным отцом, который поехал по своим купеческим делам, но по дороге сильно занемог и теперь хочет благословить перед смертью единственную дочь; молодому французскому дворянину, намеревавшемуся предложить свою шпагу саксонскому курфюрсту Августу II и вызвавшемуся оберегать ее в опасном пути, – что она едет к жениху в Польшу, где стоят саксонские войска; польской помещице, следовавшей в собственном экипаже в Вильно с двумя дочерьми, чтобы поклониться мощам святого Казимежа, – что она сирота и хочет поступить в компаньонки к какой-нибудь престарелой одинокой даме. Путешествие заняло все лето и начало осени.
Когда Мария добралась до Москвы и разыскала герра Альтбергера – вдовца, сожительствовавшего со своей служанкой, – Шарлотта Вольфенбюттельская скончалась родами, произведя на свет второго ребенка – младенца мужского пола. Через год вдовый царевич Алексей, бросив дочь и сына, бежал со своей любовницей во владения австрийского кесаря, потому что отец намеревался упрятать его в монастырь, но грозный царь Петр велел разыскать его, заставил вернуться и посадил в Петропавловскую крепость, где тот и скончался. (Ходили слухи, что царь сам пытал своего сына и велел казнить, но об этом говорили шепотом, оглядываясь по сторонам, и мгновенно трезвели.) Младенец Петр остался круглым сиротой, когда ему не исполнилось и трех лет. В двенадцать ему на голову возложили императорскую корону… К тому времени Мария Штауден, благодаря протекции Альтбергера, имевшего кое-какие связи в среде русской знати, уже давно жила в Кусково, исправно получая жалованье от хозяйственной Анны Петровны, вдовы фельдмаршала Шереметева. В доме росли семеро детей: две дочери от первого брака Анны Петровны (со Львом Кирилычем Нарышкиным) и пятеро от Шереметева – сыновья Петр и Сергей, дочери Наталья, Вера и Екатерина. Их образованием занимался учитель-француз, а воспитание девочек доверили Марии. Наташенька, выросшая под ее присмотром, осиротела в четырнадцать лет, и гувернантка заменила ей мать… Нет, в Германию она не поедет. Все письма, которые она по первому времени посылала в Вольфенбюттель и Брауншвейг, остались без ответа. Теперь ей уже почти сорок, на родине ее давно забыли. Она вернется в Москву и будет там ждать свою Наташу: Бог не оставит ее своею милостью, сохранит, убережет и дозволит под старость лет обнять самого родного человека…
Последний день, отпущенный на сборы, прошел в суете, хлопотах и волнениях. Согласно новому распоряжению, ссыльные могли взять с собой только по одному человеку прислуги: пять мужчин и пять женщин. Наташина девка оказалась лишней: свекровь и Екатерина сказали, что дадут невестке прислугу из своих. Выбранная ими девка была прачкой, и Наташе вовсе не хотелось брать ее себе в услужение, поскольку та больше ничего не умела: ни раздеть, ни обрядить, ни причесать свою госпожу, ни постель постлать, ни на стол подать; прежняя же девка валялась у нее в ногах и плакала горючими слезами, не желая расставаться с барыней. Однако пришлось покориться: Наташа была младшей, да еще и без копейки денег – не стоит настраивать против себя новую родню, без которой ни за что не прожить. Мадам заставила ее взять шестьдесят рублей – последние деньги, что у нее оставались, и Наташа, присев за стол, долго выводила пером записку, высунув от усердия язык: «Батюшка-братец, Петр Борисович! Пожалуй, прикажи мамзели отдать сто рублев денег, понеже мы у нее занимали». Это письмецо она отдала свекру, прося отослать вместе со своими.
Сундуки и прочие вещи погрузили на телеги, сами же пошли пешими. Прасковью Юрьевну мучила одышка, она часто останавливалась передохнуть, а еще терзалась мыслью, не забыли ли чего. Устав от ее причитаний, Екатерина ушла вперед. На берегу Теодор передал своей госпоже заветный ларец, в котором она хранила самые ценные вещи. Он опустился перед ней на одно колено и приник к ее руке.
– Возвращайся в Варшаву, – сказала ему Екатерина, – передай от меня поклон…
Ее голос пресекся, она отвернулась, чтобы он не заметил слез в ее глазах.
– Всегда рад служить ясновельможной пани, – ответил он, как отвечал всегда. – Не позабудьте обо мне, когда вернетесь.
– Ты не знаешь этой страны. – Екатерина потупила взгляд и говорила почти шепотом. – Мне…
Рядом остановился капрал, выжидающе сопя, и она быстро завершила разговор по-польски:
– Zegnaj i pamietai o mnie w swoich modlitwach.
– Niech was Bоg ma w opiece [4 - Прощай и поминай обо мне в своих молитвах. – Храни вас Бог.].
Наташа впервые зашла в свою каюту и остановилась на пороге. Везде была видна заботливая рука Марии: вышитые мережкой занавесочки на окошке, двойная дерюга на полу, обитые светлым сукном стены, застеленный покрывалом топчан и даже небольшой образ Николы Чудотворца в углу с теплящейся перед ним лампадой. Ни слова ни говоря, Наташа бросилась в объятия своей мадам и разрыдалась. Добрая женщина тоже залилась слезами. Так они стояли, плача и крепко держа друг друга за шею, пока солдаты не разняли их силой. Марию чуть не волоком оттащили на берег, а Наташа упала на топчан и лишилась чувств. Она не слышала, как подняли сходни и отдали концы, как судно вышло на веслах из Казанки в Волгу, как поставили парус. А когда очнулась и, оттолкнув руку Ивана, дававшего ей нюхать спирт, побежала наверх, чтобы в последний раз увидеть город, где она навсегда рассталась с милым прошлым, кругом была одна вода. Наташа прижала ко рту кулачки, унимая горестный вопль, и тут заметила, что из перстня на руке выпала жемчужина. Наверно, она потерялась еще тогда, в сутолоке прощания. Наташа стянула с руки перстень с пустым зевом и бросила в воду: чего уж теперь…
Глава 10
Пристав к берегу и выбрав укромное место, разбойники поделили добычу. Хлап захватил в кабаке пять тысяч казенных денег, так что пришлось по сто рублей на брата. Награбленное на подворьях сложили в кучу и раздали по жребию: один вытаскивал наугад какую-нибудь вещь: мужские порты, женскую утирку, ременные вожжи, пачку сальных свечей, – а другой, стоявший к нему спиной, указывал, кому ее отдать. Этот дележ проходил под взрывы хохота, радостные или огорченные крики, шутки и матюги. После началась мена, ожесточенные споры. Атаман, выждав некоторое время, гаркнул, уняв этот базар. К вечеру добрались до знакомой деревни, где можно было спокойно провести несколько дней и оставить у надежного мужика часть награбленного. Ночь прошла в пьяном угаре.
Прохор еще никогда не держал в руках столько денег: без малого сто рублей! Без малого – потому что, получив свою долю, Прохор сразу же отдал долг Митьке, и тот картинно изломал палочку с зарубками и бросил через плечо. Ночью Прохор пил вместе со всеми. К нему тянулись пьяные рожи с осовелыми, бессмысленными глазами, поздравляя «с почином», лезли целоваться слюнявые рты под влажными усами. Он тоже целовался, хлопал по плечам, громко смеялся, широко раскрывая рот, но для себя решил, что долго с разбойниками не останется: желтенькое это житье. Уходить надо непременно, вот только каким-нибудь образом выправить себе пашпорт, чтобы не угодить на съезжую. Из разговоров Прохор знал, что осенью разбойные шайки прекращают свой промысел и тянутся в Москву, чтобы там перезимовать, погулять на награбленные деньги и закупиться впрок порохом и пулями. Вот тогда-то самое время будет сделать ноги: Москва город большой, Прохор ее хорошо знает, найдет, где приткнуться. Пашпорт бы только раздобыть…
Один из любимых Митькиных рассказов был о том, как Хлап, когда его на Макарьевской ярмарке преследовали драгуны, не только ушел от погони, но даже отвел от себя все подозрения. Дело было так: Тимошка с тремя подельниками подломил лавку армянских купцов, но их заметили, закричали «Держи вора!». Они бросились врассыпную; Хлап забежал в торговую баню, скинул с себя всю одежду, окромя исподних портов, сунул ее под лавку, да так и вышел на улицу. Из бани он направился прямиком в полицейскую часть и заявил там, что он-де московский купец, у которого в бане увели всю одежу, деньги и пашпорт. Приставив к Тимохе караул, полковник приказал одному подьячему записать его показания, а потом отправиться в торговые ряды, разыскать там московских купцов и выяснить, доподлинно ли такой-сякой есть их товарищ, и какая о нем идет слава. Но Хлап посулил подьячему «фунт муки с походом да кафтан с камзолом», и тот, чернильная душа, не моргнув глазом доложил полковнику, что, мол, так и так, все верно: сей человек есть действительно московский купец, и товарищи его слова подтвердили. Хлап получил настоящий пашпорт сроком на два года, подьячему дали десять целковых, чтоб держал язык за зубами, а Тимохиным подельникам тогда тоже удалось уйти, замешавшись в толпу, что глазела на кулачный бой.
Конечно, такие хитрости да каверзы были не для Прохора. Врать он не умел, казенные заведения привык обходить стороной, грамоты не знал. Ляпнешь сдуру что-нибудь не так, крючкотворы эти вмиг все на бумагу запишут, а у нас ведь каждый клочок в тюрьму волочет. Был бы он, как прежде, дворовым человеком князя Долгорукова, тогда бы еще все обошлось возвратом к господину – пускай сам со своими людьми разбирается. А теперь имени господина лучше не поминать. Кто его знает, кому его людишек отдали, может, такому, как князь Черкасский, кто с беглых три шкуры спустит. А у Прохора еще первая голова на плечах и кожа не ворот. Он решил заначить деньжат, вызнать потихоньку у разбойников, какого подьячего можно подмазать в Муроме или в Нижнем, чтоб наверняка и без скандалу, а уж как выправит себе настоящий пашпорт – ищи ветра в поле. Несколько целковых он зашил в шапку, еще с десяток – за подоплеку рубахи, а остальные держал в сундучке, доставшемся ему при дележе, и спал, положив его под голову. Хотя среди разбойников красть у своих товарищей считалось последним делом, а все ж береженого Бог бережет.
На третий день гульба все еще продолжалась. В избе было смрадно, аж резало глаза, впору топор вешать, и Прохор спал во дворе под навесом, укрывшись армяком. Он опять томился от безделья, но вчера Тихон обещал научить его палить из пищали, которую таскал с собой. Все-таки занятие.
На крыльцо вышел один из разбойников, морщась, посмотрел на мутное солнце – видно, голова трещала с похмелья, – чуть не свалился с покривившихся ступеней, матюкнулся и тут же стал облегчаться. Тихон появился следом, кивнул Прохору; тот вылил ему на голову заранее приготовленное ведро воды. Отфыркавшись и утершись грязным рушником, Тихон разогнулся, передернул плечами; они взяли пищаль и мешок с огневым припасом. «Ну пошли, что ли…»
Учение решено было проводить на скошенном поле за деревней, у опушки леса. Тихон показал, как забивать в ствол шомполом пыж и пулю, потом поставил пищаль на сошку, насыпал на полку затравочный порох, спустил шептало – кремень ударил по огниву, высек искру, и Прохор вздрогнул от выстрела.
И тут, словно по сигналу, за спиной у них раздалась глухая барабанная дробь, заставившая обоих обернуться. Дробь сменилась мерным «трам-та-та-там», и под этот бесстрастный ритм, от которого становилось жутко, к деревне двумя рядами шли человечки в солдатских мундирах и треуголках, с ружьями наперевес. Прохор и Тихон смотрели на них, разинув рот. Но вот в деревне послышались крики, беспорядочная пальба; человечек, шедший с краю, взмахнул блеснувшей на солнце саблей – и солдаты побежали вперед.
– Ходу, паря, – сказал Тихон. – Доспеют они нас.
Бросив пищаль, он первым побежал к лесу; Прохор нагнал его и вырвался вперед. Услышав сзади «Стой! Стой!» и громкий выстрел, от которого екнуло сердце, наддал еще.
Бежать было тяжело, он спотыкался о кротовины, тяжело дышал открытым ртом. Снова грянул выстрел, прямо над головой прогудела пуля, и Прохор инстинктивно пригнулся, метнулся в сторону, как уходящий от погони заяц. Еще один – и сзади надрывно крикнул Тихон, а Прохор от неожиданности упал, ободрав вытянутые вперед руки и исколовшись о стерню. Полежал немного, загнанно дыша, пока перед глазами расходились зеленые и оранжевые круги, потом осторожно оглянулся.
Тихон лежал, изогнувшись, на правом боку, поджав ноги и запрокинув голову с оскаленными от боли зубами; из его левой руки хлестала кровь и торчал обломок сахарно-белой кости. Прохор смотрел на это вытаращенными от ужаса глазами и чувствовал подступающую дурноту. Неясные окрики сзади и собачий лай привели его в чувство. Он огляделся: до леса было уже недалеко.
– Тихон! Эй! Тихон! Вставай, дядя, пошли, тут недалечко!
В глазах Тихона застыла темная боль, но он все же перевалился на колени, опираясь на здоровую руку, попробовал подняться. Прохор рванул его кверху за пояс, закинул его правую руку себе за шею и потащил к лесу, чувствуя горячую липкую кровь и холодея спиной от страха.
Когда они продрались сквозь заросли папоротника и ольшаника, Тихон отпустил его шею и тяжело рухнул наземь.
– Не нашли бы нас… по следу-то… – с высвистом прохрипел он еле слышно.
Лицо его залила смертельная бледность, волосы налипли на потный лоб. Из изуродованной руки все еще сочилась кровь, и Прохор, сняв с себя поясок, перетянул ее повыше раны, затем оторвал полосу от исподней рубахи и, преодолевая тошноту, кое-как перевязал. Поискав вокруг, принес длинную ровную ветку и попробовал приладить к ней Тихонову руку, чтобы не болталась в разные стороны, разбрызгивая рудые капли. Тихон снова вскрикнул – и закатил глаза.
Прохор подхватил безжизненное его тело под мышки и потащил, но очень скоро выбился из сил. Чуть отдышавшись, подлез под Тихона, взвалил его на закорки и понес на себе. Пот заливал глаза, пересохшее горло кололо иголками, ноги подгибались, и, скатившись в небольшой овражек, засыпанный прошлогодней опавшей листвой, Прохор отпустил свою ношу и сел на землю, тяжело дыша.
– Ты, паря, брось меня тута.
Прохор даже вздрогнул, когда очнувшийся Тихон негромко, но отчетливо произнес эти слова. Он полулежал, глядя прямо перед собой; его лицо казалось восковым, под глазами залегли синие тени, рот запекся. Осторожно поддерживая за шею, Прохор усадил его ровнее, стараясь не касаться больной руки.
– Пить, – попросил Тихон.
Вылезать из овражка было страшно. Прохор долго собирался с духом, прежде чем решиться на это. Выполз ужом на противоположную сторону, посидел немного в кустах, выглядывая, нет ли погони. Но вроде нет никого. Ему и самому хотелось пить, и он пошел вперед наобум, в надежде найти какой-нибудь ручей или болотце: лес – сплошь береза да ольха, дуб да осина, где-то должна быть вода. Была бы сейчас весна – можно было бы березовым соком напиться, но его пора давно прошла… Чутье повело его куда-то вбок; земля под ногами зачавкала, и в зарослях ивняка в самом деле отыскался ручеек шириной с ладонь. Прохор лег прямо поперек него и долго пил, как лошадь. Но как он Тихону-то воду понесет? Не в горсти же? Да и руки у него в крови и в грязи… Побродив по бережку, нашел лопух побольше, свернул в кулек, кое-как зачерпнул водицы, понес бережно, мелкими шажками, боясь не донести… Пару раз казалось ему, что он сбился с пути, идет не туда, и он начинал топтаться на месте, озираясь в поисках примет; и каждый раз словно какая-то незримая рука подталкивала его: туда, мол, иди.
Тихон сидел в той же позе, в какой он его оставил, только часто и глубоко дышал. Глаза его были широко раскрыты, словно он чего-то испугался. Прохор стал лить воду ему в рот, но поди-ка напои человека из лопуха: почти все пролилось по бороде. Пришлось бежать обратно к ручью… Когда он вернулся, Тихон лежал на боку. Прохор смочил свои пальцы в воде и провел по его губам. Полуприкрытые веки Тихона затрепетали, словно он силился раскрыть их и не мог; он глубоко и прерывисто вздохнул, дернул головой – и застыл.
На Прохора нашло отупение от усталости. Какое-то время он сидел, ни о чем не думая, слушая щебет птиц где-то в вышине. Потом достал из-за голенища нож и стал вспарывать дерн, чтобы вырыть Тихону могилу.
Земля была мягкая, Прохор вычерпывал ее руками, разрыхлив ножом, и где-то через полчаса неглубокая яма была готова. Стянув в нее Тихона за ноги, Прохор кое-как сложил ему руки на груди, прочитал молитву, засыпал землей, обложил холмик дерном и притоптал.
Куда теперь? О том, чтобы вернуться назад, не могло быть и речи, но и здесь оставаться было боязно. Солнце еще проглядывало сквозь верхушки деревьев, играя лучами, но уже клонилось к закату. Прохор решил идти за ним и, поручив себя Николе-угоднику, двинулся через лес.
Человек он был городской, лес был ему чужим. Ему хотелось поскорее выбраться отсюда. Да и голод, до сей поры притупленный страхом, теперь напоминал о себе. Еле заметная тропинка вывела Прохора на черничную поляну; он стал ползать по земле, собирая ягоды: наберет пригоршню – и в рот, но разве это еда? Только в животе заурчало, и теперь уже есть захотелось по-настоящему.
Что-то мелькнуло за кустом, закачалась ветка – белка взвилась вверх по стволу, скрылась за ним, потом снова высунулась, головой вниз, поглядела на человека – вроде не опасен, а все ж; порск – и нет ее. Какая-то еще мелкая живность шевелилась в траве, завершая дневные дела. Птиц не слыхать, даже ветер стих; настала торжественная вечерняя тишина, с какой обычно провожают солнце. С восточной стороны, откуда пришел Прохор, уже подступали сумерки; от травы подымалась белесая дымка.
Прохор смертельно устал. Ноги подгибались, не держали. Он решил заночевать здесь, на поляне, под старой мохнатой елью, которую обступили молоденькие пушистые елочки. Нарезал ножом лапника, чтобы не сидеть на сырой земле, соорудил себе колючую подстилку и тяжело опустился на нее, прислонившись спиной к замшелому стволу. Возле потного лица вились и зудели комары. Прохор надвинул поглубже шапку, подумал, не снять ли сапоги – все полегче будет саднящим ногам, – но не стал и впал в тяжелую дрему.