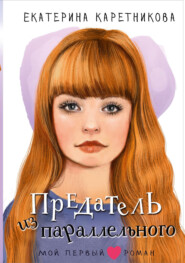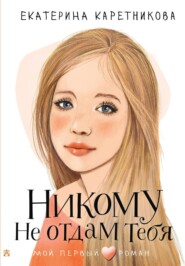По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шесть баллов по Рихтеру
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А потом он все-таки сказал:
– Не говори ничего, я все знаю про твоих. В школу приходили.
Я поняла, что он опять сидел в школе допоздна. Он часто там оставался по каким-то своим делам. Вот, значит, и сегодня остался. А когда полиция пришла сначала в школу, чтобы узнать мой адрес, он все услышал и сложил два и два.
– Я думал, что ты уже дома. И пришел.
– Так я дома, – наконец выдавила из себя я. – Ты не представляешь… Не представляешь, как ты вовремя.
Я плохо помнила, как мы оказались в квартире. Кажется, он сам нашел ключ в моем кармане и сам открыл дверь.
– Мне нужно в ванную. И переодеться, – сказала я.
Он кивнул.
– А ты не уйдешь?
Я спросила, и голос задрожал. Он всегда торопился, всегда куда-то бежал, спешил, опаздывал, и у нас не было времени даже, чтоб спокойно поговорить о чем-нибудь, кроме выпускных экзаменов или контрольной по геометрии. Впрочем, иногда и о контрольной по алгебре тоже.
– Нет, – сказал он ровным голосом. – Я никуда не уйду, даже если ты просидишь в ванной до утра.
В ванной я разделась, включила душ и подумала, что вот сейчас заплачу по-настоящему. Ведь до этой минуты мне непременно кто-то мешал. То участковый, то доктор из морга, то таксист. То он – мой самый любимый человек на свете. Теперь получалось, что так. Больше мне любить было некого.
Но слезы застряли где-то далеко, и я не смогла ни заплакать, ни даже всхлипнуть по-человечески. Несколько раз судорожно хлебнула воды из-под крана, потому что горло горело и казалось, что без воды этот невидимый огонь перейдет на кожу. И я умру, не выдержав болевого шока. Хлебнула воды. Не умерла.
Полотенце показалось жестким и неприятным, но я вытиралась быстро и так, чуть-чуть, оставляя влагу везде, где она могла остаться. Вытерлась, надела махровый халат, затянула пояс на два узла. И, даже не посмотрев в зеркало, вышла.
Он сидел на кухне. Перед ним стояла большая чашка с чаем и еще одна, пустая. Не моя. Но откуда он бы знал, какая – моя?
– Это мамина, – быстро сказала я, пока слезы не прорвались, и убрала пустую чашку в сушилку. А себе достала привычную, с красно-белым цветком.
– Извини, – сказал он и показал на свою. – А эта?
– А эта для гостей. Ты не помнишь? Когда приходил, я тебе наливала в нее.
– Прости, не помню. Или помню, но на подсознательном уровне.
Я кивнула. Он прикоснулся к чашке чуть искривленными пальцами. Эти пальцы с детства оставались его болью. Нет, если не знать, ничего такого ужасного в них не было. Просто они неправильно срослись после перелома. А он всю жизнь мечтал стать музыкантом. И до травмы у него даже получалось что-то, от чего преподавательница становилась серьезной и торжественной и однажды сказала, что такие ученики у нее никогда не занимались. Он был ей наградой за сотни выслушанных гамм и еще за что-то такое, чего никто не запомнил. Но награду быстро отобрали. У преподавательницы награду, у него надежду. Школьные гопники однажды засунули ему руку под дверные петли и закрыли дверь. От боли он потерял сознание. Ненадолго, но испугались все, гопники тоже. Мелкие гопники всегда трусы. Они же поняли, что за убийство придется отвечать не по-детски. А потом оказалось, что он не умер как человек, но умер как музыкант.
– Хороший чай, – сказал он.
– Ага, – кивнула я. – Всегда завариваю свежий.
– Ангелина…
В первый раз за сегодняшний день он назвал меня по имени. Хотя, какой там день? Давно наступила ночь. Странно, что я совсем этого не чувствовала. Я как будто подвисала во времени и пространстве, но это было ни капли не похоже на обычное желание спать.
– Ангелина, – повторил он. – Я сегодня посмотрел такой фильм. Называется «Мир за дождем». Там люди, у которых в нашем мире что-то не так, могут уйти в другой.
– Умереть? – догадалась я.
Он испуганно махнул рукой:
– Нет, что ты! Вовсе нет. Просто уйти в параллельный мир. И там, может быть, стать счастливыми. Но это как повезет. Может, будет и еще хуже.
– А вернуться нельзя? Если хуже?
– Теоретически можно. Но есть один нюанс. В течение двух недель человек теряет память о прошлом мире. Она вытесняется новой памятью – о новом мире. Ну как будто он там родился и жил всю жизнь. То есть, чтобы вернуться, нужно успеть все решить за две недели.
– Ясно, – сказала я.
Мне вдруг стало тоскливо. Так тоскливо, что сердце начало биться тяжелее и медленнее, а во рту появился привкус металла. Я представила, что он – тот, кто сидит сейчас передо мной, всю жизнь будет думать только об одном. Как вернуть прежнюю гибкость пальцам. Сначала он будет об этом думать. Потом искать врачей. Потом колдунов. А потом подсядет на наркотики или сопьется. С горя.
Я прямо увидела эти картинки перед глазами как кадры из фильма. Не «Мира за дождем», другого, куда более грустного. А потом поняла, что это все-таки не картинки, это сон. Самое его начало, робкое и легко рвущееся.
– Прости, – сказала я. – Я, кажется, засыпаю.
– Я тоже, – сразу ответил он. – Покажешь, где мне лечь?
– Пойдем.
Я почему-то сразу решила, что он ляжет в другой комнате. А он встал и вдруг начал меня целовать. Это было так непривычно и так странно, что мне показалось: я опять сплю и вижу сон. Только на этот раз счастливый.
Жаль, что счастье оборвалось сразу, как я вспомнила, что сегодня произошло, и почему у меня дома остался ночевать мой самый любимый человек на свете.
Рихтер. Да, его все так называли, еще с первого класса. И я тоже. Еще тогда, когда его пальцы были гибкими и тонкими, а сам он каждый день ходил в музыкальную школу, а по выходным – к преподавательнице, лучшей в городе. По крайней мере, у нас так говорили.
Счастье оборвалось. Но потом снова стало ткаться по ниточке, по пушинке, как легкая паутина или шар невидимого одуванчика. Когда он прикасался ко мне губами, кончиками пальцев, ладонями. А после всем телом, сухим и горячим, как будто у него была высокая температура, а я, наоборот, замерзала и превращалась в ледяную воду.
Он не дал мне ни застыть, ни замерзнуть. И даже уснуть до половины пятого утра – и то не позволил. Пока не уснул сам.
Глава третья. Еще вместе
Дни тянулись – дождливые, серые, наполненные неизвестностью и тоской. Сначала, оглушенная своим личным горем, я не обращала внимания на то, что творится вокруг. Иногда, если до ушей долетали обрывки новостей, мне казалось, что мир сходит с ума. Но потом я решала, что это я схожу с ума. А на самом деле все, как всегда. Кто-то ворчит, что климат испортился окончательно. Где-то пропадают люди. А кто-то предсказывает, что скоро все закончится. Вот только непонятно, что он имеет в виду. Конец этого мира? Или конец каких-то странных событий, происходящих вокруг нашего города?
Три дня я ревела и не включала ни телевизор, ни радио, вообще. Потом мне позвонили и сказали, что родителей можно похоронить. Но, видимо, позвонили не только мне, потому что люди с их работы тоже связались со мной и объяснили, что я могу не волноваться, они все сделают сами. Мне было больно. Мне было страшно. Мне хотелось исчезнуть или хотя бы уснуть на полгода, чтобы проснуться, а все это давно осталось позади. Рихтер писал мне каждый день по сети, но приходить не приходил. Наверное, мы оба испугались того, что сошлись так близко. Испугались и не знали, что с этим делать дальше, особенно сейчас.
Потом были похороны. Я не буду о них рассказывать. У меня до сих пор начинают трястись руки, когда я пытаюсь восстановить события того дня, и пальцы не попадают на нужные кнопки клавиатуры.
Потом прошла неделя, когда я училась жить одна. Включать и выключать свет, просыпаться под будильник, выносить мусор, покупать еду, готовить себе что-то на завтрак, обед и ужин. С деньгами у меня внезапно оказалось все неплохо. Я нашла родительские банковские карты. И ПИН-коды тоже нашла. Денег там было столько, что при аккуратных расходах хватило бы до конца следующего года. А может, и дольше. Я удивилась. Мне всегда казалось, что родители зарабатывают немного. То есть, на жизнь хватает, а чтобы откладывать или делать крупные покупки – нет. Оказалось, что я ошибалась. Оказалось, что в последние месяцы они оба зарабатывали не просто хорошо, а до странного много. При их-то работе в НИИ на инженерных должностях.
Мне, конечно, повезло еще в одном – мне уже исполнилось восемнадцать, и я могла жить без опекунов. И без попыток устроить меня в детский дом.
Первая неделя после похорон была чудовищной, вторая не сильно лучше.
А потом, когда Рихтер привычно написал коротенькое вечернее сообщение, я попросила: «Приходи, пожалуйста».
Сначала я хотела объяснить ему, что ничего не имею в виду. Что не собираюсь его соблазнять или лезть с бесконечными разговорами. Мне просто было нужно хоть немножко побыть с живым человеком. В одной квартире побыть, а не как-нибудь там. А потом я подумала, что ничего объяснять не буду. Позову и все. Чем больше пишешь слов, тем проще в них запутаться. И вдруг я буду иметь в виду одно, а он поймет все совсем наоборот?
– Не говори ничего, я все знаю про твоих. В школу приходили.
Я поняла, что он опять сидел в школе допоздна. Он часто там оставался по каким-то своим делам. Вот, значит, и сегодня остался. А когда полиция пришла сначала в школу, чтобы узнать мой адрес, он все услышал и сложил два и два.
– Я думал, что ты уже дома. И пришел.
– Так я дома, – наконец выдавила из себя я. – Ты не представляешь… Не представляешь, как ты вовремя.
Я плохо помнила, как мы оказались в квартире. Кажется, он сам нашел ключ в моем кармане и сам открыл дверь.
– Мне нужно в ванную. И переодеться, – сказала я.
Он кивнул.
– А ты не уйдешь?
Я спросила, и голос задрожал. Он всегда торопился, всегда куда-то бежал, спешил, опаздывал, и у нас не было времени даже, чтоб спокойно поговорить о чем-нибудь, кроме выпускных экзаменов или контрольной по геометрии. Впрочем, иногда и о контрольной по алгебре тоже.
– Нет, – сказал он ровным голосом. – Я никуда не уйду, даже если ты просидишь в ванной до утра.
В ванной я разделась, включила душ и подумала, что вот сейчас заплачу по-настоящему. Ведь до этой минуты мне непременно кто-то мешал. То участковый, то доктор из морга, то таксист. То он – мой самый любимый человек на свете. Теперь получалось, что так. Больше мне любить было некого.
Но слезы застряли где-то далеко, и я не смогла ни заплакать, ни даже всхлипнуть по-человечески. Несколько раз судорожно хлебнула воды из-под крана, потому что горло горело и казалось, что без воды этот невидимый огонь перейдет на кожу. И я умру, не выдержав болевого шока. Хлебнула воды. Не умерла.
Полотенце показалось жестким и неприятным, но я вытиралась быстро и так, чуть-чуть, оставляя влагу везде, где она могла остаться. Вытерлась, надела махровый халат, затянула пояс на два узла. И, даже не посмотрев в зеркало, вышла.
Он сидел на кухне. Перед ним стояла большая чашка с чаем и еще одна, пустая. Не моя. Но откуда он бы знал, какая – моя?
– Это мамина, – быстро сказала я, пока слезы не прорвались, и убрала пустую чашку в сушилку. А себе достала привычную, с красно-белым цветком.
– Извини, – сказал он и показал на свою. – А эта?
– А эта для гостей. Ты не помнишь? Когда приходил, я тебе наливала в нее.
– Прости, не помню. Или помню, но на подсознательном уровне.
Я кивнула. Он прикоснулся к чашке чуть искривленными пальцами. Эти пальцы с детства оставались его болью. Нет, если не знать, ничего такого ужасного в них не было. Просто они неправильно срослись после перелома. А он всю жизнь мечтал стать музыкантом. И до травмы у него даже получалось что-то, от чего преподавательница становилась серьезной и торжественной и однажды сказала, что такие ученики у нее никогда не занимались. Он был ей наградой за сотни выслушанных гамм и еще за что-то такое, чего никто не запомнил. Но награду быстро отобрали. У преподавательницы награду, у него надежду. Школьные гопники однажды засунули ему руку под дверные петли и закрыли дверь. От боли он потерял сознание. Ненадолго, но испугались все, гопники тоже. Мелкие гопники всегда трусы. Они же поняли, что за убийство придется отвечать не по-детски. А потом оказалось, что он не умер как человек, но умер как музыкант.
– Хороший чай, – сказал он.
– Ага, – кивнула я. – Всегда завариваю свежий.
– Ангелина…
В первый раз за сегодняшний день он назвал меня по имени. Хотя, какой там день? Давно наступила ночь. Странно, что я совсем этого не чувствовала. Я как будто подвисала во времени и пространстве, но это было ни капли не похоже на обычное желание спать.
– Ангелина, – повторил он. – Я сегодня посмотрел такой фильм. Называется «Мир за дождем». Там люди, у которых в нашем мире что-то не так, могут уйти в другой.
– Умереть? – догадалась я.
Он испуганно махнул рукой:
– Нет, что ты! Вовсе нет. Просто уйти в параллельный мир. И там, может быть, стать счастливыми. Но это как повезет. Может, будет и еще хуже.
– А вернуться нельзя? Если хуже?
– Теоретически можно. Но есть один нюанс. В течение двух недель человек теряет память о прошлом мире. Она вытесняется новой памятью – о новом мире. Ну как будто он там родился и жил всю жизнь. То есть, чтобы вернуться, нужно успеть все решить за две недели.
– Ясно, – сказала я.
Мне вдруг стало тоскливо. Так тоскливо, что сердце начало биться тяжелее и медленнее, а во рту появился привкус металла. Я представила, что он – тот, кто сидит сейчас передо мной, всю жизнь будет думать только об одном. Как вернуть прежнюю гибкость пальцам. Сначала он будет об этом думать. Потом искать врачей. Потом колдунов. А потом подсядет на наркотики или сопьется. С горя.
Я прямо увидела эти картинки перед глазами как кадры из фильма. Не «Мира за дождем», другого, куда более грустного. А потом поняла, что это все-таки не картинки, это сон. Самое его начало, робкое и легко рвущееся.
– Прости, – сказала я. – Я, кажется, засыпаю.
– Я тоже, – сразу ответил он. – Покажешь, где мне лечь?
– Пойдем.
Я почему-то сразу решила, что он ляжет в другой комнате. А он встал и вдруг начал меня целовать. Это было так непривычно и так странно, что мне показалось: я опять сплю и вижу сон. Только на этот раз счастливый.
Жаль, что счастье оборвалось сразу, как я вспомнила, что сегодня произошло, и почему у меня дома остался ночевать мой самый любимый человек на свете.
Рихтер. Да, его все так называли, еще с первого класса. И я тоже. Еще тогда, когда его пальцы были гибкими и тонкими, а сам он каждый день ходил в музыкальную школу, а по выходным – к преподавательнице, лучшей в городе. По крайней мере, у нас так говорили.
Счастье оборвалось. Но потом снова стало ткаться по ниточке, по пушинке, как легкая паутина или шар невидимого одуванчика. Когда он прикасался ко мне губами, кончиками пальцев, ладонями. А после всем телом, сухим и горячим, как будто у него была высокая температура, а я, наоборот, замерзала и превращалась в ледяную воду.
Он не дал мне ни застыть, ни замерзнуть. И даже уснуть до половины пятого утра – и то не позволил. Пока не уснул сам.
Глава третья. Еще вместе
Дни тянулись – дождливые, серые, наполненные неизвестностью и тоской. Сначала, оглушенная своим личным горем, я не обращала внимания на то, что творится вокруг. Иногда, если до ушей долетали обрывки новостей, мне казалось, что мир сходит с ума. Но потом я решала, что это я схожу с ума. А на самом деле все, как всегда. Кто-то ворчит, что климат испортился окончательно. Где-то пропадают люди. А кто-то предсказывает, что скоро все закончится. Вот только непонятно, что он имеет в виду. Конец этого мира? Или конец каких-то странных событий, происходящих вокруг нашего города?
Три дня я ревела и не включала ни телевизор, ни радио, вообще. Потом мне позвонили и сказали, что родителей можно похоронить. Но, видимо, позвонили не только мне, потому что люди с их работы тоже связались со мной и объяснили, что я могу не волноваться, они все сделают сами. Мне было больно. Мне было страшно. Мне хотелось исчезнуть или хотя бы уснуть на полгода, чтобы проснуться, а все это давно осталось позади. Рихтер писал мне каждый день по сети, но приходить не приходил. Наверное, мы оба испугались того, что сошлись так близко. Испугались и не знали, что с этим делать дальше, особенно сейчас.
Потом были похороны. Я не буду о них рассказывать. У меня до сих пор начинают трястись руки, когда я пытаюсь восстановить события того дня, и пальцы не попадают на нужные кнопки клавиатуры.
Потом прошла неделя, когда я училась жить одна. Включать и выключать свет, просыпаться под будильник, выносить мусор, покупать еду, готовить себе что-то на завтрак, обед и ужин. С деньгами у меня внезапно оказалось все неплохо. Я нашла родительские банковские карты. И ПИН-коды тоже нашла. Денег там было столько, что при аккуратных расходах хватило бы до конца следующего года. А может, и дольше. Я удивилась. Мне всегда казалось, что родители зарабатывают немного. То есть, на жизнь хватает, а чтобы откладывать или делать крупные покупки – нет. Оказалось, что я ошибалась. Оказалось, что в последние месяцы они оба зарабатывали не просто хорошо, а до странного много. При их-то работе в НИИ на инженерных должностях.
Мне, конечно, повезло еще в одном – мне уже исполнилось восемнадцать, и я могла жить без опекунов. И без попыток устроить меня в детский дом.
Первая неделя после похорон была чудовищной, вторая не сильно лучше.
А потом, когда Рихтер привычно написал коротенькое вечернее сообщение, я попросила: «Приходи, пожалуйста».
Сначала я хотела объяснить ему, что ничего не имею в виду. Что не собираюсь его соблазнять или лезть с бесконечными разговорами. Мне просто было нужно хоть немножко побыть с живым человеком. В одной квартире побыть, а не как-нибудь там. А потом я подумала, что ничего объяснять не буду. Позову и все. Чем больше пишешь слов, тем проще в них запутаться. И вдруг я буду иметь в виду одно, а он поймет все совсем наоборот?