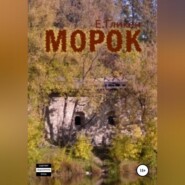По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нехорошее поле. Мелочи жизни и одна страшная история
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пошли скорее, пока она тут, яблок у неё в саду наберём.
Яблоки у Аленихи были что надо, и ведь, чем больше воровали, тем больше их становилось. Не воровал у Аленихи только ленивый. А таких на районе не было. Вдруг Костик как-то неестественно изогнулся, будто на него напали сзади. Марина дёрнулась, почувствовав опасность, отскочила и принялась улепётывать что было мочи.
Алениха вцепилась костлявой рукой в футболку мальчугана.
Костик побледнел.
Маринки и след простыл.
Алениха молча волокла мальца прямо в свою ведьминскую чёрную избу. Костик не плакал, не кричал, не вырывался. Он молча цеплялся взглядом за серые доски дома, за кирпичи, валявшиеся на дорожке, за ветки яблони.
Они подошли к двери, старуха отворила её и швырнула мальчугана внутрь. Из дома на Костика пахнуло запахом плесени и какой-то гнилой кислой старости. На входе было темно. Костлявый палец старой ведьмы гнал его вверх по лестнице, врезаясь сзади под левую лопатку.
Еще через минуту, Костик оказался в маленькой тёплой комнате, залитой солнцем. На стене тикали часы. Посреди стоял круглый стол. У окна – валик с кружевами. В сторону кухоньки убегала длинная полосатая дорожка. Из кухни вкусно пахло.
– Я есть хочу, – с детской непосредственностью сообщил мальчуган.
Старуха молча поволокла его за ухо в сторону кухни. Здесь она поставила его перед маленьким синим умывальником и с силой всунула в руки кусок мыла.
– Хорошенько мыль! – повелела старая ведьма.
И Костик мылил.
Затем таким же образом, как и до этого, Алениха конвоировала Костика к столу, на котором через некоторое время появилась тарелка с наваристыми щами.
– Ешь! – приказала старуха.
И Костик ел. Сначала жадно, уставившись в тарелку, стараясь зацепить побольше гущи. А позже, после первых ложек, отдуваясь и отплёвываясь от лука, вытирая пот из-под глаз и носа. Еще позже он и вовсе начал крутить головой, осматривая избу.
У стены под большим прямоугольным зеркалом была привешена полка с книгами. Костик не умел читать, но одна из книг была такой яркой, такой красивой…
Костик встал из-за стола и двинулся к цели. Костлявая рука старухи схватила его и поволокла обратно к столу.
– Ешь! – повторила старуха приказ.
Костик привычно растянул губы, приготовившись заплакать. Алениха покачала головой и повторила:
– Ешь!
Костик сообразил, что привычной затрещины он не получит, и снова начал собирать сопли.
Алениха встала, забрала у него из-под носу тарелку и отправилась на кухню. Такого Костик не ожидал и поплёлся за ней следом, забыв о дивной книжке.
– Доедать будешь? – смягчилась старуха.
Костик почувствовал небывалое какое-то тепло и вполне теперь доверился старухе.
– И книгу! – закивал он.
– Хорошо, – улыбнулась Алениха. – Сначала есть, потом мыть руки, а потом я тебе почитаю.
***
Константин Евгеньевич поднял с земли яблоко, потёр его о пиджак, повертел в руках, вздохнул.
– Да, а ведь сколько нас было, ребятни во дворе. А половина уже на кладбище, кто спился, кто сидит… А я к Аленихе повадился.
Он как-то печально усмехнулся, подумал и снова вздохнул.
– Аленихи нет, а яблоки-то всё те же, не одичали… Что ж, теперь, видать, моя очередь, пацанам помогать.
Перерождение душ
День был жарок. На пляже сидели и лежали один на другом. В несколько рядов.
То там то тут срывались с мест и мчались по ветру в сторону реки разноцветные детские круги, набитые крашеными перьями. По берегу мелькали всевозможные татуировки.
Город в жару и город в обычные дни – это совершенно разные города. Жара, а лучше всего – невыносимая жара, – единственное время, когда в мире правит демократия.
Общественное порицание сводится к нулю. Тощие, толстые, брюхатые, ногатые, целлюлитные, беззубые, татуированные, крашеные, плетеные – все сходятся к реке. И каждому находится место.
Телевизор в такие дни зря надрывается, рассказывая о множестве научных открытий, количестве партий и размахе добрых дел правителей. Плевать. Никого нет дома. Все тут.
Она окунулась в прохладные волны, проплыла под водой первую линию, круто вспененную детскими руками и ногами, и вынырнула где-то между берегом и буйками, в зоне, свободной от криков, там, где вода теплее, чем обычно, от изобилия стеснительных взрослых.
Кто-то коснулся руки. Она вскрикнула. Вынырнула лысая голова, долго извинялась, предлагала знакомство и всякие глупости…
Ещё через пару гребков она и эту линию оставила позади. Затем ушла вбок от беснующейся, визгливой, верещащей толпы, подальше от всего этого шума. За руку зацепился длинный зеленый лист. Она брезгливо откинула его. Вскоре – ещё один. Его постигла та же участь. А потом ещё, и ещё, и ещё… И она уже не откидывала их, а рассматривала.
Вскоре ее руки уже не просто скользили в воде, но еще и раздвигали заросли. Ноги были увиты зелеными длинными стеблями. Она не сопротивлялась. Тут было тихо. Ни одного крика.
Разве что один, её, сдавленный, перед тем, как она ушла под воду. В голове промелькнула глупейшая мысль: «Как жаль, что я не рыба!».
Она колотила в воде руками, лягалась, но листья и стебли прекрасных кувшинок сжимали крепко-крепко, словно без памяти влюбившись в неё и не желая никуда отпускать. Пузыри воздуха ринулись вверх, на поверхность, туда, где солнце и свет, будто могли утащить её за собой или позвать на помощь.
А потом всё затихло. Вдруг стало ясно видно каждый миллиметр под водой. Она резко ушла в сторону, оглядываясь и не понимая, как можно было запутаться в этих водорослях, уму непостижимо.
«На берег!» – устремилась она вверх и уже почти выскочила из воды, но какая-то сила утянула ее обратно.
«Выбираться! На берег!» – не сдавалась она. Перед глазами в воде расплывалась клякса крови. Губа саднила.
И тут же новая неведомая сила выхватила её из объятий воды.
Счастливая, она и слова не могла сказать своим спасителям: двум рыбаками, дедушке с внучком. Слова словно бы застряли в горле, сжимая его. Потное липкое удушье, нестерпимо горячее солнце. Она теряла сознание, задыхаясь…
– Вот, – подытожил дед. – Об чём думать будешь, перед смертью, туда и попадёшь.
Мальчонка помолчал и спросил: