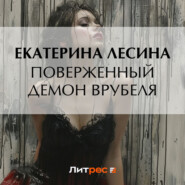По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крест мертвых богов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Признаться, и у меня подобные опасения возникли – уж больно несдержан был Федор Николаевич в речах, уж больно откровенно недолюбливал нынешнюю власть. Однако же обошлось. Единственно, согласно договоренности либо вследствие прямого приказа, но Харыгин распорядился перевести Никиту в отдельную комнату, и мне было велено, оставив прошлые обязанности, находиться при раненом неотлучно.
Я и находился.
Яна
– Это значит… Ян, ты не понимаешь… это значит, что его поса-а-адят, – Ташка завыла, и я испугалась, что голос ее, вырвавшись из трубки, разлетится по квартире. Данилу разбудит.
Данилу пороть надо, а не сон его золотой охранять. Хотя нет, пороть поздно. А что делать?
– Он… он вчера умер… и теперь выходит, что это не нападение… не хулиганство… убийство.
Слово кольнуло острыми углами. Убийство. Это когда кто-то кого-то за что-то лишает жизни. За что?
– За что мне это? – вторила Ташка. – Теперь все… адвокат не помо-о-о-жет. И выходит, что Данила…
Убийца. Мой племянник, которому не так давно исполнилось пятнадцать лет, бритоголовый мальчишка со слегка оттопыренными ушами и Ташкиными голубыми глазами, – убийца.
Скрипнула дверь, и пол, проседая под ногами, мягко предупредил о чьем-то приближении. Данила таки проснулся, стоит на пороге спальни, точно раздумывает, шагнуть ему в «общее» пространство или остаться на нейтральной территории своей комнаты. Я приложила палец к губам, Данила кивнул, отступил назад и тихо прикрыл за собой дверь.
– Ян, а что теперь делать-то? – спросила Ташка. – И… ты же видела, он хороший… он не убийца… не убийца он… просто получилось так.
Просто. Почему-то поначалу всегда все просто. У меня есть сестра. У сестры есть сын. Он – нацист и малолетний убийца. Он сидит на высоком стуле, сгорбившись от боли, и, обнимая кружку, шумно хлебает горячий чай. Опухоль с лица чуть спала, но зато синяки потемнели, набрякли чернотой, и оттого вид у Данилы жалкий.
Убийца… да господи, какой из него убийца?
– Мамка расстроилась, да? – спросил он, отставив кружку в сторону. На содранных костяшках пальцев крапинки засохшей крови. Ногти обгрызены.
– Да.
– Так мы ж не думали, что он… того… помрет… мы вообще не…
– Не думали, – я медленно заводилась. Какого дьявола он вообще в это национал-радикальное болото сунулся? Какого теперь сидит в моей квартире, пьет мой чай и нарушает спокойное течение моей не-жизни?!
– Он… он же не русский… по-нашему почти не говорит, а важный… при бабках… крутой типа… все можно… он наших баб снимал, за бабки снимал… и к Гейни подкатить хотел, а она послала… и мы… мы проучить, просто, чтобы место свое знал, а то если деньги есть, то все можно, да?
Все. Или почти все. Вопрос в Даниловых глазах почти упреком, ну, конечно, я ведь тоже не бедная, деньги есть… и позволить себе могу многое, так что же, меня избивать?
Данила вздохнул и потянулся за кружкой.
– Да мы не сильно его… ну в морду двинули… и по ребрам пару раз. Да он вообще сам ушел…
– А теперь сам умер. Взял и умер. Ну как, приятно осознавать, что человека убил? Или он не человек, если не русский? Одной сволочью меньше, так ты теперь радуешься, да? – Я не хотела этого говорить, мне вообще плевать на эти межнациональные проблемы. И на умершего, в общем, тоже плевать – я ведь его не знала.
Так почему же тогда не заткнусь?
Данила сполз с табуретки и молча ушел к себе, даже дверь прикрыл тихо, виновато, а на столешнице осталась кружка недопитого чая.
У чая явный привкус меди, и я снова плачу.
Данила
За эти два дня в пустой квартире он почти свихнулся. Поговорить не с кем – тетка уезжала рано утром, а возвращалась поздно вечером, хотя так даже лучше. С ней точно говорить не о чем, да и не захочет она. Тетка считает его убийцей. Странно, что вообще из дому не выгнала.
Лучше бы отправила домой, тогда бы он показал, что никого не боится и от суда бегать не станет. И вообще дома Гейни и Ярик, они ведь тоже были, значит, расскажут, как все было…
Данила пытался звонить, сначала Гейни, но та бросила трубку, потом – Ярику, этот вообще вне зоны доступа оказался, а Ратмир велел на ерунду не отвлекаться. Хотя какая ж это ерунда?
В пустой квартире даже думалось иначе – мысли множились, роились, отзываясь головной болью и гулом, который то нарастал, заполоняя все пространство, то скатывался до комариного писка. Наверное, следовало бы рассказать об этом тетке, чтобы она отвела Данилу к врачу, а тот выписал бы какой-нибудь укол, убивающий гул и боль. Но Данила молчал. Во-первых, еще в больницу положат, а ему звонить скоро надо и посылку отвезти. Во-вторых, Яна, сто пудов, ответит, что Данила сам виноват…
А сегодня гула почти не было, и боли тоже, так, скреблось что-то в висках, и все, зато на звонок ответили почти сразу, и адрес продиктовали, и сказали, как добраться.
Спросить следовало Ольгерда.
Данила еще раз повторил адрес и имя и, одевшись, вызвал такси. Нет, все-таки тетка странная, разговаривать – не разговаривает, а деньги оставляет. И ключи тоже.
Ехали долго, таксист молчал, только поглядывал косо, а Данила пытался прикинуть, хватит ли денег, чтобы назад вернуться, и что делать, если не хватит.
Хватило, и даже осталось прилично. Все-таки чем-чем, а скупостью тетка не страдает, вот только таксист ждать отказался. Ну да и черт с ним, с таксистом.
Данила прошелся по улице, просто чтоб осмотреться. Пусто, жарко, пыльно, дорога раскалилась так, что на асфальте остались следы протекторов, здорово воняло резиной и дымом, как будто где-то листья жгли. Хотя, может, и жгли – почти вплотную к дороге примыкали высоченные заборы, и рассмотреть, что творится за ними, не представлялось возможным. Номера домов, вычерченные на одинаковых белых табличках одинаковым же строгим шрифтом, смотрелись этакими специфичными украшениями, как и черные ящики домофонов.
Потоптавшись – отчего-то вдруг стало страшно, возникло желание бросить все и, выбравшись из этого странного места, вернуться в привычную пустоту теткиной квартиры, – Данила таки решился нажать на кнопку. И речь приготовил, только не понадобилась, ворота с тихим щелчком открылись.
Большую часть внутреннего пространства занимал дом, не самый крутой из тех, что доводилось видеть, но тоже кульный, этаж один, крыша блестит новенькой черепицей, окна распахнуты – стопудово стеклопакеты, навроде тех, что в теткиной хате стоят. В общем, не дом, а картинка. И двор почти картинка, никаких тебе грядок с морковкой-петрушкой, газон, редкие кусты, две слегка пожелтевшие от жары елки и вымощенная камнем дорожка к порогу.
А уже там, на пороге, перед самой дверью лежал доберман. Пока просто лежал, растянувшись в тени под крышей.
– Эй! Есть тут кто? Я – Данила! – Данила остановился у ворот, не решаясь ступить во двор. Да и кто б решился! С такими собаками не шутят. Словно желая подтвердить репутацию породы, доберман оскалился и зарычал, тихонько, предупреждая о возможных последствиях вторжения.
– Эй! – Данила прикинул, что выскочить на улицу по-любому успеет. – Это Данила! Мне Ольгерд нужен!
Наверное, орать не следовало, собака вскочила. Ну и тварь! С черной доберманьей морды капала слюна, розовый язык чуть вздрагивал от частого дыхания, а длинные клыки выглядели жутко.
– Принц, лежать! Свои. А ты заходи, он не тронет, – хозяин не соизволил выйти из дому, и Данила, ступая по дорожке, не сводил с собаки глаз. А та не сводила глаз с мальчишки. Желтых, с черными зрачками. Шкура у нее была черная, лоснящаяся то ли жиром, то ли потом (правда, собаки вроде не потеют), а купированные уши торчали навроде рогов.
Когда до дома осталось шага три, Принц вяло и как-то совсем не по-доберманьи плюхнулся на крыльцо и положил морду на вытянутые лапы.
– Х-хороший…
– Плохой, – ответил хозяин дома, открывая дверь. – Бракованный. На усыпление привезли. Значит, Данила? Заходи. Я – Ольгерд.
В доме было сумрачно и прохладно, как-то пыльно, будто долго-долго не убирали, и сразу хотелось чихнуть. Но Данила терпел – не хватало еще опозориться перед таким человеком. Ольгерд выглядел круто, даже круче Ратмира. Высокий, поджарый, темноволосый, он чем-то напоминал добермана. И глаза светло-карие, в желтизну, и зубы белые, блестящие, с чуть выпирающими вперед клыками, так что не понять, то ли улыбается, то ли скалится, предупреждая о том, что сейчас горло вырвет. Данилова рука сама потянулась к горлу.
– Не боись, своих не трогаю. На кухню топай, прямо по коридору и до упора. А я счаз. И не лапай там ничего.
Через распахнутое настежь окно тянуло дымом и сквозняком, скомканный газетный лист, скатившись с подоконника, упал на пол, присоединившись к таким же черно-бело-желтым комкам. Грязно тут. И неуютно. Желтые стены, местами повыгоревшие, точно подплесневевшие, плита, подпертая кирпичом, два стула и три странных стола.
– Че, никогда таких не видел? – Ольгерд возник за плечом до того неожиданно, что Данила вздрогнул. И тут же стало стыдно, подумаешь, подошли сзади, так чего трястись теперь.
Я и находился.
Яна
– Это значит… Ян, ты не понимаешь… это значит, что его поса-а-адят, – Ташка завыла, и я испугалась, что голос ее, вырвавшись из трубки, разлетится по квартире. Данилу разбудит.
Данилу пороть надо, а не сон его золотой охранять. Хотя нет, пороть поздно. А что делать?
– Он… он вчера умер… и теперь выходит, что это не нападение… не хулиганство… убийство.
Слово кольнуло острыми углами. Убийство. Это когда кто-то кого-то за что-то лишает жизни. За что?
– За что мне это? – вторила Ташка. – Теперь все… адвокат не помо-о-о-жет. И выходит, что Данила…
Убийца. Мой племянник, которому не так давно исполнилось пятнадцать лет, бритоголовый мальчишка со слегка оттопыренными ушами и Ташкиными голубыми глазами, – убийца.
Скрипнула дверь, и пол, проседая под ногами, мягко предупредил о чьем-то приближении. Данила таки проснулся, стоит на пороге спальни, точно раздумывает, шагнуть ему в «общее» пространство или остаться на нейтральной территории своей комнаты. Я приложила палец к губам, Данила кивнул, отступил назад и тихо прикрыл за собой дверь.
– Ян, а что теперь делать-то? – спросила Ташка. – И… ты же видела, он хороший… он не убийца… не убийца он… просто получилось так.
Просто. Почему-то поначалу всегда все просто. У меня есть сестра. У сестры есть сын. Он – нацист и малолетний убийца. Он сидит на высоком стуле, сгорбившись от боли, и, обнимая кружку, шумно хлебает горячий чай. Опухоль с лица чуть спала, но зато синяки потемнели, набрякли чернотой, и оттого вид у Данилы жалкий.
Убийца… да господи, какой из него убийца?
– Мамка расстроилась, да? – спросил он, отставив кружку в сторону. На содранных костяшках пальцев крапинки засохшей крови. Ногти обгрызены.
– Да.
– Так мы ж не думали, что он… того… помрет… мы вообще не…
– Не думали, – я медленно заводилась. Какого дьявола он вообще в это национал-радикальное болото сунулся? Какого теперь сидит в моей квартире, пьет мой чай и нарушает спокойное течение моей не-жизни?!
– Он… он же не русский… по-нашему почти не говорит, а важный… при бабках… крутой типа… все можно… он наших баб снимал, за бабки снимал… и к Гейни подкатить хотел, а она послала… и мы… мы проучить, просто, чтобы место свое знал, а то если деньги есть, то все можно, да?
Все. Или почти все. Вопрос в Даниловых глазах почти упреком, ну, конечно, я ведь тоже не бедная, деньги есть… и позволить себе могу многое, так что же, меня избивать?
Данила вздохнул и потянулся за кружкой.
– Да мы не сильно его… ну в морду двинули… и по ребрам пару раз. Да он вообще сам ушел…
– А теперь сам умер. Взял и умер. Ну как, приятно осознавать, что человека убил? Или он не человек, если не русский? Одной сволочью меньше, так ты теперь радуешься, да? – Я не хотела этого говорить, мне вообще плевать на эти межнациональные проблемы. И на умершего, в общем, тоже плевать – я ведь его не знала.
Так почему же тогда не заткнусь?
Данила сполз с табуретки и молча ушел к себе, даже дверь прикрыл тихо, виновато, а на столешнице осталась кружка недопитого чая.
У чая явный привкус меди, и я снова плачу.
Данила
За эти два дня в пустой квартире он почти свихнулся. Поговорить не с кем – тетка уезжала рано утром, а возвращалась поздно вечером, хотя так даже лучше. С ней точно говорить не о чем, да и не захочет она. Тетка считает его убийцей. Странно, что вообще из дому не выгнала.
Лучше бы отправила домой, тогда бы он показал, что никого не боится и от суда бегать не станет. И вообще дома Гейни и Ярик, они ведь тоже были, значит, расскажут, как все было…
Данила пытался звонить, сначала Гейни, но та бросила трубку, потом – Ярику, этот вообще вне зоны доступа оказался, а Ратмир велел на ерунду не отвлекаться. Хотя какая ж это ерунда?
В пустой квартире даже думалось иначе – мысли множились, роились, отзываясь головной болью и гулом, который то нарастал, заполоняя все пространство, то скатывался до комариного писка. Наверное, следовало бы рассказать об этом тетке, чтобы она отвела Данилу к врачу, а тот выписал бы какой-нибудь укол, убивающий гул и боль. Но Данила молчал. Во-первых, еще в больницу положат, а ему звонить скоро надо и посылку отвезти. Во-вторых, Яна, сто пудов, ответит, что Данила сам виноват…
А сегодня гула почти не было, и боли тоже, так, скреблось что-то в висках, и все, зато на звонок ответили почти сразу, и адрес продиктовали, и сказали, как добраться.
Спросить следовало Ольгерда.
Данила еще раз повторил адрес и имя и, одевшись, вызвал такси. Нет, все-таки тетка странная, разговаривать – не разговаривает, а деньги оставляет. И ключи тоже.
Ехали долго, таксист молчал, только поглядывал косо, а Данила пытался прикинуть, хватит ли денег, чтобы назад вернуться, и что делать, если не хватит.
Хватило, и даже осталось прилично. Все-таки чем-чем, а скупостью тетка не страдает, вот только таксист ждать отказался. Ну да и черт с ним, с таксистом.
Данила прошелся по улице, просто чтоб осмотреться. Пусто, жарко, пыльно, дорога раскалилась так, что на асфальте остались следы протекторов, здорово воняло резиной и дымом, как будто где-то листья жгли. Хотя, может, и жгли – почти вплотную к дороге примыкали высоченные заборы, и рассмотреть, что творится за ними, не представлялось возможным. Номера домов, вычерченные на одинаковых белых табличках одинаковым же строгим шрифтом, смотрелись этакими специфичными украшениями, как и черные ящики домофонов.
Потоптавшись – отчего-то вдруг стало страшно, возникло желание бросить все и, выбравшись из этого странного места, вернуться в привычную пустоту теткиной квартиры, – Данила таки решился нажать на кнопку. И речь приготовил, только не понадобилась, ворота с тихим щелчком открылись.
Большую часть внутреннего пространства занимал дом, не самый крутой из тех, что доводилось видеть, но тоже кульный, этаж один, крыша блестит новенькой черепицей, окна распахнуты – стопудово стеклопакеты, навроде тех, что в теткиной хате стоят. В общем, не дом, а картинка. И двор почти картинка, никаких тебе грядок с морковкой-петрушкой, газон, редкие кусты, две слегка пожелтевшие от жары елки и вымощенная камнем дорожка к порогу.
А уже там, на пороге, перед самой дверью лежал доберман. Пока просто лежал, растянувшись в тени под крышей.
– Эй! Есть тут кто? Я – Данила! – Данила остановился у ворот, не решаясь ступить во двор. Да и кто б решился! С такими собаками не шутят. Словно желая подтвердить репутацию породы, доберман оскалился и зарычал, тихонько, предупреждая о возможных последствиях вторжения.
– Эй! – Данила прикинул, что выскочить на улицу по-любому успеет. – Это Данила! Мне Ольгерд нужен!
Наверное, орать не следовало, собака вскочила. Ну и тварь! С черной доберманьей морды капала слюна, розовый язык чуть вздрагивал от частого дыхания, а длинные клыки выглядели жутко.
– Принц, лежать! Свои. А ты заходи, он не тронет, – хозяин не соизволил выйти из дому, и Данила, ступая по дорожке, не сводил с собаки глаз. А та не сводила глаз с мальчишки. Желтых, с черными зрачками. Шкура у нее была черная, лоснящаяся то ли жиром, то ли потом (правда, собаки вроде не потеют), а купированные уши торчали навроде рогов.
Когда до дома осталось шага три, Принц вяло и как-то совсем не по-доберманьи плюхнулся на крыльцо и положил морду на вытянутые лапы.
– Х-хороший…
– Плохой, – ответил хозяин дома, открывая дверь. – Бракованный. На усыпление привезли. Значит, Данила? Заходи. Я – Ольгерд.
В доме было сумрачно и прохладно, как-то пыльно, будто долго-долго не убирали, и сразу хотелось чихнуть. Но Данила терпел – не хватало еще опозориться перед таким человеком. Ольгерд выглядел круто, даже круче Ратмира. Высокий, поджарый, темноволосый, он чем-то напоминал добермана. И глаза светло-карие, в желтизну, и зубы белые, блестящие, с чуть выпирающими вперед клыками, так что не понять, то ли улыбается, то ли скалится, предупреждая о том, что сейчас горло вырвет. Данилова рука сама потянулась к горлу.
– Не боись, своих не трогаю. На кухню топай, прямо по коридору и до упора. А я счаз. И не лапай там ничего.
Через распахнутое настежь окно тянуло дымом и сквозняком, скомканный газетный лист, скатившись с подоконника, упал на пол, присоединившись к таким же черно-бело-желтым комкам. Грязно тут. И неуютно. Желтые стены, местами повыгоревшие, точно подплесневевшие, плита, подпертая кирпичом, два стула и три странных стола.
– Че, никогда таких не видел? – Ольгерд возник за плечом до того неожиданно, что Данила вздрогнул. И тут же стало стыдно, подумаешь, подошли сзади, так чего трястись теперь.