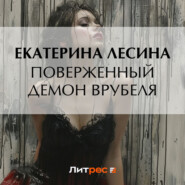По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Серп языческой богини
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Верни украденное.
Губы неподвижны. И голос звучит внутри.
– Если ты о камешках, то извини. Так получилось. У меня не было выхода…
– Врешь!
Ну да, бессмысленно врать собственной галлюцинации.
– И мне не нужны камни. Пусть себе… украденное верни. Видишь? – Ладони ее пусты. Два слюдяных цветка. – Его забрали.
– Кого?
– Серп.
– Серпа я точно не брал.
Бред становился крепче, выдержанней, что, в общем-то, для бреда типично.
– Ты – нет. Она – да. Заблудшее дитя.
– Разве у смерти бывают дети?
– Почему нет? Она… и ты. Раньше – больше. Сейчас – забыли. Но вы есть. Ты есть.
Ладони касаются лба, толкают, выталкивают из круга. Далматов падает в метель и катится по рыхлому легкому снегу. Долго. Бесконечно. А когда останавливается, то понимает, что ветер стих.
И дом рядом. Темная глыбина с белым дымом, что тянется из трубы, связывая землю и небеса. Далматов лежит на спине и смотрит в небо.
Прояснилось. Луна круглая, полная, хотя Далматов точно знает, что до полнолуния далеко. И звезды россыпью, хрустальные, словно осколки ледяной богини.
Ее не существует.
Громко хлопает дверь. Снег скрипит под ногами. И тень падает на лицо.
– Ты ранен? – спрашивает тень голосом Саломеи.
– Нет.
– Тебе плохо? Илья… ты меня пугаешь.
– А ты – меня.
Рывком сесть не получилось – напомнило о себе плечо. Больно. И холодно. И в ушах по-прежнему звенит. Наверное, он снова провалился. Бывает. Раньше ярость была, теперь – галлюцинации.
Саломея помогла подняться.
– Ты о чем думала, когда из дому уходила? – Злиться на нее сложно. А ведь собирался убить, тело спрятать и отправить книги памяти в архив. – Ты о чем, черт тебя побери, думала?!
На этот виноватый вид Далматов не поведется.
– П-прости. Пожалуйста.
И она сделала то, чего Илья никак не ожидал: обняла.
– П-пойдем… в тепло. Ты же ледяной весь.
– Ты не лучше.
– Я щеки обморозила. И руки тоже. Не сильно, но… кожа слазить станет. Так Зоя сказала. У нее новый комбинезон. Красный в кляксы. На осьминогов похожи. И еще сказала, что ты за мной пошел. Я ведь только во двор… продышаться. Там так душно было. А потом вдруг в лесу оказалась. И волка видела. Он меня к берегу вел. И Толик следом. Шел. Снимал. Он на психопата похож.
С этим Далматов согласился охотно. Но промолчал, опасаясь спугнуть момент.
– А на маяке пробой. И тело. Светловолосый такой парень. Его усадили на край и привязали цепью, чтобы не соскользнул. Толик сказал, что знает его. И тело вниз снес. Мы назад шли, когда буря началась. Я отстала… заблудилась. Думала, что все, но меня вывели к дому. Я решила, что это ты… а Зоя сказала – тебя нет. Ушел. И ветер.
– И ты следом?
– Конечно. А как по-другому?
Действительно, как?
Печь доедала остатки дров. Огонь расступался, позволяя уложить поленце на перину серого пепла, и мягко, нежно обволакивал белую древесину.
Раздавался хруст. Вспыхивала щепа. Раскалялась докрасна металлическая плита.
На завтра уже не хватит.
– А макароны вредны для фигуры, – заметила Зоя, сидевшая на столе. Она жевала тонкие хлебцы, смахивая крошки на пол. – Если только не из твердых сортов пшеницы.
Толик устроился в углу. Разобрав камеру, он натирал каждую деталь вельветовой тряпицей и был всецело увлечен процессом.
– И мясо очень вредно. Ты знаешь, что животные перед смертью выделяют негативную энергию и она передается вместе с мясом?
Хлебцы хрустели. Крошки летели.
Не отвлекаться, иначе будет взрыв.
Нельзя бить женщин, даже если очень хочется.
– От этой энергии тело стареет. Изнутри. И морщины появляются. А еще кожа становится желтой.
– Ты понимаешь, что здесь произошло убийство? – спросила Саломея. Она держалась в тени, словно опасаясь привлечь внимание.
Руки у нее и вправду красные, а ногти белые. Голос осип, глаза блестят подозрительно. Но она не чувствует себя больной. Химические чудеса, иллюзия здоровья.
Надолго ли ее хватит?
– Толик показывал. Клево. Я думаю, что теперь Толиково кино купят. Ну, оно же про настоящее. И я там. Я решила в Москву не ехать. В Лондон. Англичанки все уродины. А тут я… У меня с бритишем в школе нормуль было.
Губы неподвижны. И голос звучит внутри.
– Если ты о камешках, то извини. Так получилось. У меня не было выхода…
– Врешь!
Ну да, бессмысленно врать собственной галлюцинации.
– И мне не нужны камни. Пусть себе… украденное верни. Видишь? – Ладони ее пусты. Два слюдяных цветка. – Его забрали.
– Кого?
– Серп.
– Серпа я точно не брал.
Бред становился крепче, выдержанней, что, в общем-то, для бреда типично.
– Ты – нет. Она – да. Заблудшее дитя.
– Разве у смерти бывают дети?
– Почему нет? Она… и ты. Раньше – больше. Сейчас – забыли. Но вы есть. Ты есть.
Ладони касаются лба, толкают, выталкивают из круга. Далматов падает в метель и катится по рыхлому легкому снегу. Долго. Бесконечно. А когда останавливается, то понимает, что ветер стих.
И дом рядом. Темная глыбина с белым дымом, что тянется из трубы, связывая землю и небеса. Далматов лежит на спине и смотрит в небо.
Прояснилось. Луна круглая, полная, хотя Далматов точно знает, что до полнолуния далеко. И звезды россыпью, хрустальные, словно осколки ледяной богини.
Ее не существует.
Громко хлопает дверь. Снег скрипит под ногами. И тень падает на лицо.
– Ты ранен? – спрашивает тень голосом Саломеи.
– Нет.
– Тебе плохо? Илья… ты меня пугаешь.
– А ты – меня.
Рывком сесть не получилось – напомнило о себе плечо. Больно. И холодно. И в ушах по-прежнему звенит. Наверное, он снова провалился. Бывает. Раньше ярость была, теперь – галлюцинации.
Саломея помогла подняться.
– Ты о чем думала, когда из дому уходила? – Злиться на нее сложно. А ведь собирался убить, тело спрятать и отправить книги памяти в архив. – Ты о чем, черт тебя побери, думала?!
На этот виноватый вид Далматов не поведется.
– П-прости. Пожалуйста.
И она сделала то, чего Илья никак не ожидал: обняла.
– П-пойдем… в тепло. Ты же ледяной весь.
– Ты не лучше.
– Я щеки обморозила. И руки тоже. Не сильно, но… кожа слазить станет. Так Зоя сказала. У нее новый комбинезон. Красный в кляксы. На осьминогов похожи. И еще сказала, что ты за мной пошел. Я ведь только во двор… продышаться. Там так душно было. А потом вдруг в лесу оказалась. И волка видела. Он меня к берегу вел. И Толик следом. Шел. Снимал. Он на психопата похож.
С этим Далматов согласился охотно. Но промолчал, опасаясь спугнуть момент.
– А на маяке пробой. И тело. Светловолосый такой парень. Его усадили на край и привязали цепью, чтобы не соскользнул. Толик сказал, что знает его. И тело вниз снес. Мы назад шли, когда буря началась. Я отстала… заблудилась. Думала, что все, но меня вывели к дому. Я решила, что это ты… а Зоя сказала – тебя нет. Ушел. И ветер.
– И ты следом?
– Конечно. А как по-другому?
Действительно, как?
Печь доедала остатки дров. Огонь расступался, позволяя уложить поленце на перину серого пепла, и мягко, нежно обволакивал белую древесину.
Раздавался хруст. Вспыхивала щепа. Раскалялась докрасна металлическая плита.
На завтра уже не хватит.
– А макароны вредны для фигуры, – заметила Зоя, сидевшая на столе. Она жевала тонкие хлебцы, смахивая крошки на пол. – Если только не из твердых сортов пшеницы.
Толик устроился в углу. Разобрав камеру, он натирал каждую деталь вельветовой тряпицей и был всецело увлечен процессом.
– И мясо очень вредно. Ты знаешь, что животные перед смертью выделяют негативную энергию и она передается вместе с мясом?
Хлебцы хрустели. Крошки летели.
Не отвлекаться, иначе будет взрыв.
Нельзя бить женщин, даже если очень хочется.
– От этой энергии тело стареет. Изнутри. И морщины появляются. А еще кожа становится желтой.
– Ты понимаешь, что здесь произошло убийство? – спросила Саломея. Она держалась в тени, словно опасаясь привлечь внимание.
Руки у нее и вправду красные, а ногти белые. Голос осип, глаза блестят подозрительно. Но она не чувствует себя больной. Химические чудеса, иллюзия здоровья.
Надолго ли ее хватит?
– Толик показывал. Клево. Я думаю, что теперь Толиково кино купят. Ну, оно же про настоящее. И я там. Я решила в Москву не ехать. В Лондон. Англичанки все уродины. А тут я… У меня с бритишем в школе нормуль было.