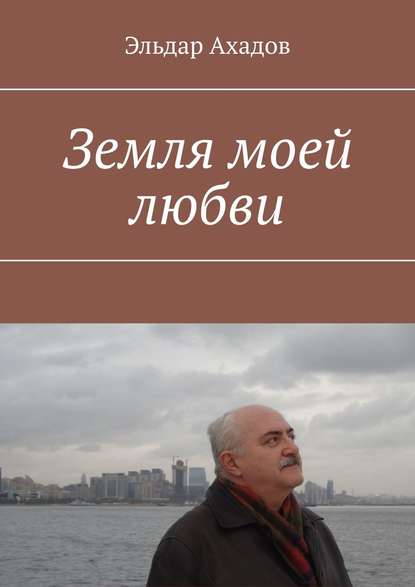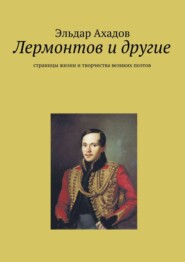По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля моей любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никто так не благодарит за внимание и, тем более, за финансовую поддержку (пусть даже самую мизерную, постыдно смехотворную!), как постаревшие родители. Много раз, повторяя слова благодарности, признательности и бесконечной любви к своему взрослому ребёнку. Она ходила на почту получать мой перевод. Ей дважды отказывали. Пожилой женщине, которая еле ходит. Наконец, получила. И тут же – столько благодарности мне, столько совершенно детского восторга, что у неё есть сын, что он ей помогает. Я слушаю маму, держа телефонную трубку, не смея прервать её или хоть что-то возразить этому нескончаемому потоку материнской благодарности, и мне так не по себе, так стыдно за всё перед ней. И в горле комок. И я молча рыдаю, потому что заплакать в голос ни в коем случае нельзя, голос не должен дрожать – услышит. Вот ничего не расслышит, а слёзы – мгновенно. А это – никак нельзя, это категорически запрещено: у неё больное сердце. Я не знаю, на какой тоненькой ниточке оно висит сейчас…
Мама, мамочка, не ты, а я должен благодарить тебя бесконечно, я должен стоять перед тобой на коленях и просить прощения за то, что не могу сейчас же немедленно ни приехать, ни обнять тебя, родная моя мама…
Прости меня, мама. Я знаю, что ты простишь. Ты всегда и всё прощаешь. Ты любишь всегда – любого, каким бы я ни был… Ты – мама. Ты у меня одна
Однажды ночью…
Это было такой же январской ночью с 19-го на 20-е в 1990 году. По проспекту ехал старенький автобус, в котором возвращались с завода домой рабочие после смены. На переднем сидении рядом с отцом находилась девочка-школьница, упросившая его взять её с собой на работу. И вдруг впереди по курсу движения автобуса возник бронетранспортер. Прозвучала пулеметная очередь. Пуля попала ребёнку в сердце. Ещё не осознав происшедшего, отец подхватил мертвую девочку на руки и вынес её из расстрелянной машины. Вторая очередь из пулемета пришлась уже по нему… Девочку звали Лариса.
По пригородной автотрассе двигалась колонна бронетехники. На обочине, пропуская колонну, стояли «Жигули». За рулем сидела женщина. Было светло, потому что было утро. Внезапно одна из боевых машин свернула с дороги, аккуратно переехала через «Жигули» и, возвратившись на дорогу, продолжила движение в колонне. Женщиной, которая находилась в машине и спешила на работу в то утро, была доктор химических наук, профессор Светлана Мамедова, первая женщина-ученый, получившая степень доктора наук в области высокомолекулярных соединений.
Броневая колонна шла по улицам города. Из неё продолжали раздаваться пулеметные очереди, просто так – по окнам роддома, по детской больнице, по жилым домам… На полу одной из квартир лежала бездыханная семнадцатилетняя девушка. Её звали Верочка Бессантина, пуля попала ей в голову. По дороге к поселку из города по вызову ехала машина «Скорой помощи». В ней торопился к больным молодой дежурный врач… Солдаты расстреляли и машину, и врача, находившегося в ней. Его звали Александр Мархевка. Никто из больных никогда уже его не увидит, но всё-таки он сделал для них всё, что мог тогда: отдал свою жизнь.
На тротуаре городской улицы стоял слепой старик, случайно потерявший свою палку. Мимо проезжала военная колонна. Один из солдат спрыгнул с БТРа, подошел к старику, ударом приклада свалил его на асфальт, вторым ударом при помощи штык-ножа добил слепого и вернулся назад, на броню. Колонна двигалась дальше.
Я видел много фотографий. И на каждой из них было множество расстрелянных и раздавленных танками тел: в морге, а больше – просто на городском асфальте. Среди них были взрослые и дети, мужчины и женщины, подростки и старики. Все они умерли в ту ночь или наутро. Помню фотографию подростка без ног, которые по-видимому остались под гусеницами. Но он умер не от этого, нет. За ухом у него я разглядел аккуратное пулевое отверстие. Значит, стреляли в упор. Значит, раненых добивали.
Я помню (через целый месяц после этих событий, уже в конце февраля!), как удивили меня странные ржаво-коричневые потеки вдоль тротуарного бордюра в районе площади, которую с тех пор называют в народе Кровавой. Потом я узнал, что это высохшая кровь – ещё с той ночи. Сколько же её было пролито, если вдоль проезжей части нескольких городских улиц текли к морю кровавые ручьи от тел, расплющенных танковыми траками? Говорят, чтобы скрыть количество убитых, трупы топили в море… Тысячи людей пропали без вести навсегда, сотни – похоронены в бывшем парке культуры и отдыха, превратившемся с той поры в кладбище.
Город, где всё это однажды случилось, называется Баку. А человек, приказавший сделать всё это, называется Михаил Горбачев. Немцы его любят.
Три поросёнка
Если вы спросите меня: случилась ли вся эта история на самом деле, я вам не отвечу. Может быть, именно так все и было. А, может быть, и не совсем так. А, может быть, и совсем не так. Ведь каждый помнит по своему и свое. Но то, что мой рассказ родился не на пустом месте – наверное, очевидно каждому.
Давным-давно в одном южном городе Советского Союза жил-был очень дружный школьный класс. Восьмой «в». Ровно сорок человек – мальчиков и девочек. Они знали друг друга и друг о друге все или почти все, потому что почти все учились вместе с первого класса да и жили рядом со школой. Помимо уроков многие участвовали в школьном хоре, играли в гандбол в одной команде, маршировали строем в военной игре «Зарница», собирали металлолом и макулатуру, как примерные пионеры. И с уроков на «шаталу» в кино сбегали тоже все вместе. Никто не отставал.
Так было до восьмого класса, так же происходило и в восьмом. Школа являлась обычной десятилеткой, в которую приходили в семь лет. То есть, каждому из одноклассников в ту пору было примерно 15. Изменилось в восьмом только одно: в школе появился новый учитель математики. Молодой. Интеллигентный. Выпускник университета. Атлетически сложенный. В роговых очках. С неисчерпаемым багажом знаний буквально обо всем. Умеющий рассказывать так увлекательно, как не способен был никто из педагогов. Харизматичная личность, как сказали бы сейчас, но тогда таких слов не знали. Половина старшеклассниц школы тут же влюбилась в него, а мальчишки слушали его на уроках так, как слушают мудрого гуру где-нибудь в Тибете. Юрий Гаврилович. Он свободно владел французским, немецким, итальянским и английским языками. Прекрасно разбирался в истории, географии и литературе. Знал наизусть массу стихов в оригинале и переводах. Некоторое время спустя вокруг него образовалось нечто вроде общества любителей всех гуманитарных дисциплин. И, поскольку на все это школьного времени никак не хватало, Юрий Гаврилович стал приглашать наиболее увлеченных учеников к себе домой. Разумеется, с разрешения их родителей. Таких ребят оказалось трое. Все – мальчики с одного класса – восьмого «в».
Дома его рассказы были такими же интересными, как и в школе, но более специфичными. Он рассказывал детям о Великой французской революции, о ее деятелях – Марате, Дантоне, Робеспьере. Прекрасно декламировал стихи о революции, о свободе, равенстве и братстве. Мальчикам запомнилось, как однажды он поставил для них пластинку с «Марсельезой» и подхватил эту песню на французском вместе с голосом певца. Учитель с искренним возмущением и скорбью говорил о том, как высокие идеалы революции со временем подмениваются обывательщиной населения и фарисейством руководства на всех уровнях власти. Ребята слушали его, затаив дыхание.
Уходили мальчишки домой вместе. По дороге и позднее в классе, а по выходным – встретившись во дворах возле школы, они горячо обсуждали услышанное от молодого учителя, уже сами находя примеры вранья взрослых, замеченные ими самими, подхалимства и взяточничества, услышанными от родителей, обсуждавших дома на кухнях то, что нередко случалось у каждого из них на работе или в быту. Но если в семьях все заканчивалось обычными «кухонными» разговорами, то для их юных романтически настроенных головушек этого казалось совершенно недостаточно. Им хотелось каким-то образом выразить свой протест так, чтобы все вокруг поняли: не все согласны с подобным положением, существует реальное сопротивление всеобщему злу, каждый имеет право на свои убеждения. Короче: «Да здравствует свобода!»
Как раз в это время город готовился к приезду первого лица государства – генерального секретаря ЦК КПСС, увешавшего себя в тот период уже тремя звездами Героя всего-всего наигероического. Огромные портреты Брежнева с тремя звездами на груди были размещены местным руководством по всему городу, в том числе и по предполагаемому пути следования правительственного кортежа.
В горячих юных головах созрел дерзкий и детски наивный план, которым они поделились со своим идейным «вождем» – Юрием Гавриловичем. Тот восхитился дерзостью и простотой плана, но предостерег ребят от реальных действий, из-за которых у них могут быть неприятности. И тут подростки впервые возразили ему, так им стало обидно отказываться от задуманного. Возник спор, который, впрочем, никого не переубедил. И ребята ушли, поскольку приезд генсека ожидался на следующий день, и, если действовать, то действовать нужно было именно в эту ночь… Мальчишки подготовили целую пачку листовок формата А4 для расклейки по городу. Слова на листовках были написаны от руки – «Да здравствует Свобода!» Листовки ночью были расклеены. Но главным было не это. «Изюминку» протеста жители города заметили, когда рассвело. На одном из самых крупных плакатов с изображением генсека, расположенном на автотрассе, по которой ожидался проезд высокого гостя, на месте трех золотых звезд Героя красовались фигуры трех грязных поросят… КГБ принялось за работу. Конечно, генсек ничего такого не увидел. Во-первых, потому что прибыл на сутки позже. Во-вторых, плакат довольно быстро заменили, но жители города все-таки успели им «полюбоваться» и веселились от души. Часам к одиннадцати утра в школу, где училась тройка свободолюбивых подростков, прибыли сотрудники госбезопасности. Они знали все. Бледная от страха, трясущаяся директриса Ида Львовна немедленно собрала всех педагогов школы и в присутствии кгбистов с их разрешения рассказала им о случившейся истории, позорящей всю школу, после чего слезно попросила работников карающих органов дать школе последний шанс продемонстрировать глубокую сознательность своих учеников, их приверженность принципам социализма и коммунизма, и… так далее, и тому подобное. План директрисы был и суров, и прост, и по ее мнению, справедлив… Госбезопасники в целях воспитания в детях приверженности к социалистическим ценностям любезно согласились подождать конца придуманного Идушкой Львовной «спектакля».
Вскоре весь восьмой «в» был выстроен во внутреннем школьном дворе, закрытом от сторонних глаз с трех сторон (с четвертой двор закрывала высокая тенистая изгородь). Ребят и девчат расставили по восемь человек в пять рядов так, чтобы между каждым из них было расстояние примерно в один метр. Директриса приказала детям стоять по стойке «смирно», как такое бывало (правда, в общем строю, не раздельно) на тренировках к строевому маршу в «Зарнице», до тех пор пока кто-нибудь из них не сообщит имена трех «бунтовщиков» и учителя, который их вдохновил на «позор всей школе». Она не посмела даже сообщить классу о том, что же произошло прошлой ночью, но была уверена, что кто-то из детей об этом непременно уже знает. Она не ошибалась в этом. Если не все, то многие знали. Она ошиблась в другом… Прошло полчаса, миновал час. Никто из детей не пошевелился и не издал ни звука. Наконец, одна из девочек потеряла сознание. Ее унесли. Завуч Екатерина Теодоровна с грубым солдафонским голосом и мужскими кулачищами продолжала следить за остальными. Прошло четыре часа. Продолжавших стоять на школьном дворе осталось на ногах меньше половины, когда кгбистам надоел «весь этот театр» и они молча забрали с собой «бунтовщиков»… Никто из троих мальчиков не выдал учителя. Класс расформировали. Детей разместили по другим школам. С родителей юных «бунтарей» взяли подписки об ответственности за поведение и воспитание и, разумеется, о неразглашении. Дети, все трое, были несовершеннолетними, иначе им их поведение обошлось бы гораздо дороже. Юрий Гаврилович за всей экзекуцией над восьмым «в» классом наблюдал во окно, поглядывая из-за занавесочки.
Он сильно переживал, но не смог заставить себя выйти к своим воспитанникам, поскольку его мучила совесть: это он предал их и написал донос в КГБ вечером после ухода детей. Потому их сразу и «нашли». В своем предательстве учитель признался мне позже. Гораздо позже. Через много-много лет… в письме. Издалека. Наверное, ему от этого стало легче. А у меня перед глазами до сих пор та ужасная и в то же время потрясающая картина: дети, одиноко стоящие на плацу, не выдавшие никого. Их родители были разных наций, ныне нередко враждующих между собой, разных вероисповеданий, разного социального уровня: обеспеченные и не очень, рабочие и врачи, музыканты и вчерашние сельские жители… Всем им низкий до земли поклон, они правильно воспитали детей: никого нельзя предавать. Даже если очень страшно.
Друзья
Когда-то, уже давным-давно, жили в Баку два товарища, два ровесника: Ильяс и Гурген. Ильяс был деревенским азербайджанцем из старинного села на берегу реки Куры, а Гурген – родился жителем города, в котором и вырос. После окончания школы Ильяс приехал в Баку и поступил в институт одновременно с Гургеном.
Очень они разные были. Ильяс – молчаливый, сосредоточенный, слова лишнего не вытянешь, говорит тихо, а Гурген – шумный, громкоголосый, юморной, без шутки минуты не проживёт. Но сдружились они как-то сразу, с первого дня, пока экзамены вступительные сдавали. Именно Гурген был первым, кто показал Ильясу самые красивые места приморского города, который знал с детства, что называется «с закрытыми глазами». И в общежитие их поселили в одну комнату.
Отец Гургена был военным, его семья жила в служебной квартире. В тот год, когда Гурген окончил школу, его отец получил направление в другой город. И семья переехала, а Гурген прописался у бабушки в Кировабаде, нынешней Гяндже, вернулся в Баку, поступил в институт, получил место в общежитии и так остался в Баку.
На студенческую стипендию особо не пошикуешь, жили скромно, всем, что есть, делились друг с другом: и хлебом, и нитками, если что-то подшить надо было. И с девушками вместе знакомились, и женились почти одновременно. И квартиры от завода в один год получали. И дети у них почти одновременно на свет появились: у Ильяса – сын, у Гургена – дочка. Потом у Ильяса – опять сын. У Гургена – опять дочка. И в третий раз – то же самое.
Приходит Гурген с женой в гости к Ильясу, просит того на гитаре сыграть, тряхнуть студенческой юностью. Ильяс поручает своей жене принести ему ту самую гитару и играет, а Гурген поёт, громко поёт, совсем неправильно, но зато жизнерадостно: «Мы с тобой два берега у одной реки-и-и!». И все смеются, понимая, что пусть и неправильно, но ведь от всей души. Потом, уже без гитары, за столом с чаем и сладостями пели поочерёдно оба. То Ильяс – на азербайджанском напевал «Сары гялин», то Гурген – по-армянски «Ов, сирун, сирун». И ещё, и ещё песни вспоминали. Подолгу сидели.
Приходит Ильяс в гости к Гургену, просит того шахматы достать. Гурген достаёт шахматную коробку, они расставляют фигуры и начинают партию. А жена Гургена тут же приносит шахматистам ароматный чай в стаканах-армуды. И, обязательно, – сахарницу с кусочками наколотого щипцами крепкого сахара. Ильяс долго думает над каждым ходом, у Гургена терпения не хватает, он делает ошибку, потом вторую и, наконец, сдаётся, шумно, но как-то по-доброму, возмущаясь медлительностью соперника. А тот, довольный такой, смеётся в ответ. Потом они начинают обсуждать нюансы всесоюзного чемпионата по футболу. Один – болеет за «Нефтяник», другой за «Арарат», но за сборную переживают и болеют оба одинаково…
Прошли годы. Наступили странные тяжкие времена. В городе стало тревожно. Появились беженцы из дальних горных азербайджанских деревень – голодные, жалкие, бесприютные, с детьми, одетые кое-как, некоторые – со следами побоев. Вскоре начались погромы городских армян. Пролилась невинная кровь. Всюду чувствовалось незримое присутствие смерти.
Однажды поздно ночью в квартиру Ильяса кто-то тихо, но настойчиво постучал. «Странно», – насторожился Ильяс, – Звонок же работает. Почему стучат? И почему так тихо?» Жена проснулась и встала, чтобы открыть дверь, но Ильяс решил сделать это сам. За дверью стоял Гурген, бледный, как полотно. За его спиной виднелись его плачущая жена в ночной сорочке и наспех накинутой шерстяной шали и три испуганные дочки. Гурген и Ильяс посмотрели друг другу в глаза. Обоим всё было ясно. Ильяс знаком пригласил несчастных в дом. Следующие два месяца пятеро армян жили в семье Ильяса. На улицу не выходили. Жена Ильяса готовила им еду вместе с женой Гургена. Ильяс делился с ним всем, что было в доме, так же как они оба делали это в юности, когда жили в общаге.
Эта история закончилась вроде бы благополучно. Гурген и его семья не пострадали, окольными путями им удалось выехать в Ереван. Но Гурген был бакинцем до мозга костей и не смог привыкнуть к новым местам обитания, он очень изменился, перестал шутить, начал часто и серьёзно болеть, и, однажды, не проснулся: может, вспомнил во сне свой Баку и… сердце остановилось.
Когда Ильясу сообщили об этом, он молча вышел на балкон, закрыл за собой дверь и не выходил несколько часов. Плакал ли он там в одиночестве или просто не мог говорить, об этом никто теперь не узнает. Нет больше Ильяса. Он ушёл вслед за своим другом туда, где уже никто и ничто не помешает их вечной дружбе и любви к той мирной добродушной жизни, о которой когда-то пели они оба на своих родных языках.
Джафар
Пару дней назад утром я проснулся с ощущением голоса, который умолк только что. Это был голос моего друга Джафара. И я вспомнил сон: он говорил и улыбался мне так, словно мы расстались только что на вечерней бакинской улице Ага-Нейматулла. Словно не прошло десятков лет с той поры. Словно он всё ещё жив… «Эльдар! Приходи, я со скучился по тебе…»
И оба промелькнувших затем дня меня преследовали его мелодии, они звучали, как воспоминания незатихающие ни на миг. Я не помнил точно, где находится кладбище, потому просил отвезти меня туда с кем-нибудь из местной моей родни, чтобы положить цветы на могилу. Они поначалу отмахивались: «Да, не забивай себе голову! У тебя же завтра день рождения! Радуйся, веселись!» Но, поскольку я продолжал настаивать, все же отправили со мной мужа сестры, а по дороге к нам присоединились ещё двое общих знакомых его и моих.
Я купил по дороге охапку алых, как кровь, гвоздик. Возле кладбища. Но оказалось, что это не то кладбище. То было не на горе, а ниже, под горой. И его могила была крайней среди небольшого количества иных могил. Не мог вспомнить точно где… Приятели наши взялись нас довезти и уверенно подсказывали куда ехать. Дорога становилась всё глуше. Асфальт кончился. Начались загородные дачи – одна шикарнее другой. Наконец, братья-приятели радостно указали: вон, там, вдали, на почти отвесном склоне горы! Нет. Это было не то место. Вернулись назад. Нашли хорошую новенькую дорогу, которая завершилась… великолепным зданием местного ГИБДД. Оно чем-то напоминало крымский замок «Ласточкино гнездо». На отвесном склоне. В растерянности я подошел к краю обрыва. Здесь же была раньше дорога на кладбище! Неужели её срыли? Так и есть… Вот оно – далеко внизу, еле видно. А невдалеке ниточка железной дороги. Но отсюда туда теперь не попасть. Вскоре обнаружили дорогу вдоль горы. Однако, сразу за её краем неведомо откуда потянулся новенький забор из колючей проволоки, а на расстоянии видимости вдоль забора вытянулись в ряд абсолютно новенькие дозорные вышки, похожие на застекленные скворечники.
Проезд запрещен! Проезд запрещен! Запрещено! Ничего не могу понять. Что такое? Зачем? Почему? Откуда столько колючей проволоки?
Бедный Джафар! Как же к тебе проехать теперь? Оставался последний вариант: совсем с другой, дальней от города стороны – вдоль моря. С огромными трудностями, по всяким проезжим разбитым дорогам, по нескольку раз ошибаясь в направлении, постоянно натыкаясь на колючую проволоку, заборы и часовых, мы все-таки пробились к кладбищу.
С черного могильного камня мне улыбался Джафар – точно такой, каким видел его во сне. А на покрытой пылью плите всё ещё можно разглядеть выбитые слова, которые я посвятил когда-то его памяти…
«Хранит отныне призрачная даль,
Где – только небо в радугах и звёздах,
Твоей улыбки мягкую печаль,
Твоих мелодий предрассветный воздух…
В них плещет море, что у самых ног,
И ходит эхо звонкими волнами,
И пляшет ветер, и поёт песок
О том, кто был и вечно будет с нами.»
И тут я обратил внимание на даты, начертанные под его портретом: «1955 – 2002». Ему было сорок семь лет тогда, когда он ушел!.. А дату его смерти я знал и так: 19 июля.
Сегодня, 19 июля, мне исполняется ровно сорок семь лет. Спасибо, Джафарик, что не забыл обо мне и на том свете. Спасибо, родной. Даже если эти нелюди закатают всё твое кладбище в асфальт, даже если от места не останется ничего… Мы тебя помним. Всегда. Понимаешь? Всегда!
Обнимаю.