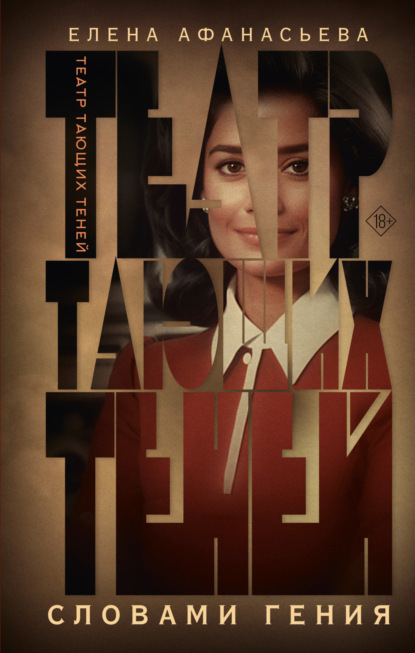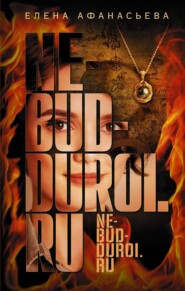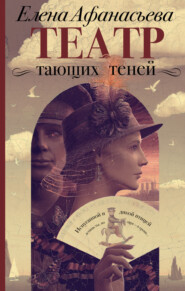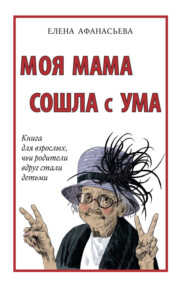По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Театр тающих теней. Словами гения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В один из дней проиграли он и маленький Раби. Стали друг за другом, изображая слона или лошадь. Один из старших, Мигел, – толстый, сопливый, ярко-розовый – белая кожа сгорала на местном солнцепеке, – забрался на них и ногами сжал его ребра и хлестанул по воздуху плеткой.
– Поехали! Хой-хой!
Позвоночник, показалось, проломится от тяжести толстого Мигела и ребра все разом треснут – так ездок сдавливал их ногами.
Пот заливал глаза. Ноги подкашивались. И страшнее, чем тяжесть толстого и тычки его вонючих ног по бокам, были его крики: «Вперед, гои! Вперед!» Это значило, что из-за передавшейся ему от матери смугловатой кожи его причисляли к местным, к людям низшей расы. А это было постыднее, чем катать белого толстяка на себе.
– Хой! Хой! Еще круг!
Казимируш почти не слышал окриков и свиста разрезающей воздух плетки. Пару раз, когда плетка, делая свой замысловатый финт в воздухе, отскакивала назад, толстый Мигел попал ему по ногам. Обожгло чуть выше колен, но со сдавленными боками он едва мог дышать и ожогов от плетки не заметил.
Пожалел, что встал вторым, – весь вес пришелся на его спину, а Раби оставалось рулить. И только когда толстый Мигел под общие вопли и крики наконец-то слез с них, Раби рухнул на сухую бурую землю, увлекая его за собой – его онемевшие пальцы никак не хотели разжиматься и отпустить тощий живот первого возчика, – Казимиру понял, что он счастливчик.
Он лежал мокрый, грязный, но целый. Горящие от двух ударов плеткой ляжки и сломанные, как выяснится много лет спустя, ребра были не в счет по сравнению с тем коричнево-алым месивом, которое представляло собой тощенькое тело Раби.
Мальчик корчился на сухой земле. Густая коричневая пыль смешивалась с алой кровью и коричневатой кожей Раби. Пока Казимируш шел вторым, злясь, что принял на себя весь вес толстого, Раби достались все удары плеткой. Вошедший в раж, подзадориваемый другими мальчишками ездок что есть силы лупил его по бокам.
Кровь проступала сквозь рубаху. Корчившийся Раби шептал, что в таком виде домой нельзя, за испачканную новую рубашку мать будет ругать. Они долго сидели в грязноватом арыке, пытаясь смыть кровь с рубахи, снять которую у Раби не было сил.
Через четыре дня Раби умер. Колониальный доктор, пришедший в дом бедняги, сказал, что в раны попала инфекция из воды, что вызвало заражение крови. Откуда взялись следы плети на боках мальчишки, никто ответить не мог.
След от плети на его собственной ляжке поболел две недели и зажил. Дышать нормально он смог еще через месяц-другой, что три его ребра были когда-то сломаны, гарнизонный врач определит только при приеме на службу в семнадцать лет. Но он был жив. И точно знал, что больше никогда не позволит никому кричать на себя: «Вперед, гой!»
Он сам будет так кричать!
Оружие у отца было. Табельное. Но с ним Жозе Монтейру каждое утро уходил на службу. Стащить пистолет не представлялось возможным, как Казимируш ни ломал голову.
Спросил у отца, только ли странный портрет остался от предка с картины. Отец достал из скрипящего шкафа кремниевый мушкет, тот самый, что изображен на портрете, патронную сумку, показал, как заряжается мушкет – как ставится курок на предохранитель, засыпается в ствол порох, как шомполом протыкается в ствол завернутая в тряпку пуля, ставится огниво на полку и курок на боевой взвод. И даже показал, как прицеливаться. Только выстрелить не дал, забрал оружие из рук ребенка, все разобрал и вернул на место, в шкаф.
Ложась в кровать после обязательной молитвы и последнего на день материного «Аминь!», Казимиру приказал себе проснуться ночью. Проснулся. Пробрался к шкафу. И – снова ему везло – полная луна освещала комнату. Но скрипящий шкаф не дал себя тихо открыть. По ночному дому звук скрипа разнесся гулким эхом. В спальне родителей зажглась лампада.
Едва успел метнуться в свою комнату и упасть в кровать, как раздались шаги – мать шла проверять, все ли с ребенком в порядке. Он лежал не шевелясь, и только сердце после такого рывка колотилось такими громкими ударами, что выдавало неспящего. Тогда он мысленно приказал сердцу остановиться. Сердце не послушалось. Мать уже наклонялась к нему. Еще раз приказал, и… Стук сердца стих. Полная тишина.
– С сыном все в порядке. Что у тебя? – выходя от него, шептала мать отцу, проверявшему другие комнаты.
– Все тихо. Дерево рассохлось, дверца шкафа открылась и не закрывается. Нужно краснодеревщика позвать. Пусть до утра так стоит.
Родители ушли. Скрипящая дверь шкафа осталась открытой. Путь к пистолету был теперь свободен. Оставалось только дождаться, пока они уснут, и снова пробраться к шкафу.
Так он еще раз понял, что он счастливчик! И обрадовался так, что стал задыхаться, пока не вспомнил, что забыл разрешить сердцу биться. Сердце молчало, кровь перестала пульсировать. Успел опомниться и приказал сердцу стучать. Первые два удара сердце сделало еле слышно, будто не веря, что уже можно. Потом рвануло боем барабана на местном празднике. От каждого удара кровь устраивала внутри него бешеную пляску и, попав, наконец, в мозг, переворачивала все вокруг.
Лучше этого он ничего еще не чувствовал.
Позже, когда старшие в первый раз дали покурить анаши, понял, что все это мелочи по сравнению с тем, что он умеет делать с собой сам – останавливать и запускать сердце, вызывая состояние попадания в мозг чего-то лучшего, чем анаша или кокаин.
Утром за четвертым домом он не боялся уже никого. Мушкет предка за пазухой давал невиданную власть над теми, кто накануне обзывал его гоем и сжимал коленками бока.
Он смотрел в глаза. Сплевывал сквозь зубы. Блефовал. Делал все, что вчера казалось невозможным. И чувствовал в себе дикую буйную силу всевластья. И только тот толстый Мигел, что давил его бока и хлестал Раби, снова буркнул: «Твоя очередь, гой!», как он молча вытащил из сумки старый мушкет. Уже заряженный в точности как показывал ему отец. И пальнул.
Грохот выстрела, визг мальчишек, дым, запах пороха и след на щеке толстого – все смешалось в единое упоение собственным всесилием! Старый кремневый мушкет в руках неопытного мальчишки палил совсем не туда, куда он целился, пуля попала в дерево, под которым стоял толстый Мигел, и отлетевшая щепа оцарапала тому щеку.
Второй раз сразу пальнуть он не мог – нужно было заново набивать порох, шомполом проталкивать пулю, – но это и не потребовалось. Те, кто вчера его унижал, сейчас разбегались врассыпную и, высунув головы из-за деревьев, смотрели испуганно и уважительно. А потом, как завороженные, возвращались, посмотреть на диковинное оружие в его руках.
Гоем его больше не называл никто. Теперь он сам, ткнув бесполезным, но пугающим мушкетом в сторону местных гоанских мальчишек, прикрикнул:
– Чего застыли, гои! Кто за вас будет играть?!
Дальше он выиграл у перепуганных мальчишек с дрожащими руками несколько монет. И понял, что значит оружие за пазухой.
Больше он не боялся идти за четвертый дом.
Напротив, шел с той пряной радостью, какую ощутил однажды, быстро допив виски из стакана отцовского гостя, пока отец пошел провожать сослуживца. Глоток обжег все внутренности, нёбо загорелось. Потом загорелось горло и весь путь горящего глотка до самого желудка. Живот скрутило так, что он аж присел. Но потом пришла первая пьяная радость, а с ней ощущение всемогущества.
Деньги и старый мушкет давали такое же пьяное ощущение дикой силы.
Пробираясь ночью ко все еще не закрытому шкафу положить оружие на место, пока не хватился отец, он услышал странный шум из родительской спальни. Мать стонала. Хотел было тихо вернуться к себе и лечь в постель, но испугался, что мать заболела и умрет, как умерла на прошлой неделе от инфекции мать одного из игравших с ними в ножички гоанских мальчишек.
Подошел к родительской спальне. Дверь была не плотно закрыта. В зеркале у двери отражалась полная луна, освещавшая комнату, и кровать, на которой на спине лежала мать. Коричневые груди разъехались в разные стороны, и правая, которая была ему видна, потряхивалась в такт непонятных толчков, подпрыгивая и снова со странным звуком хлопка плюхаясь на материнский живот. Грудь скакала в ее странной пляске, мать стонала, извиваясь, задирала ногу, пытаясь схватить ее рукой и притянуть к голове.
Подумал, что родители его увидят, надо отсюда уйти. Но уйти не мог. Замер в странном оцепенении, не отводя взгляда от отражений в зеркале. Только молотки в голове в такт с движениями в зеркале стучали – бух-бух, и напряжение внизу живота выдалось вперед.
Коричневая грудь с почти черным соском, коричневая ладонь в нелепом напряжении, удерживающая коричневую лодыжку с беловатой ступней. Странный пряный запах пота и еще чего-то, ему доселе незнакомого. Как в плясках местных жителей на их празднике – неприятный, но затягивающий ритм, которому не хочешь поддаваться, но ноги уже отстукивают в такт. Все напряженнее ладонь, сжимающая нелепо задранную ногу. Материнские стоны. Все чаще и чаще. Все громче и громче. Яростный крик отца.
И все.
Картинка в зеркале исчезла. Лежавшие на кровати сдвинулись в другую, не отраженную в зеркале сторону.
И только он остался стоять с торчащими трусами, и еще несколько минут не мог сдвинуться с места, пока его что-то в трусах не уменьшилось в размерах, не повисло. тогда он смог снова сделать шаг.
– Твой отец ебал твою коричневую мать, – всезнающий толстяк Мигел после следа на щеке относился к нему как к равному. – А у тебя встал!
Казимиру еще не знал, что такое «ебал» и что такое «встал», но про себя отметил, что гоем толстяк его больше не называл. А за коричневую кожу матери бежать за пистолетом не хотелось – он уже был на стороне сильных. Напротив, хотелось возненавидеть эту дрыгающуюся на кровати мать, за ее мутные, как у всех местных, глаза, за ее коричневые, плюхающиеся по бокам груди. За те стоны. За то, что у него встал и он не мог пошевелиться. И за то, что теперь очень хотелось, чтобы у него встал еще.
Что мир делится на высшую расу – португальцев с континента и на местных – второсортных жителей португальской Индии, он понял быстро. Мучительное собственное пребывание между сортами давило. Он законный сын португальского офицера, но черты материнской расы, с взрослением все сильнее проступающие в его лице, бесили, заставляли ненавидеть собственное отражение в зеркале.
Каждый раз, проснувшись, он подсознательно старался прошмыгнуть мимо зеркала. Шел к завтраку с нечищеными зубами – в ванной зеркала над раковиной было не миновать. Мать устраивала скандалы, обвиняя его в нечистоплотности, а он сразу вспоминал слова толстяка: «Твой отец ебал твою коричневую мать!» И, замечая в рассерженной матери те черты, которые так не хотел видеть в своем отражении, он еще больше ненавидел азиатскую половину своей крови и свою мать, от которой это передалось.
Другие сослуживцы отца, с чьими детьми он учился в школе и встречался на гарнизонных празднествах, были женаты на нормальных португальских женщинах, в нормальных платьях, с нормальными чертами лица. И только ему приходилось задолго до входа в школу выдергивать свою руку из смуглой руки и очертя голову нестись вперед, чтобы никто не подумал, что эта женщина с почти темной кожей и мутными желтыми глазами ему родня.
С каждым днем и с каждым годом он все больше ненавидел свою мать. А с ней и всех женщин.
Мать, как многие обращенные гоанцы, была католичкой более истовой, чем отец, и мечтала отдать сына в семинарию. И отдала. Но долго он там не продержался – бубнение молитв, строгий пост, ни выпивки найти, ни в келье подрочить – немедленно донесут – все это не для него.
Выходом показалась армейская служба. В один из дней посещений семинаристов родственниками удалось убедить отца, что он наследник доблестного военного рода Монтейру.
Уже следующее утро он встретил на гарнизонном плацу. Сменял шило на мыло. Жизнь по уставу, строевые марши, дисциплина – и это все было не для него. Отличие от семинарии лишь то, что в казарме дрочили все разом, и в спертом воздухе стоял тот самый запах пота и еще чего-то, который он первый раз учуял, увидев мать и отца в зеркале.
На учебных стрельбах выдавали оружие. Патроны холостые, с которыми винтовки теряли половину своей пугающей привлекательности. Но старослужащие знали, где можно достать настоящие патроны. И на что их можно обменять.
– Поехали! Хой-хой!
Позвоночник, показалось, проломится от тяжести толстого Мигела и ребра все разом треснут – так ездок сдавливал их ногами.
Пот заливал глаза. Ноги подкашивались. И страшнее, чем тяжесть толстого и тычки его вонючих ног по бокам, были его крики: «Вперед, гои! Вперед!» Это значило, что из-за передавшейся ему от матери смугловатой кожи его причисляли к местным, к людям низшей расы. А это было постыднее, чем катать белого толстяка на себе.
– Хой! Хой! Еще круг!
Казимируш почти не слышал окриков и свиста разрезающей воздух плетки. Пару раз, когда плетка, делая свой замысловатый финт в воздухе, отскакивала назад, толстый Мигел попал ему по ногам. Обожгло чуть выше колен, но со сдавленными боками он едва мог дышать и ожогов от плетки не заметил.
Пожалел, что встал вторым, – весь вес пришелся на его спину, а Раби оставалось рулить. И только когда толстый Мигел под общие вопли и крики наконец-то слез с них, Раби рухнул на сухую бурую землю, увлекая его за собой – его онемевшие пальцы никак не хотели разжиматься и отпустить тощий живот первого возчика, – Казимиру понял, что он счастливчик.
Он лежал мокрый, грязный, но целый. Горящие от двух ударов плеткой ляжки и сломанные, как выяснится много лет спустя, ребра были не в счет по сравнению с тем коричнево-алым месивом, которое представляло собой тощенькое тело Раби.
Мальчик корчился на сухой земле. Густая коричневая пыль смешивалась с алой кровью и коричневатой кожей Раби. Пока Казимируш шел вторым, злясь, что принял на себя весь вес толстого, Раби достались все удары плеткой. Вошедший в раж, подзадориваемый другими мальчишками ездок что есть силы лупил его по бокам.
Кровь проступала сквозь рубаху. Корчившийся Раби шептал, что в таком виде домой нельзя, за испачканную новую рубашку мать будет ругать. Они долго сидели в грязноватом арыке, пытаясь смыть кровь с рубахи, снять которую у Раби не было сил.
Через четыре дня Раби умер. Колониальный доктор, пришедший в дом бедняги, сказал, что в раны попала инфекция из воды, что вызвало заражение крови. Откуда взялись следы плети на боках мальчишки, никто ответить не мог.
След от плети на его собственной ляжке поболел две недели и зажил. Дышать нормально он смог еще через месяц-другой, что три его ребра были когда-то сломаны, гарнизонный врач определит только при приеме на службу в семнадцать лет. Но он был жив. И точно знал, что больше никогда не позволит никому кричать на себя: «Вперед, гой!»
Он сам будет так кричать!
Оружие у отца было. Табельное. Но с ним Жозе Монтейру каждое утро уходил на службу. Стащить пистолет не представлялось возможным, как Казимируш ни ломал голову.
Спросил у отца, только ли странный портрет остался от предка с картины. Отец достал из скрипящего шкафа кремниевый мушкет, тот самый, что изображен на портрете, патронную сумку, показал, как заряжается мушкет – как ставится курок на предохранитель, засыпается в ствол порох, как шомполом протыкается в ствол завернутая в тряпку пуля, ставится огниво на полку и курок на боевой взвод. И даже показал, как прицеливаться. Только выстрелить не дал, забрал оружие из рук ребенка, все разобрал и вернул на место, в шкаф.
Ложась в кровать после обязательной молитвы и последнего на день материного «Аминь!», Казимиру приказал себе проснуться ночью. Проснулся. Пробрался к шкафу. И – снова ему везло – полная луна освещала комнату. Но скрипящий шкаф не дал себя тихо открыть. По ночному дому звук скрипа разнесся гулким эхом. В спальне родителей зажглась лампада.
Едва успел метнуться в свою комнату и упасть в кровать, как раздались шаги – мать шла проверять, все ли с ребенком в порядке. Он лежал не шевелясь, и только сердце после такого рывка колотилось такими громкими ударами, что выдавало неспящего. Тогда он мысленно приказал сердцу остановиться. Сердце не послушалось. Мать уже наклонялась к нему. Еще раз приказал, и… Стук сердца стих. Полная тишина.
– С сыном все в порядке. Что у тебя? – выходя от него, шептала мать отцу, проверявшему другие комнаты.
– Все тихо. Дерево рассохлось, дверца шкафа открылась и не закрывается. Нужно краснодеревщика позвать. Пусть до утра так стоит.
Родители ушли. Скрипящая дверь шкафа осталась открытой. Путь к пистолету был теперь свободен. Оставалось только дождаться, пока они уснут, и снова пробраться к шкафу.
Так он еще раз понял, что он счастливчик! И обрадовался так, что стал задыхаться, пока не вспомнил, что забыл разрешить сердцу биться. Сердце молчало, кровь перестала пульсировать. Успел опомниться и приказал сердцу стучать. Первые два удара сердце сделало еле слышно, будто не веря, что уже можно. Потом рвануло боем барабана на местном празднике. От каждого удара кровь устраивала внутри него бешеную пляску и, попав, наконец, в мозг, переворачивала все вокруг.
Лучше этого он ничего еще не чувствовал.
Позже, когда старшие в первый раз дали покурить анаши, понял, что все это мелочи по сравнению с тем, что он умеет делать с собой сам – останавливать и запускать сердце, вызывая состояние попадания в мозг чего-то лучшего, чем анаша или кокаин.
Утром за четвертым домом он не боялся уже никого. Мушкет предка за пазухой давал невиданную власть над теми, кто накануне обзывал его гоем и сжимал коленками бока.
Он смотрел в глаза. Сплевывал сквозь зубы. Блефовал. Делал все, что вчера казалось невозможным. И чувствовал в себе дикую буйную силу всевластья. И только тот толстый Мигел, что давил его бока и хлестал Раби, снова буркнул: «Твоя очередь, гой!», как он молча вытащил из сумки старый мушкет. Уже заряженный в точности как показывал ему отец. И пальнул.
Грохот выстрела, визг мальчишек, дым, запах пороха и след на щеке толстого – все смешалось в единое упоение собственным всесилием! Старый кремневый мушкет в руках неопытного мальчишки палил совсем не туда, куда он целился, пуля попала в дерево, под которым стоял толстый Мигел, и отлетевшая щепа оцарапала тому щеку.
Второй раз сразу пальнуть он не мог – нужно было заново набивать порох, шомполом проталкивать пулю, – но это и не потребовалось. Те, кто вчера его унижал, сейчас разбегались врассыпную и, высунув головы из-за деревьев, смотрели испуганно и уважительно. А потом, как завороженные, возвращались, посмотреть на диковинное оружие в его руках.
Гоем его больше не называл никто. Теперь он сам, ткнув бесполезным, но пугающим мушкетом в сторону местных гоанских мальчишек, прикрикнул:
– Чего застыли, гои! Кто за вас будет играть?!
Дальше он выиграл у перепуганных мальчишек с дрожащими руками несколько монет. И понял, что значит оружие за пазухой.
Больше он не боялся идти за четвертый дом.
Напротив, шел с той пряной радостью, какую ощутил однажды, быстро допив виски из стакана отцовского гостя, пока отец пошел провожать сослуживца. Глоток обжег все внутренности, нёбо загорелось. Потом загорелось горло и весь путь горящего глотка до самого желудка. Живот скрутило так, что он аж присел. Но потом пришла первая пьяная радость, а с ней ощущение всемогущества.
Деньги и старый мушкет давали такое же пьяное ощущение дикой силы.
Пробираясь ночью ко все еще не закрытому шкафу положить оружие на место, пока не хватился отец, он услышал странный шум из родительской спальни. Мать стонала. Хотел было тихо вернуться к себе и лечь в постель, но испугался, что мать заболела и умрет, как умерла на прошлой неделе от инфекции мать одного из игравших с ними в ножички гоанских мальчишек.
Подошел к родительской спальне. Дверь была не плотно закрыта. В зеркале у двери отражалась полная луна, освещавшая комнату, и кровать, на которой на спине лежала мать. Коричневые груди разъехались в разные стороны, и правая, которая была ему видна, потряхивалась в такт непонятных толчков, подпрыгивая и снова со странным звуком хлопка плюхаясь на материнский живот. Грудь скакала в ее странной пляске, мать стонала, извиваясь, задирала ногу, пытаясь схватить ее рукой и притянуть к голове.
Подумал, что родители его увидят, надо отсюда уйти. Но уйти не мог. Замер в странном оцепенении, не отводя взгляда от отражений в зеркале. Только молотки в голове в такт с движениями в зеркале стучали – бух-бух, и напряжение внизу живота выдалось вперед.
Коричневая грудь с почти черным соском, коричневая ладонь в нелепом напряжении, удерживающая коричневую лодыжку с беловатой ступней. Странный пряный запах пота и еще чего-то, ему доселе незнакомого. Как в плясках местных жителей на их празднике – неприятный, но затягивающий ритм, которому не хочешь поддаваться, но ноги уже отстукивают в такт. Все напряженнее ладонь, сжимающая нелепо задранную ногу. Материнские стоны. Все чаще и чаще. Все громче и громче. Яростный крик отца.
И все.
Картинка в зеркале исчезла. Лежавшие на кровати сдвинулись в другую, не отраженную в зеркале сторону.
И только он остался стоять с торчащими трусами, и еще несколько минут не мог сдвинуться с места, пока его что-то в трусах не уменьшилось в размерах, не повисло. тогда он смог снова сделать шаг.
– Твой отец ебал твою коричневую мать, – всезнающий толстяк Мигел после следа на щеке относился к нему как к равному. – А у тебя встал!
Казимиру еще не знал, что такое «ебал» и что такое «встал», но про себя отметил, что гоем толстяк его больше не называл. А за коричневую кожу матери бежать за пистолетом не хотелось – он уже был на стороне сильных. Напротив, хотелось возненавидеть эту дрыгающуюся на кровати мать, за ее мутные, как у всех местных, глаза, за ее коричневые, плюхающиеся по бокам груди. За те стоны. За то, что у него встал и он не мог пошевелиться. И за то, что теперь очень хотелось, чтобы у него встал еще.
Что мир делится на высшую расу – португальцев с континента и на местных – второсортных жителей португальской Индии, он понял быстро. Мучительное собственное пребывание между сортами давило. Он законный сын португальского офицера, но черты материнской расы, с взрослением все сильнее проступающие в его лице, бесили, заставляли ненавидеть собственное отражение в зеркале.
Каждый раз, проснувшись, он подсознательно старался прошмыгнуть мимо зеркала. Шел к завтраку с нечищеными зубами – в ванной зеркала над раковиной было не миновать. Мать устраивала скандалы, обвиняя его в нечистоплотности, а он сразу вспоминал слова толстяка: «Твой отец ебал твою коричневую мать!» И, замечая в рассерженной матери те черты, которые так не хотел видеть в своем отражении, он еще больше ненавидел азиатскую половину своей крови и свою мать, от которой это передалось.
Другие сослуживцы отца, с чьими детьми он учился в школе и встречался на гарнизонных празднествах, были женаты на нормальных португальских женщинах, в нормальных платьях, с нормальными чертами лица. И только ему приходилось задолго до входа в школу выдергивать свою руку из смуглой руки и очертя голову нестись вперед, чтобы никто не подумал, что эта женщина с почти темной кожей и мутными желтыми глазами ему родня.
С каждым днем и с каждым годом он все больше ненавидел свою мать. А с ней и всех женщин.
Мать, как многие обращенные гоанцы, была католичкой более истовой, чем отец, и мечтала отдать сына в семинарию. И отдала. Но долго он там не продержался – бубнение молитв, строгий пост, ни выпивки найти, ни в келье подрочить – немедленно донесут – все это не для него.
Выходом показалась армейская служба. В один из дней посещений семинаристов родственниками удалось убедить отца, что он наследник доблестного военного рода Монтейру.
Уже следующее утро он встретил на гарнизонном плацу. Сменял шило на мыло. Жизнь по уставу, строевые марши, дисциплина – и это все было не для него. Отличие от семинарии лишь то, что в казарме дрочили все разом, и в спертом воздухе стоял тот самый запах пота и еще чего-то, который он первый раз учуял, увидев мать и отца в зеркале.
На учебных стрельбах выдавали оружие. Патроны холостые, с которыми винтовки теряли половину своей пугающей привлекательности. Но старослужащие знали, где можно достать настоящие патроны. И на что их можно обменять.