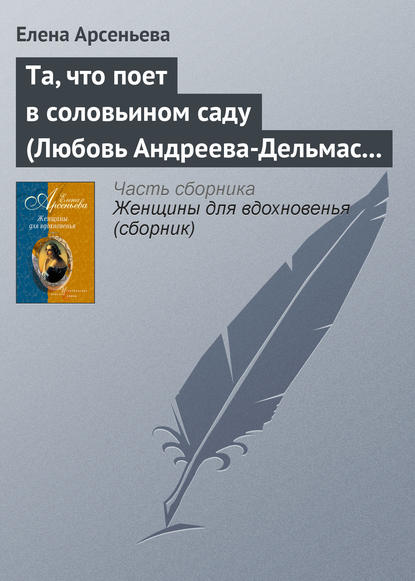По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Та, что поет в соловьином саду (Любовь Андреева-Дельмас – Александр Блок)
Серия
Год написания книги
2005
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Елена Арсеньева
Женщины для вдохновенья
«В один декабрьский день 1913 года – обычный петербургский был денек, с запоздалым мокрым снегом, ветреный, промозглый, – какой-то господин в длинном пальто остановился перед витриной писчебумажной лавки на Литейном. Лавочка эта недавно открылась, и витрина ее была полна самых заманчивых предметов: портфелей и папок, ручек-вставочек и автоматических перьев, пузырьков с чернилами, карандашей, ластиков, тетрадей, блокнотов, затейливо раскрашенных книжных закладок…»
Елена Арсеньева
Та, что поет в соловьином саду
(Любовь Андреева-Дельмас – Александр Блок)
От автора
Их глаза глядят со страниц романов, их смех звенит в строках стихов… Они вдохновляли поэтов и романистов. Их любили или ненавидели (такое тоже бывало!) до такой степени, что эту любовь или ненависть просто невозможно было удержать в сердце, ее непременно нужно было сделать общим достоянием. Благодаря им болезнь любви или ненависти заражала читателей. Их мало волновало, конечно, чьи коварные очи презираемы Лермонтовым, кого ревнует Пушкин, чьими страстями упивается Достоевский, чьим первым поцелуем украдкой любуется Толстой, кого всю жизнь нежно обожает Тютчев и к чьим ногам слагают сердца герои Тургенева… Главное – глубина чувств, тайна, а не праздное любопытство!
Ну что ж, а мы – мы полюбопытствуем и заглянем в эту глубину, приподнимем покров этой тайны: любви или ненависти творцов к своим музам.
* * *
В один декабрьский день 1913 года – обычный петербургский был денек, с запоздалым мокрым снегом, ветреный, промозглый, – какой-то господин в длинном пальто остановился перед витриной писчебумажной лавки на Литейном. Лавочка эта недавно открылась, и витрина ее была полна самых заманчивых предметов: портфелей и папок, ручек-вставочек и автоматических перьев, пузырьков с чернилами, карандашей, ластиков, тетрадей, блокнотов, затейливо раскрашенных книжных закладок… Имелись кошельки и сигаретницы, а также карманные портсигары и даже зажигалки. И конечно, тут было несчетно открыток: пасхальных, рождественских, именинных. Было множество модных новинок: портретов членов императорской фамилии, а также писателей и поэтов, актеров и актрис, как театральных, так и синематографических. Да не рисованных портретов, а фотографических карточек! Стоили они, конечно, недешево, однако любопытных к витрине приманивали. Заглядится дама, к примеру сказать, на знаменитого своей красотой киноактера Ивана Мозжухина, а потом, словно невзначай, падет ее взор на хорошенькую записную книжечку в шагреневом переплете или шелковую закладочку с какой-нибудь там горой Фудзи и журавликом над ней, и зайдет дама в лавочку, и купит то, и другое, и третье. А также, глядишь, прихватит карандашик с золотым перехватиком, особенный карандашик, с одной стороны – синий, с другой – красный, чудо науки, совершенно невозможно понять, как сия новинка сделана, – а то и еще что прикупит…
«Ну давай, ну заходи скорей! – торопил молодой приказчик господина в длинном пальто, который слишком долго торчал перед витриной, словно все никак не решался выбрать вещицу по душе. – Денег за погляд, конечно, не берут… а жаль-с!»
Наконец, словно вняв его мольбам, господин оторвался от своего оцепенелого созерцания, и дверной колокольчик оживленно звякнул, оповещая о приходе долгожданного покупателя.
– Бонжур! – радостно воскликнул приказчик, неприметно потирая руки. – Чего изволите-с?
Господин – был он роста среднего, худощав, имел тонкое неправильное лицо с большими, очень светлыми, но в то же время мрачными глазами – стоял молча, сунув руки в карманы, не позаботясь даже отряхнуть мокрый снег с мягкой фетровой, весьма щегольской шляпы, и разглядывал стойку с открытками.
«Я его где-то видел», – подумал приказчик, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу.
– Вот это будьте любезны, – ткнув пальцем в одну из открыток, проговорил господин хрипловатым голосом.
«Ноги, что ли, промочил?» – подумал приказчик, а потом поглядел на выбранную покупателем открытку. Это была фотографическая карточка какой-то актрисы в разнообразных юбках, с распущенными волосами. Она стояла, подбочась, с розой в руке. Гребни с трудом сдерживали буйство ее кос, глаза сверкали…
Фотография по моде того времени была раскрашена, и видно было, что косы эти рыжие, роза – красная, юбки – темно-малиновые, передник, туго-натуго обтянувший высокую грудь, – черный, кофточка – оранжевая… Экое цыганское буйство!
Пока господин расплачивался, приказчик полюбопытствовал, что за цыганка такая запечатлена на открытке. Оказалось – артистка Петербургского музыкального драматического театра Любовь Андреева-Дельмас в роли Кармен.
Имя Любови Дельмас приказчик отроду не слышал, ну а про Кармен знал. Испанка, а может, цыганка, убил ее ревнивый любовник, которому она рога наставила.
– Какая же это Кармен? – пробормотал он. – У Кармен небось косы должны быть, как ночь, черны, а у этой – рыжие-с.
И осекся. Как бы не обиделся покупатель! Вон глаза у него какие сделались безумные! Наверное, поклонник той самой Дельмас. Обожатель. Правда, задержался он что-то в своем увлечении, обыкновенно гимназистики юные актрисочек обожают. А этот – человек уже почтенный, лет тридцати. И все ж они, обожатели, старые или молодые, все малость ненормальные, они за своего кумира… ого-го!
– Это – рыжая ночь твоих кос? – непонятно спросил вдруг господин обожатель.
– Чего-с? – не без испуга переспросил приказчик, решив, что ослышался.
– Это – музыка тайных измен? – еще более непонятно молвил покупатель. – Это – сердце в плену у Кармен?
После столь непонятных слов, странно прозвучавших в лавке вопросов, он немедленно ушел. Ушел, не простясь, уставившись на карточку так, словно его вообще ничто в мире больше не интересовало, кроме изображенной на ней рыжей актрисы. Ни на какой товар и не взглянул, а приказчик даже не стал нахваливать ему новые портмоне. Без толку, сразу видно!
Когда утих разочарованный звон дверного колокольчика, приказчик вернулся к стойке с карточками и какое-то время еще разглядывал Любовь Андрееву-Дельмас, артистку Музыкального драматического театра, изображавшую Кармен. Потом пожал плечами, решив, что некоторые ровно ничего не понимают ни в искусстве, ни в женской красоте, положил портрет в стопку… и тут взгляд его упал на другую фотографию.
Приказчик остолбенел.
На снимке был изображен лохматый молодой человек в сюртуке, застегнутом под горло, с худым неистовым лицом, точеным ртом и мрачными, слишком светлыми глазами.
Приказчик растерянно моргнул.
Быть того не может!
Быть того не может, однако… это ведь портрет того самого господина, который только что вышел из лавки!
Приказчик недоверчиво взял фотографию и прочел на обороте: «Поэт Александр Блок».
Покачал головой. Поэт, ишь ты! Тогда понятно. У них, у поэтов, у всех мозги набекрень. Вот ведь, нашел себе предмет для обожания! Рыжая Кармен… Как это он сказал: «Рыжая ночь твоих кос?»
Поэт! А сам фотокарточки актрисок покупает, словно гимназист…
Непостижимо уму-с!
* * *
Да уж… Она была и впрямь непостижима уму – эта страсть, рухнувшая на Александра Александровича, словно тот библейский огонь, который рухнул в незапамятные времена на Содом и Гоморру и сжег их дотла, ничего не оставив для памяти. Вот и в его памяти из прошлого не осталось ничего с тех самых пор, как он явился в новый театр на премьеру и на сцене увидел эту рыжую, в ворохе юбок, в ворохе рыжих кудрей. Нет, не рыжих – золотых!
Еще когда заиграли увертюру, с ним вдруг что-то начало происходить… странное. Такое бывало, когда он хотел женщину и знал, что получит ее. И воображал себе, как все это произойдет в первый раз. Странно, но он всегда знал заранее, будет ли она непокорна или послушна, начнет изнурять застенчивым кокетством или станет изображать разнузданную вакханку, маскируя назойливой откровенностью почти девическую застенчивость весталки. Прекрасные дамы, начиная с той, самой первой, самой любимой, которая стала его женой и платоническое влечение к которой он воспевал (и исповедовал наяву!) целых четыре года их брака, находя успокоение у проституток, – о, эти прекрасные дамы в постели были далеко не так поэтичны, как на страстном ложе его стихов. И он насмехался над теми, кто считал его образцом поклонения чистому чувству, кто упивался строгой музыкой распутного стиха:
Вхожу я в темные храмы,
Свершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад…
Красные лампады! Красные зазывные фонари вертепов! Бедный обряд, который он вершил, ощущая под собой продажное тело…
Он разочаровывался в женщинах – и увлекался ими вновь, потому что не мог уйти от своей леденяще-пылкой природы. Неудовлетворенные желания мучили его – ох уж эти необузданные желания самца, который ищет распаленную, дерзкую самку, вновь и вновь обретая лишь писклявую, сюсюкающую самочку, – однако обычай, который, как известно, деспот меж людей, требовал возводить похоть на котурны неземной любви и облекать неудовлетворенность в золотые тоги изысканного разочарования. Он хотел грубо брать женщин, грубо иметь, грубо отшвыривать от себя, насытившись… Счастливы звери, счастливы львы в своем необузданном плотском порыве, который выше (или ниже, но это не суть важно!) наших условностей!
Все это – былые разочарования и новые надежды – промелькнуло перед ним при звуках увертюры. Словно душа обнажилась под порывом музыки. Так ветер срывает листву с деревьев перед запоздалой, внезапной, небывалой осенней грозой.
Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет минувший свет, —