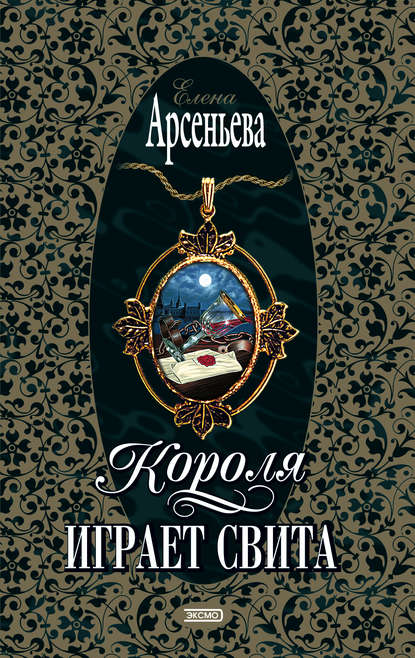По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Короля играет свита
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алексей пожал плечами, не понимая смысла шутки, только ощущая в ней нечто непристойное. «Кто ж такая эта самая мадам? Да черт ли мне в ней? Надо на Невский возвращаться!» И он окликнул кучера.
Тот мученически завел глаза, услыхав, что придется ехать обратно, а впрочем, покорно заворотил коней, хотя ему самому надобно было на Лиговку. Однако, отыскав искомый дом, отстоявший несколько поодаль от дощатой дорожки, проложенной для удобства пешеходов по краю каменной мостовой, он торопливо вывалил прямо у ворот небогатое добро Алексея, в числе коего были и деревенские гостинцы, скрупулезно отобранные тетушкой (чтобы и в грязь лицом не ударить перед двоюродным братцем, и не особенно разориться), и, громогласно божась, кони-де навовсе засеклись, вот-вот падут, не добредя до хозяйской конюшни, – погнал притомившихся лошадушек со всей возможной прытью.
Алексей тупо смотрел ему вслед, слишком усталый и ошеломленный, чтобы даже браниться. Подобной наглости он и вообразить себе не мог. Люди Улановых держались тетушкой Марьей Пантелеевной в большой строгости, и даже такое разболтанное существо, как этот кучер Савелька, ходило бы у нее по струночке. Ну а коли не ходило у Алексея, значит, он сам виноват. Значит, тетушка оказалась права, когда с горячностью уверяла, что к самостоятельной жизни он еще совершенно не способен, поскольку повадками – сущее дитя малое. Что же она все права да права, ну прямо как нанятая, эта тетушка!..
Радуясь, что пешеходов поблизости нету и никто не сделался свидетелем его унижения, Алексей дотащил свои пожитки до малого палисадничка, окружающего двухэтажный дом, и снова помянул Марью Пантелеевну недобрым словом: она ведь настаивала, чтобы Алексей взял с собой хоть одного человека из дворни! Но перегруженная повозка не осилила бы дополнительного седока, поэтому пришлось смириться с самостоятельностью. Впрочем, Алексею к тому не привыкать стать было. Собственного камердинера у него отродясь не водилось, как, впрочем, и у покойного отца, да и тетушка обходилась без горничной.
«Дурень я, дурень, – мысленно стукнул себя по лбу Алексей. – Ну чего надрываюсь, спрашивается? Пускай полежат вещички вон под теми кустиками, а я тем временем живой ногой сбегаю в дом к дядюшке и спрошу у него какого-нито человека». И, сложив узлы да корзины поаккуратнее, Алексей зарысил к высокому крылечку с темными от недавно сошедшего снега ступеньками.
Он сперва подергал шнурок звонка, но отклика никакого не услыхал. Возможно, шнурок был где-то оборван? Пришлось стучать, и все время, пока Алексей бил в косяк сперва осторожненько, согнутым пальчиком, потом постукивал кулаком, потом громыхал что было мочи, он краешком мыслей удивлялся, почему дядюшка выбрал для себя столь невзрачное жилище. Уж казалось бы... с его званием, с его положением при дворе... Впрочем, тетушка не раз упоминала о скромности кузена, о его неприхотливости, доходящей до аскетизма. Он же в ордене каком-то состоит, не то монашеском, не то еще каком-то там, принадлежа при этом как бы к двум церквам: православной, отеческой, и еще каким-то боком – к католической. Диковинно и странно, ну да что ж: куда поп, туда и приход. И до нижегородской сельской провинции доходили слухи о страстной приверженности императора Павла Петровича какому-то неведомому Мальтийскому ордену, коего он был не просто членом, но и гроссмейстером. При этом, сказывали, император был столь глубоко религиозен, что в спальне его, там, где клал он пред образом Спасителя земные поклоны, паркет был потерт от частых прикосновений лба! Как можно молиться враз двум богам, Алексей не постигал, но хорошо понимал: ежели при дворе такая повелась мода, дядюшке просто деваться некуда, приходится не отставать от других.
Между тем он все еще топтался на крылечке, ибо никто не спешил отпереть и спросить, чего изволит гость. Дома никого нету, что ли? Ну ладно, дядюшка может быть в службе, а челядь? Поразбежалась, пользуясь отсутствием барина? Или оглохли все враз? Алексей в досаде стукнул кулаком по самой двери – и, к его изумлению, она отворилась.
– Есть кто-нибудь? – крикнул он, входя в полутемные сени, а потом и в просторную прихожую, откуда вела лесенка во второй этаж. По стенам прихожая была вся заставлена большими ларями для шуб и шинелей и увешана оленьими рогами, на которых, очевидно, в случае сборища гостей, во множестве красовались бы треугольные военные шляпы. Сейчас красиво отполированные рога были пусты, а в доме по-прежнему царила тишина.
Алексей пожал плечами, не ведая, что теперь делать. Потом решился, сделал еще шажок по направлению к высокой двери и приотворил ее. Он увидел перед собою большую проходную залу, где люстры были затянуты тканью от пыли, а окна завешаны, так что здесь царил полумрак. В конце залы была еще одна дверь – приоткрытая, и Алексей, поминутно во весь голос оповещая о своем прибытии (менее всего он желал бы, чтобы откуда-то выскочил какой-нибудь заспанный слуга и вцепился бы в него, словно в татя-грабителя), быстренько перебежал через залу и вошел в следующее помещение. Вошел – и замер на пороге.
Это была столовая комната, причем обставленная с такой утонченной роскошью, какой Алексей даже не ожидал увидать в этом наружно неуютном доме. Комната была небольшая, отделанная дубом, увешанная натюрмортами, призванными возбудить как чревоугодие, так и взор гостей.
Алексей не больно-то понимал в изящном искусстве. Правда, тетушка всячески привечала крепостного малевальщика Спирю, украсив его картинами барский дом, однако сии художества отличались от картин, увиденных Алексеем сейчас, как... как одежонка кухонной стряпухи отличается от бального туалета. Даже на его невежественный взгляд, пред ним были картины выдающихся художников. Как матово лоснились на них бока спелых персиков, как золотился лимон, истекал соком ломоть окорока, чудилось, дышал жаром свежеиспеченный хлеб, играло искрами вино в бокалах, поражали взор пышные невиданные цветы! Впрочем, не живописный, а натуральный стол был тоже весьма хорош. За ним могло уместиться персон двадцать, однако он был накрыт на два куверта. Сверкало серебро, безмятежно трепетали, оплывая, свечки. Несколько больших серебряных блюд были накрыты крышками, которые, однако, не в силах оказались преградить дорогу манящим ароматам, и усталый, проголодавшийся Алексей невольно сглотнул слюну. А вид десятка винных бутылей возбудил в нем немалую жажду. Наверняка в этих пыльных сосудах таились вина, которых в жизни не пробовал он, знавший доселе только лишь домашнюю наливку!
Алексей подошел ближе к столу и принялся с вожделением разглядывать крахмальные белоснежные салфетки с вензелем «ПАТ», лежащие на тарелках. Чистый снег, а не белье столовое. А каковы бокалы! Не серебряные стаканчики со стершимся от времени узором, как у них дома, а сверкающий хрусталь. Вот роскошь! Вот красота!
Вдруг Алексей заметил, что на дне одного из бокалов остался темно-бордовый осадок. Выходило, кто-то совсем недавно пил из него. Возможно, дядюшка ждал-ждал своего приятеля, званного к застолью, почувствовал жажду, выпил немного. А потом его отвлекли какие-то неотложные дела? Стол ведь сервирован не менее часа назад, свечи уже несколько оплыли. Приятель, значит, так и не пришел...
А что, ежели дядюшка ждал вовсе не какого-нибудь таинственного приятеля, а даму? Даму сердца? Тогда понятно, почему удалена прислуга: очевидно, Петр Александрович желал сохранить ее визит в тайне.
Ох, господи! Выходит, Алексей прямиком угодил на любовное свидание?! Хорош племянничек, медведюшка деревенский!
А что, если... если дом вовсе не пуст? Что, если дядюшка и его прекрасная дама сейчас... в постели? На ложе страсти, как пишут в романах. «Не в силах совладать с пылкостию давно скрываемых чувств, они забыли о еде и с наслаждением предались иным утехам...»
Воображение Алексея мигом нарисовало картину разбросанных подушек, смятых простыней, столь же белоснежных и кружевных, как салфетки, может быть, тоже с вензелем «ПАТ», а между ними... От волнения не вполне соображая, что делает, он схватился за одну из запыленных бутылей, стоявшую несколько в стороне от других и хранившую на себе следы пальцев – видимо, именно из нее наливалось вино в бокал, – и наполнил его. Поднес к губам – но не успел выпить, услыхав скрип двери.
Алексея ожгло стыдом. Поспешно, едва не расплескав, он поставил бокал и оглянулся с самым дурацким видом, отлично понимая теперь, как чувствует себя воришка, забравшийся в пустой дом и схваченный хозяином на месте преступления.
Однако двери оставались по-прежнему полуприкрыты, никто не врывался в столовую, пылая возмущением и желанием немедленно прищучить незваного гостя.
Алексей выглянул. Никого в зале, никого и в маленькой гостиной, куда он вышел, перебежав столовую (комнаты располагались анфиладою). Видимо, ему послышалось.
Он обошел гостиную, обставленную весьма скромно, однако изысканно, посидел на диванчике перед остывшей печью, бездумно глядя в окно, на гаснущий день. Пить хотелось по-прежнему. Наконец Алексей, пожав плечами, воротился в столовую и снова взялся за бокал. В ту же минуту что-то громыхнуло за стеной – было такое впечатление, будто рухнуло нечто тяжелое. Опустив на стол бокал и едва не расплескав его, Алексей вылетел в залу, ибо звук исходил именно оттуда.
Что за чудеса?! Один из стульев, доселе стоявший вместе с другими у стены, валяется посреди комнаты! Сам упасть он никак не мог – кто-то должен был швырнуть его, да с не маленькой силою: стул ведь тяжелый, дубовый.
Вновь торопливая пробежка по всему первому этажу, вновь недоуменное пожатие плеч – пусто в доме! Алексей осторожно прокрался наверх и, замирая от стыда, постоял на площадке лестницы, глядя на несколько обращенных к нему и запертых дверей. Потянул одну – это явно кабинет, в углу мольберт, несколько шпаг и рапир, но он же и библиотека – вот книжные шкафы, конторка, стол, заваленный журналами и книгами, очень красивый секретер карельской березы с восемью шкафчиками, в одном из которых торчал длинный ключ... Много картин. Акварельный портрет горбоносого господина, изображенного в профиль, с темными, тщательно завитыми, но ненапудренными волосами, в белом шарфе. Наверху белым изображен был какой-то странный шестиугольник. Что же это за знак? И чей это портрет? Уж не дядюшкин ли?
Алексей даже несколько оторопел от такого открытия. Дядюшка Петр Александрович в его воображении был этакий маститый старец, покрытый сединами, но внезапно Алексей осознал, что перед ним довольно-таки молодой человек, годов этак тридцати четырех, вряд ли годившийся ему в отцы – по крайности, лишь в старшие братья.
Каждую следующую дверь Алексей открывал с особенной опаской, но все комнаты были безлюдны – в их числе и спальня, куда он заглянул не прежде, чем окончательно сгорел со стыда. Занавеси алькова задернуты, тишина. Значит, это было все-таки не любовное свидание!
Алексей побрел вниз; покачал головой, глядя на стул, загадочным образом очутившийся посреди залы. Этому могло быть только одно объяснение: домовой шалит! Не по нраву ему, что гость освоился в чужом жилище и даже попытался без спросу испить хозяйского вина, – вот и разошелся суседко. Надо, наверное, было хоть у него позволения спросить, чтобы жажду утолить? А что особенного? Бывало, вежливое обращение ко «вторым», то есть ко всякой нечисти, спасало жизнь человеку. Скажем, есть ли более зловредное, враждебное человеку существо, чем банник? Хлебом его не корми, дай запарить запозднившегося посетителя баньки до смерти, а то и ободрать с него клочьями кожу с живого! Однако известен случай, когда человек, спасаясь в полночь от упыря, гнавшегося за ним с ближнего кладбища, забежал в баню и взмолился о защите у ее хозяина. Упырь потребовал своей добычи, но банник оказался непреклонен. Сказавши: «Он мой гость, он у меня защиты просил!» – начал биться с упырем, спасая человека, и бились они до третьего петушиного крика, когда всей нечисти предписано провалиться в бездны преисподние. Человек ушел живым, хоть и поседел за эту ночь, как лунь.
– Батюшко-домовой, – выдавил Алексей, чувствуя себя при этом изрядно глупо: то, что естественно звучало в их стареньком доме в Васильках, выглядело сущей нелепостью в чопорной столичной зале. – Дозволь в твоем обиталище обретаться, не обидь, я ведь не со злом явился, а к дядюшке, из Васильков нынче же прибыл, но его дома нету, я только испить немножко хотел, горло с дороги пересохло...
Внезапно позади него раздалось невнятное восклицание. Волосы на затылке Алексея поднялись дыбом. Осенив себя крестным знамением, он оглянулся, готовый увидеть бог весть что, самую несообразную нечисть, но только не то, что увидел.
В дверях, ведущих из прихожей, стояла дама в длинном черном плаще и широкополой шляпе и смотрела на Алексея с таким же изумлением, с каким он смотрел на нее. Впрочем, уже через мгновение глаза нашего героя выразили иное чувство.
Господи! Какая же она была красавица!
Июнь 1790 года
– Я ожидала сегодня великого князя с супругою. – Кажется, императрица только сейчас заметила, что сын не появился на куртаге[3 - Куртаг – приемный день при дворе.]. – Что там опять у него в Гатчине? Очередные маневры?
В голосе ее звучала язвительная насмешка. Вообще она явно не была огорчена отсутствием сына – без него Екатерина чувствовала себя свободнее. Ей мешали его осуждающие взгляды, да и вообще присутствие тридцатичетырехлетнего сына для женщины, любовнику которой всего лишь двадцать три, а ей самой... впрочем, не стоит об этом.
Гатчина была подарена Павлу с одной целью: удалить от двора, от людей эту одиозную фигуру, и этот подарок, который был сделан для того, чтобы от него отвязаться, пришелся ему необыкновенно по душе. Как северная деревенская резиденция, Гатчина была великолепна: дворец, вернее, замок, представлял собой обширное здание, выстроенное из тесаного камня, прекрасной архитектуры. При дворце имелся обширный парк, в котором росло множество старинных дубов и других деревьев. Прозрачный ручей вился вдоль парка и по садам, обращаясь в некоторых местах в обширные пруды, вернее, озера. Вода в них была до того чиста и прозрачна, что на глубине двенадцати-пятнадцати футов[4 - Фут – мера длины около 30,5 см.] видны были камушки, в этих прудах плавали большие форели и стерляди.
Однако вовсе не красотами природы влекла Павла Гатчина – здесь он устроил себе особый мирок, во всем отличный от ненавистного петербургского. За неимением другого дела, вся деятельность его нетерпеливой натуры свелась к устройству так называемой гатчинской армии – нескольких батальонов, отданных под его непосредственную команду. И забота об их обмундировании и выучке поглотила его всецело. Наконец-то он смог где-то насадить тот милитаризованный порядок, к которому властно влеклась его душа (вот уж теперь можно было не сомневаться, что он истинно сын своего отца!). Мечты о порядке в государстве преобразовались в хлопоты о строгой дисциплине, которая в идеале являлась воинской дисциплиной. Однако не зря говорят, что Павел был натурой противоречивой. Его не менее властно влекли к себе рыцарские идеалы, воплощением которых для него с раннего детства был Орден госпитальеров, или иоаннитов, сиречь орден Святого Иоанна Иерусалимского, чаще называемый просто Мальтийским, оттого что уже в течение нескольких веков резиденция великого магистра ордена располагалась на острове Мальта.
Проникновение госпитальеров в Россию началось еще в петровские времена, когда христиане пытались выступать единым фронтом против мусульман. В ту пору братство называлось в России Ивановским, по имени святого патрона ордена. Петр отправил на Мальту с официальной миссией графа Бориса Шереметева, который воротился оттуда с мальтийским крестом на груди, первым из русских сделавшись кавалером и рыцарем! Однако союза не получилось, потому что процветающий орден требовал слишком большой цены за свои услуги.
Екатерина в свое время обратила внимание на значение Мальты в стратегическом отношении и просчитала те выгоды, которые можно извлечь для России из дружбы с гроссмейстером ордена. Одаренная необыкновенным искусством отыскивать себе союзников в самых неожиданных местах, использовать для этого самые странные случаи, она вошла в тайные переговоры с тогдашним гроссмейстером ордена, принцем Роганом, и старалась привлечь госпитальеров на сторону России в ее войне с турками. В обмен на это было установлено великое приорство ордена в Ржечи Посполитой. Роган заключил секретный союз с Екатериной, и рыцарские корабли, под предводительством командора Фляксляндена, соединились с русским флотом, возглавляемым графом Алексеем Орловым, в Архипелаге. Однако союз Екатерины с Роганом был разрушен происками министра Людовика XV Шуазеля, грозившего отнять у ордена все имущество, которым он владел во Франции, если отношения с Россией не будут прерваны. Под угрозами французского короля Роган отказался от всех обязательств перед Россией. Однако он передал нашему правительству все карты и планы, которые были заготовлены орденом для экспедиции на Восток. Екатерина сохранила к ордену некое странное чувство, которое можно было бы назвать политической любовью, и продолжала помогать ему. Она передала это чувство и это отношение сыну, однако не учла того огромного впечатления, которое романтика рыцарства, отречения от мирских благ во имя воинских подвигов (а воинские подвиги страстно влекли милитаризованную душу Павла), произведет на цесаревича.
Тут тоже не обошлось без старого масона и мистика Никиты Панина. Когда его воспитанник был еще подростком, он получил от Никиты Ивановича в подарок книгу «История гостеприимных рыцарей святого Иоанна Иерусалимского, называвшихся потом родосскими, а ныне мальтийскими рыцарями. Сочинение г-на Верно д'Обефа, члена Академии изящной словесности». Грубые и мужественные лица рыцарей, их подвиги во имя Христова и Гроба Господня очаровали наследника русского престола так, как никогда не очаровывали его деяния великих предков по защите и расширению границ в России. Он не любил свою страну и боялся ее. Ему показалось, что сверкающий кристалл Мальтийского рыцарства создаст вокруг него необходимый круг света, в котором можно будет скрыться от всех тех ужасов, подозрений, разрывающего честолюбия – от всего, что терзало чувствительную и в то же время сухую душу Павла. Именно поэтому, учредив еще в 1776 году известный Инвалидный дом для русских матросов, великий князь посвятил его ордену и велел поместить на фронтоне здания восьмиконечный мальтийский крест, который казался ему похожим на звезду небесную. Менее романтические натуры усматривали в нем сходство с пауком.
Екатерина, женщина трезвомыслящая, отнюдь не была так уж увлечена мальтийскими рыцарями, как прежде, во времена дружбы с Роганом. Последнее разочарование вызвал у нее блестящий Юлий Литта, необыкновенный красавец и молодец, широкоплечий, с ослепительными черными очами, богатырского роста, в 1789 году явившийся на русскую службу. К тому времени он был капитаном галеры (а надо сказать, что основной службой рыцарей была оборона Средиземного моря от турецких пиратов, поэтому все они считались отменными моряками), а в России тогда вообще всех иностранцев встречали с распростертыми объятиями. Неудивительно, что 7 марта 1789 года состоялся указ о принятии мальтийского кавалера и тамошнего флота капитан-командора в нашу службу капитаном генерал-майорского ранга, с жалованьем 1800 рублей в год плюс к тому на стол по 150 рублей в месяц. Не прошло и полугода, как Литта за участие в первом Роченсальмском сражении, где он командовал галерами правого фланга, был произведен в контр-адмиралы, получил золотую шпагу и Св. Георгия 3-го класса.
Однако кампания следующего года не была благоприятна для русского оружия, и причиной сего стал именно наш черноглазый кавалер, который мог быть хорошим исполнителем чужих приказов, однако принимать самостоятельные боевые решения оказался не способен. Его подчиненные не могли понять его приказов, не видели смысла в его действиях. Литта был уволен от русской службы «впредь до востребования», что означало дипломатичное «навсегда». Прекратив боевую деятельность, он обратился к занятиям более мирным: сделался ходатаем по делам своего ордена, который изо всех сил желал найти покровительство в России, чтобы возместить свои потери в других странах. Папским нунцием в Петербурге в то время был брат Литты, Лоренцо, а то, что наследник русского престола самозабвенно увлечен игрой в рыцарей, открывало перед госпитальерами перспективы поистине баснословные.
В этом братстве, как и во многих других тайных обществах, огромное значение придавалось внешним обрядам, и детская душа Павла тянулась к их эффектности и внешнему блеску так же сильно, как тянулась она к парадам, артикулам и воинской муштре. Поэтому в тот жаркий июньский день, когда Екатерина радостно убедилась, что нелюбимый сын снова заигрался в свои гатчинские игрушки, он был занят отнюдь не ими.
В Гатчине чествовали святого Иоанна Крестителя – покровителя Мальтийского ордена – и принимали в ряды госпитальеров капитан-поручика русской армии Петра Талызина.
Апрель 1801 года
– Дядюшка, говорите? – повторил Бесиков с таким ехидным поджатием губ, что Алексею мгновенно сделалось ясно: ни единому его слову смуглявый дознаватель не верит, поэтому нечего и пытаться что-то говорить. Однако бедняга все еще не оставил надежды развеять витавшее над ним ужасное подозрение:
– Дядюшка! Троюродный! Петр Александрович был кузеном тетушки Марьи Пантелеевны Талызиной, а также матушки моей, покойной Анны Пантелеевны Улановой, в девичестве Талызиной тож.
– Давно ли вы виделись с генералом?
– Никогда! – истово замотал головой Алексей. – Не имел чести такой. Письмо его, о запрошлый год пришедшее, в коем он приглашал меня в Санкт-Петербург, обещал оказать при надобности протекцию и даже представить ко двору, – это письмо, да, я читал.
– В позапрошлом году звал в гости? А что ж вы столь долго собирались принять приглашение?
– Тетушка не пускала. В ту пору мне едва семнадцать сравнялось, вот она и говорила, не дорос, мол, я еще до столичного житья. Тут-де, в столице, вертепы разврата на каждом углу, всяк норовит ближнего своего облапошить да под монастырь подвести, ну так я первым среди них и буду, – признался Алексей с тем простодушием, которое всегда было его первейшим качеством.
– Тетушка ваша, вижу, мудрая дама, – хмыкнул развалившийся на стуле Варламов, поднося ко рту трубочку.