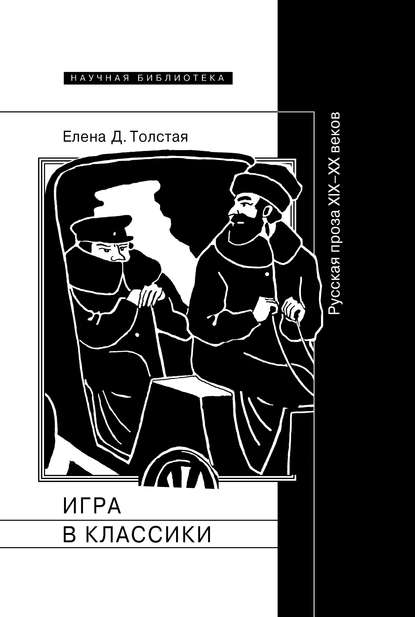По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Игра в классики Русская проза XIX–XX веков
Елена Д. Толстая
Научная библиотека
Книга Елены Д. Толстой «Игра в классики» включает две монографии. Первая, «Превращения романтизма: „Накануне“ Тургенева» рассматривает осовременивание и маскировку романтических топосов в романе Тургенева, изучает, из чего состоит «тургеневская женщина», и находит неожиданные литературные мотивы, отразившиеся в романе. Вторая монография, «„Тайные фигуры“ в „Войне и мире“», посвящена экспериментальным приемам письма Льва Толстого, главным образом видам повтора в романе (в том числе «редким» повторам как способу проведения важных для автора тем, звуковым повторам и т. д.); в ней также опознаются мифопоэтические мотивы романа и прослеживаются их трансформации от ранних его версий к канонической. В последней части книги публикуются разборы («Невеста» Чехова) и статьи о классиках русской прозы ХХ века, исследующие малоизвестную публицистику Алексея Толстого середины 1910-х, реминисценции из современных авторов у Булгакова, а также прототипы двух персонажей раннего Набокова.
Елена Д. Толстая
Игра в классики Русская проза XIX–XX веков
© Е. Д. Толстая, 2017
© А. В. Петров, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Часть 1
«Накануне» Тургенева: превращения романтизма
1. «С чрезвычайной ясностью», или Конвенции реализма
С начала 1850-х у Тургенева и Льва Толстого появляется особый описательный стиль, который станет товарным знаком русского нового, так называемого «реалистического» письма. Главное его формальное качество есть экстенсивность описаний, не связанных с сюжетом, а посвященных природе или погоде. Найти аналог подобным не связанным с сюжетом, «бескорыстным», невероятно подробным описаниям природы и погоды у реалистов-французов не удалось: Стендаль не описывал подробно природу, флоберовский реализм возник позже. Подобные экстенсивные пассажи – признак более раннего, романтического повествования, например экзотические виды американской природы в «Атале» и «Рене» Шатобриана, или темпераментно и мощно описанное растительное буйство острова Бурбон у Жорж Санд в «Индиане» (изображенное не по собственным впечатлениям, а «из вторых рук»), или развернутые пейзажные описания у Диккенса или Гоголя. Но в исследуемых нами текстах Тургенева и Толстого качественное наполнение описаний другое: новый слог противопоставляет себя романтизму, высмеивает романтические клише и конвенции, как бы подчеркивает свою трезвость, холодность, объективность, внеэмоциональность и демонстрирует экспертное знание. Это не фонтан субъективных фигур речи, а «прямой» визуальный материал, в котором скорее можно найти тематическое сходство с суховато-фактологичными пейзажами в более ранних английских романах – при их меньшей проработанности. Здесь можно говорить скорее о жанровом прецеденте путевых записок, географических описаний и т. д. В этом контексте принято упоминать о фактологичной и экстенсивной «Охоте на Кавказе» Николая Толстого, рано умершего старшего брата Льва Николаевича. Некоторое упреждающее сходство с нашими текстами есть и в пассажах «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» Сергея Тимофеевича Аксакова, где вздутым «гоголевским» языком излагаются информативные подробности об охоте и «уженье рыбы». Итак, главный принцип подобного текста есть романтическая экстенсивность описаний, наполненных бытовым, «близким» содержанием, что приблизительно означает отношение к своему и известному как к чужому и неизвестному.
Нельзя ли описать этот новый стиль как набор новых, альтернативных конвенций? В чем состоят его формальные и смысловые признаки – признаки «реализма»? Эти вопросы бегло очерчены в настоящем наброске.
Идейные установки новых зрительных восприятий принято искать у французов в художественной критике. Это очерки Жюля Шанфлери (псевдоним Жюля Флери-Юссона, 1820–1889) о Гюставе Курбе (1848), французском портретисте XVIII века Квентине де ла Туре и художниках-реалистах XVII века Лененах (1850). Именно Шанфлери требовал беспристрастия в оценках, объективности вместо типичности – то есть фотографизма, фактов, документальных свидетельств. Его лозунгом было изображение действительности такой, как она открывается «чистому», «искреннему», то есть непредвзятому взгляду. Такой «реализм» для своего поколения олицетворял Курбе. Эти идеи были с энтузиазмом подхвачены литературным сообществом, группирующимся вокруг «Современника».
Тургенев и Толстой. Уехав в 1848 году из Парижа – то есть от революции, Тургенев проводит 1849 год в Берлине и в 1850-м возвращается в Россию. Этим заканчивается период, когда Тургенев мог подвергаться непосредственному французскому влиянию. Он сосредоточивается и экспериментирует, давая уже новое по сравнению с его рассказами сороковых качество стиля.
На вопрос, когда именно появились «реалистические» в избранном нами узком смысле тексты, можно ответить с точностью: в 1851 году, когда Тургенев написал «Бежин луг». Ни в одном из предшествующих рассказов природа не дана так развернуто, хотя в «Касьяне с Красивой Мечи» (1851) уже есть дневной и ночной пейзаж, прописанный в мельчайших деталях. В «Певцах» (1850) сверхэкстенсивны описания крестьян, но пейзажные зарисовки выполнены еще в субъективно-романтических, метафорических тонах.
В рассказе «Бежин луг» Тургенев отвечает вовсе не на эстетический заказ французских глашатаев реализма, а, как и в остальных рассказах цикла «Записок охотника», скорее на своеобразный «заказ социальный». И западная интеллигенция, на которую во многом ориентировался Тургенев, и русское образованное общество желали знать о русском народе. Но этот «социальный заказ» он вписывает в свою собственную эстетическую систему.
Сюжету предпослано длиннейшее описание летнего дня, выполненное именно в интересующем нас новом стиле, но после этой прелюдии автор переводит повествование в романтический регистр: громоздит готические эффекты, описывая жуткий ночной лес и страшное ночное блуждание над бездной. Эта готика разрешается спуском с романтического плато на плоский и «приземленный» луг, где деревенские малые ребятишки коротают время в ночном, рассказывая фольклорные былички о привидениях и мертвецах. Однако все это совершенно не страшно, потому что рассказываются они «низким», отчасти юмористически воспринимающимся, бытовым языком, а самые рассказчики описаны суховато-фактографически, по-деловому[1 - Впоследствии, в «Призраках» Тургенев использует почти научную ботаническую номенклатуру и описания растений в качестве фона для оккультного полета героев, добиваясь контраста объективного описания природы с фантастикой происходящего.] – в «реалистической» манере, но резко контрастирующей с мистическим содержанием их рассказов.
Рассказ трехчастен: ясному аполлоническому «реалистическому» дню противополагается «романтическая» ночь, а эпизод у костра диалектически снимает это противопоставление в зыбком и двоящемся слиянии реальности/жути, веры/неверия, света (огня костра)/тьмы. И духовный мир русских крестьянских детей воспринят тоже как двойственный: и прекрасный, и ограниченный, убогий.
Так что «реализм» здесь лишь один из возможных модусов, меняющихся ракурсов, сам по себе он недостаточен, чтобы исчерпать бездонную реальность, осваиваемую диалектически. Поэтому Тургенев вовсе не принципиален и в своем «реалистическом» модусе.
Тургенев: старо-новая поэтика. Продемонстрируем это на отрывке, служащем в рассказе «увертюрой»:
Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело, величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кроткости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба <…>[2 - Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1954–1958. Т. 1 (1954). С. 159–160. Далее тома и страницы указываются по данному собранию сочинений в тексте.].
У романтиков, да и у Карамзина увертюрные отрывки – обычная вещь. «Увертюра» может быть посвящена пейзажу, истории или этнографии, или их сочетаниям, например историческому пейзажу, как в «Бедной Лизе». Но всегда главная роль ее – заявить о модальностях, которые будут продемонстрированы на других уровнях рассказа.
Основная модальность в данном отрывке – типизация: «один из тех дней, которые…» Это клише считалось ритуальной формулой Бальзака, оно было характерно для предыдущего, диккенсо-гоголевского этапа литературы. Типизация опирается на уже имеющиеся знания, что по определению противоречит непосредственному восприятию.
В описании Тургенева день характеризован не столько через его непосредственно воспринятые собственные черты, сколько через множественное отрицание, что также не является признаком «чистого» восприятия, реагирующего на то, что есть. Напротив, перед нами энциклопедия того, чего нет: «утренняя заря не пылает пожаром…»; «солнце – не огнистое, как во время знойной засухи…»; «не тускло-багровое, как перед бурей…»; «нигде не темнеет, не густеет гроза». Это прием «отрицательного ландшафта», который Михаил Вайскопф находит у Гоголя[3 - Вайскопф М. Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мертвых душах» // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 219–233.].
Повествование соскальзывает в «будущее время» реитерации, ожидаемости: «мирно всплывает… свежо просияет и погрузится» – и успокаивается вновь на типичности: «обыкновенно появляются и облака…» Изображается типичный день, и лишь в начале следующего абзаца автор переходит от его описания к единичному событию: «В такой точно день…»
Легкая персонификация с почтительной оценочностью тоже присутствует: солнце – «приветно лучезарное»; поднимается оно «весело и величаво, словно взлетая», «могучее светило». В подтексте этих стершихся метафор – привычное культурное представление об Аполлоне и его колеснице. И наконец, «тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем (небе) вечерняя звезда». Это мы ставим свечку кому надлежит – с благодарностью за то, что этот почти классический мир, такой устроенный, спокойный и приветный, кроток, как пастушок Венецианова: «…на всем лежит печать какой-то трогательной кротости». В нем и «ветер разгоняет зной», и даже вихри-круговороты потеряли свою фольклорную демоничность, гуляя по полям, будто барышни.
Как мы видим, из стиля этого отрывка, казалось бы парадигматического для «реализма», вовсе не полностью изгнаны традиция, метафоричность, мифологизм и другие признаки романтического повествования, как того требовали французские глашатаи реализма.
Тем временем пригождается накопленный в отрицательных клаузулах эффект экспертного знания предмета – в данном случае метеорологии и видов небесного ландшафта. Он тоже работает на ощущение познанности, предсказуемости мира, но с новым акцентом пользы, дельности сообщаемого знания. Акцент этот поддерживается в конце отрывка: «В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба». Вновь демонстрируется экспертное знание, но уже с идеологической разгадкой – это оказывается знание, необходимое для земледельца, что ориентирует рассказ в сторону прогрессивной социальной идеологии, столь важной для тургеневского имиджа. Направление в сторону Базарова взято.
Но «старые» модальности у Тургенева управляют новым визуальным материалом. «В такие дни краски все смягчены, светлы, но не ярки», – пишет Тургенев, и действительно, он демонстрирует умение видеть оттенки[4 - Впервые составные «оттеночные» цвета появляются у Тургенева, кажется, в «Свидании» (1850).]. Тут и сложные прилагательные для полутонов и нюансов: «золотисто-серые облака» и «цвет небосклона легкий, бледно-лиловый», и «лиловый туман», и дозированные «голубоватые» и «черноватые»[5 - Разумеется, новое есть хорошо забытое старое, новая русская литература в 1850-х открывала оттенки цветов (которые есть в античной поэзии), заново читая Державина: «На темно-голубом эфире…», «Из черно-огненна виссона…» («Видение мурзы»); «Желто-румян пирог…» («Евгению. Жизнь званская»). Державин еще и видел, как живописец: «И палевым своим лучом…» («Видение мурзы»). Это внимание к нюансам присуще материальной культуре конца XVIII века, различавшей и ценившей тонкие и смешанные оттенки тканей.]. Сюда же относится и акцентирование, усиление качеств до их превосходной степени: «бесконечно разлившейся реки», «глубоко прозрачные», не говоря уже о звуковых играх: «рукава ровной синевы». Вместе с этим демонстрируется умение характеризовать по двум несвязанным параметрам (например, «круглые высокие облака»). Впечатляет зоркость, замечающая, что облака «с нежными белыми краями». И однако эти «новые» штрихи вовсе не мешают Тургеневу для решающего мазка взять самый традиционный и «окультуренный» цвет, тянущий за собой классические и романтические ассоциации и сквозь них уходящий в мифологическую, религиозную, фольклорную лазурь! Облака «так же лазурны, как небо, насквозь проникнуты светом и теплотой». Это, конечно, теплота традиционного символизма, его золотистая патина (опять приходят на ум пейзажи Венецианова); но для новой волны это слово недопустимо: «…солнце пурпурное / Опускается в море лазурное», – издевался Некрасов («Размышления у парадного подъезда», 1858).
«Реалисты» во Франции с презрением отказывались от символической гаммы золото-лазурь-пурпур. У Тургенева канонический спектр приглушен – пурпур стал бледно-лиловым, золото – золотисто-серым (драгметаллы все же присутствуют в небе в виде змеек кованого серебра), но лазурь осталась, как осталась и древняя метафора неба как реки, вод сверху и снизу, восходящая к древнейшим архетипам «что вверху, то и внизу» мистической «Изумрудной скрижали». Перед нами вновь осторожное и умеренное сочетание нового и старого.
Толстой на фоне Тургенева. Толстой пишет «Набег» (1852, опубликован в 1853) после тургеневского «Бежина луга», он замечает свое «невольное подражание» Тургеневу и открыто это признает, посвящая старшему автору свой следующий рассказ «Рубка леса» (1852). Толстовскую новую манеру сближают с тургеневской «очерковые» черты: преобладание описаний пейзажей и действующих (вернее, почти недействующих) лиц и лишь рудиментарная сюжетность, с «сюжетным минимумом» в виде заявки на отмеченность некоего лица в начале или середине повествования и некоего события с участием этого лица в конце (мальчик Павел у Тургенева, Аланин у Толстого). Наконец, и у Толстого представлена идеология точного экспертного знания: ее проводят многочисленные местные речения и региональная ботаническая номенклатура.
Однако легко наблюдать и различия между поэтикой Толстого и Тургенева. Существенно, что у Тургенева вначале дается результат: «прекрасный июльский день», затем демонстрация отвергнутых вариантов и разработка частностей. То есть знание уже дано заранее, обобщено и иллюстрируется частными примерами. Если мы проследим за логическими приемами строения тургеневского абзаца, станет еще яснее, что перед нами новое описание, построенное по старому принципу.
Контрастом в этом плане оказывается «Набег» Толстого:
Дорога шла серединой глубокой и широкой балки, подле берега небольшой речки, которая в это время играла, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнце еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом, – одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром[6 - Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 2. М., 1960. С. 12.].
Этот отрывок показывает логическое построение, совершенно обратное тургеневскому: описание собирается из массы разнородных деталей, и лишь на основании всех данных выводится обобщение и суждение. Толстой как будто хочет сказать: нам не пригождается то, что мы уже знали, – ни персонификация сил природы, ни мифология. Не надо готовых выводов – мы выводим их заново из непосредственно увиденных частностей. У Толстого регистрируется то, что реально видит взгляд, и даже обыгрывается трудность отождествления видимого с уже имеющимся знанием (хотя отменить это знание ему пока не удается – мотивировки для такой отмены найдены будут позднее):
Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какой-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении (Там же).
Круг видимого (дорога, балка, река, голуби) расширяется по мере того, как освещается картина: следует перечисление цветных предметов на освещенной стороне – камней, мха, кустов, затем описание другой стороны, покрытой сплошной тенью, и, наконец, дальних гор на горизонте; включается слух: насекомые с их звоном, и обоняние – и все это итожится фразой, подобной той, с которой Тургенев начинал: «одним словом, пахло прекрасным летним утром». Толстой как бы отталкивается от типичности и предсказуемости тургеневского мира. Он заново собирает свой мир из только что увиденных частей, следуя, сознательно или нет, новым эстетическим принципам.
Однако между двумя системами есть и явное сходство в красках. Здесь и составные цвета: «желто-зеленый», «бледно-лиловый» (Шкловский не заметил лилового цвета у Тургенева, а считал его изобретением Толстого), «темно-зеленый» и др.; и дозированные оттенки: «серые и беловатые», «почти черного», «ярко-белые» и т. п.
Интересно, что и Толстой не может обойти без решающего традиционного штриха: фоном его пейзажа служит все та же лазурь, и тоже с компромиссным добавочным оттенком: «Прямо перед нами, на темной лазури горизонта…» Тут же и золото, опять, как и у Тургенева, нюансированное: «на прозрачном, золотистом свете восхода». Есть и привлечение двух несвязанных параметров: «туман волновался дымчатыми, неровными слоями».
Но есть здесь и новые по сравнению с тургеневскими идейные элементы: Толстой щеголяет точным видением сложного образа, сложного настолько, чтобы объявить его непередаваемым. Тем не менее он все-таки пытается передать его: например, теневая сторона лощины описана как «неуловимая смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого». То есть перед нами идеологическое обоснование нового принципа наблюдения. Толстой как будто говорит, что то, что мы видим, очень сложно, часто неуловимо, полно оттенков, спутанно, смешанно, но попытаться разобраться можно и нужно.
В описании пейзажа дважды повторяется фраза, которая этим подчеркиванием, может быть, выталкивается на роль идейную, становясь чем-то вроде толстовской формулы предлагаемой поэтики:
…с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями;
Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию (Там же).
Для того чтобы трезво разобраться в «неуловимой смеси», которой является реальность, требуется новая – ослепительная, поражающая – четкость зрения, его «чрезвычайная ясность»[7 - Этой программы, во многом экспериментальной, Толстой придерживаться не стал: он, когда было нужно, мог пронизать пейзаж сакральными обертонами, как в описании Бородинского поля в «Войне и мире», а мог и вовсе отказаться от визуальных красот, как в знаменитом утилитаристском описании весны в деревне в «Анне Карениной».].
Интересно, что на начало 1850-х именно написанный Толстым словесный пейзаж с его холодноватой, трезвой, «дневной» гаммой, «разбеленной» живописью, нюансированной сероватым и беловатым, и фотографической четкостью прорисовки оказался близок самоновейшим художественным принципам не только в европейской литературе (где он скорее задавал пример), но и натуралистическим поискам в европейской живописи. Зрительные новации Толстого указывает генеральное направление визуальности в обоих искусствах. Следовательно, разговор о «конвенциях реализма» уместен и перспективен.
2. Тургеневская девушка: постромантический портрет и мифопоэтика
Типологии. Выделение основных женских типов старо как мир – ср. библейские фигуры: добродетельная жена и блудница из Книги премудрости Соломоновой или возлюбленная сестра-невеста из Песни песней. Начиная с библейских Рахили и Лии и евангельских Марии и Марфы, тип (потенциальной) любовницы противопоставляется типу деятельной помощницы, (якобы) лишенной сексуальных амбиций, зато наделенной бытовыми, духовными или интеллектуальными дарованиями. Любые три сестры сводимы к двум (впрочем, как и три брата, из которых двое противостоят меньшому) – ведь третья сестра всегда либо старше, либо младше возраста любви, либо больна, либо почему-то не может влюбиться, а значит, не участвует в центральной дихотомии. Примеры общеизвестны: от пушкинских «Сказки о царе Салтане» или Татьяны и Ольги до гончаровских Веры и Марфиньки, толстовских Наташи Ростовой и Сони (старшая, Вера, быстро оказывается замужем и оттого выключена из основного действия) и чеховских трех сестер, где Ирина находится вне игры. Сюжет тут часто состоит в самом выявлении любовного потенциала, скрытого в, казалось бы, неподходящей сестре, как в случае с Татьяной или Верой.
Красота индивидуального. Цель этой работы – заново вглядеться в образы так называемых тургеневских девушек – прежде всего героинь трех романов: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», исходя из мысли, что Тургенев открыл новый формат изображения внешности. Попробуем соотнести наш предмет с уже известными изменениями в «фокусировке» женских образов, проступившими в литературе к тому периоду, когда Тургенев начал писать свои романы. В XVIII веке Лафатер говорит о неповторимости и уникальности каждого лица. У Ж. – Ж. Руссо идеализированный образ сменяется красотой индивидуальной личности. Дж. Вигарелло в «Искусстве привлекательности» пишет:
Письмо Сен-Пре, героя романа «Новая Элоиза», в котором он говорит о присланном ему портрете Юлии, сосредоточило в себе первые попытки осмыслить индивидуальную эстетику. <…> Главным образом он недоволен академизмом портрета, мешающим передать характерные приметы юной Юлии, ее особую, не укладывающуюся в канон красоту: художник не заметил даже, «что изящный изгиб от подбородка к щекам делает очертания не такими правильными, но еще более прелестными». Герой желает созерцать не идеальную красоту, а саму Юлию, ему важнее не то, что увековечивает, а то, что оживляет[8 - Вигарелло Дж. Искусство привлекательности. М., 2013. С. 136.].
Елена Д. Толстая
Научная библиотека
Книга Елены Д. Толстой «Игра в классики» включает две монографии. Первая, «Превращения романтизма: „Накануне“ Тургенева» рассматривает осовременивание и маскировку романтических топосов в романе Тургенева, изучает, из чего состоит «тургеневская женщина», и находит неожиданные литературные мотивы, отразившиеся в романе. Вторая монография, «„Тайные фигуры“ в „Войне и мире“», посвящена экспериментальным приемам письма Льва Толстого, главным образом видам повтора в романе (в том числе «редким» повторам как способу проведения важных для автора тем, звуковым повторам и т. д.); в ней также опознаются мифопоэтические мотивы романа и прослеживаются их трансформации от ранних его версий к канонической. В последней части книги публикуются разборы («Невеста» Чехова) и статьи о классиках русской прозы ХХ века, исследующие малоизвестную публицистику Алексея Толстого середины 1910-х, реминисценции из современных авторов у Булгакова, а также прототипы двух персонажей раннего Набокова.
Елена Д. Толстая
Игра в классики Русская проза XIX–XX веков
© Е. Д. Толстая, 2017
© А. В. Петров, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Часть 1
«Накануне» Тургенева: превращения романтизма
1. «С чрезвычайной ясностью», или Конвенции реализма
С начала 1850-х у Тургенева и Льва Толстого появляется особый описательный стиль, который станет товарным знаком русского нового, так называемого «реалистического» письма. Главное его формальное качество есть экстенсивность описаний, не связанных с сюжетом, а посвященных природе или погоде. Найти аналог подобным не связанным с сюжетом, «бескорыстным», невероятно подробным описаниям природы и погоды у реалистов-французов не удалось: Стендаль не описывал подробно природу, флоберовский реализм возник позже. Подобные экстенсивные пассажи – признак более раннего, романтического повествования, например экзотические виды американской природы в «Атале» и «Рене» Шатобриана, или темпераментно и мощно описанное растительное буйство острова Бурбон у Жорж Санд в «Индиане» (изображенное не по собственным впечатлениям, а «из вторых рук»), или развернутые пейзажные описания у Диккенса или Гоголя. Но в исследуемых нами текстах Тургенева и Толстого качественное наполнение описаний другое: новый слог противопоставляет себя романтизму, высмеивает романтические клише и конвенции, как бы подчеркивает свою трезвость, холодность, объективность, внеэмоциональность и демонстрирует экспертное знание. Это не фонтан субъективных фигур речи, а «прямой» визуальный материал, в котором скорее можно найти тематическое сходство с суховато-фактологичными пейзажами в более ранних английских романах – при их меньшей проработанности. Здесь можно говорить скорее о жанровом прецеденте путевых записок, географических описаний и т. д. В этом контексте принято упоминать о фактологичной и экстенсивной «Охоте на Кавказе» Николая Толстого, рано умершего старшего брата Льва Николаевича. Некоторое упреждающее сходство с нашими текстами есть и в пассажах «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» Сергея Тимофеевича Аксакова, где вздутым «гоголевским» языком излагаются информативные подробности об охоте и «уженье рыбы». Итак, главный принцип подобного текста есть романтическая экстенсивность описаний, наполненных бытовым, «близким» содержанием, что приблизительно означает отношение к своему и известному как к чужому и неизвестному.
Нельзя ли описать этот новый стиль как набор новых, альтернативных конвенций? В чем состоят его формальные и смысловые признаки – признаки «реализма»? Эти вопросы бегло очерчены в настоящем наброске.
Идейные установки новых зрительных восприятий принято искать у французов в художественной критике. Это очерки Жюля Шанфлери (псевдоним Жюля Флери-Юссона, 1820–1889) о Гюставе Курбе (1848), французском портретисте XVIII века Квентине де ла Туре и художниках-реалистах XVII века Лененах (1850). Именно Шанфлери требовал беспристрастия в оценках, объективности вместо типичности – то есть фотографизма, фактов, документальных свидетельств. Его лозунгом было изображение действительности такой, как она открывается «чистому», «искреннему», то есть непредвзятому взгляду. Такой «реализм» для своего поколения олицетворял Курбе. Эти идеи были с энтузиазмом подхвачены литературным сообществом, группирующимся вокруг «Современника».
Тургенев и Толстой. Уехав в 1848 году из Парижа – то есть от революции, Тургенев проводит 1849 год в Берлине и в 1850-м возвращается в Россию. Этим заканчивается период, когда Тургенев мог подвергаться непосредственному французскому влиянию. Он сосредоточивается и экспериментирует, давая уже новое по сравнению с его рассказами сороковых качество стиля.
На вопрос, когда именно появились «реалистические» в избранном нами узком смысле тексты, можно ответить с точностью: в 1851 году, когда Тургенев написал «Бежин луг». Ни в одном из предшествующих рассказов природа не дана так развернуто, хотя в «Касьяне с Красивой Мечи» (1851) уже есть дневной и ночной пейзаж, прописанный в мельчайших деталях. В «Певцах» (1850) сверхэкстенсивны описания крестьян, но пейзажные зарисовки выполнены еще в субъективно-романтических, метафорических тонах.
В рассказе «Бежин луг» Тургенев отвечает вовсе не на эстетический заказ французских глашатаев реализма, а, как и в остальных рассказах цикла «Записок охотника», скорее на своеобразный «заказ социальный». И западная интеллигенция, на которую во многом ориентировался Тургенев, и русское образованное общество желали знать о русском народе. Но этот «социальный заказ» он вписывает в свою собственную эстетическую систему.
Сюжету предпослано длиннейшее описание летнего дня, выполненное именно в интересующем нас новом стиле, но после этой прелюдии автор переводит повествование в романтический регистр: громоздит готические эффекты, описывая жуткий ночной лес и страшное ночное блуждание над бездной. Эта готика разрешается спуском с романтического плато на плоский и «приземленный» луг, где деревенские малые ребятишки коротают время в ночном, рассказывая фольклорные былички о привидениях и мертвецах. Однако все это совершенно не страшно, потому что рассказываются они «низким», отчасти юмористически воспринимающимся, бытовым языком, а самые рассказчики описаны суховато-фактографически, по-деловому[1 - Впоследствии, в «Призраках» Тургенев использует почти научную ботаническую номенклатуру и описания растений в качестве фона для оккультного полета героев, добиваясь контраста объективного описания природы с фантастикой происходящего.] – в «реалистической» манере, но резко контрастирующей с мистическим содержанием их рассказов.
Рассказ трехчастен: ясному аполлоническому «реалистическому» дню противополагается «романтическая» ночь, а эпизод у костра диалектически снимает это противопоставление в зыбком и двоящемся слиянии реальности/жути, веры/неверия, света (огня костра)/тьмы. И духовный мир русских крестьянских детей воспринят тоже как двойственный: и прекрасный, и ограниченный, убогий.
Так что «реализм» здесь лишь один из возможных модусов, меняющихся ракурсов, сам по себе он недостаточен, чтобы исчерпать бездонную реальность, осваиваемую диалектически. Поэтому Тургенев вовсе не принципиален и в своем «реалистическом» модусе.
Тургенев: старо-новая поэтика. Продемонстрируем это на отрывке, служащем в рассказе «увертюрой»:
Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело, величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кроткости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба <…>[2 - Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1954–1958. Т. 1 (1954). С. 159–160. Далее тома и страницы указываются по данному собранию сочинений в тексте.].
У романтиков, да и у Карамзина увертюрные отрывки – обычная вещь. «Увертюра» может быть посвящена пейзажу, истории или этнографии, или их сочетаниям, например историческому пейзажу, как в «Бедной Лизе». Но всегда главная роль ее – заявить о модальностях, которые будут продемонстрированы на других уровнях рассказа.
Основная модальность в данном отрывке – типизация: «один из тех дней, которые…» Это клише считалось ритуальной формулой Бальзака, оно было характерно для предыдущего, диккенсо-гоголевского этапа литературы. Типизация опирается на уже имеющиеся знания, что по определению противоречит непосредственному восприятию.
В описании Тургенева день характеризован не столько через его непосредственно воспринятые собственные черты, сколько через множественное отрицание, что также не является признаком «чистого» восприятия, реагирующего на то, что есть. Напротив, перед нами энциклопедия того, чего нет: «утренняя заря не пылает пожаром…»; «солнце – не огнистое, как во время знойной засухи…»; «не тускло-багровое, как перед бурей…»; «нигде не темнеет, не густеет гроза». Это прием «отрицательного ландшафта», который Михаил Вайскопф находит у Гоголя[3 - Вайскопф М. Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мертвых душах» // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 219–233.].
Повествование соскальзывает в «будущее время» реитерации, ожидаемости: «мирно всплывает… свежо просияет и погрузится» – и успокаивается вновь на типичности: «обыкновенно появляются и облака…» Изображается типичный день, и лишь в начале следующего абзаца автор переходит от его описания к единичному событию: «В такой точно день…»
Легкая персонификация с почтительной оценочностью тоже присутствует: солнце – «приветно лучезарное»; поднимается оно «весело и величаво, словно взлетая», «могучее светило». В подтексте этих стершихся метафор – привычное культурное представление об Аполлоне и его колеснице. И наконец, «тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем (небе) вечерняя звезда». Это мы ставим свечку кому надлежит – с благодарностью за то, что этот почти классический мир, такой устроенный, спокойный и приветный, кроток, как пастушок Венецианова: «…на всем лежит печать какой-то трогательной кротости». В нем и «ветер разгоняет зной», и даже вихри-круговороты потеряли свою фольклорную демоничность, гуляя по полям, будто барышни.
Как мы видим, из стиля этого отрывка, казалось бы парадигматического для «реализма», вовсе не полностью изгнаны традиция, метафоричность, мифологизм и другие признаки романтического повествования, как того требовали французские глашатаи реализма.
Тем временем пригождается накопленный в отрицательных клаузулах эффект экспертного знания предмета – в данном случае метеорологии и видов небесного ландшафта. Он тоже работает на ощущение познанности, предсказуемости мира, но с новым акцентом пользы, дельности сообщаемого знания. Акцент этот поддерживается в конце отрывка: «В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба». Вновь демонстрируется экспертное знание, но уже с идеологической разгадкой – это оказывается знание, необходимое для земледельца, что ориентирует рассказ в сторону прогрессивной социальной идеологии, столь важной для тургеневского имиджа. Направление в сторону Базарова взято.
Но «старые» модальности у Тургенева управляют новым визуальным материалом. «В такие дни краски все смягчены, светлы, но не ярки», – пишет Тургенев, и действительно, он демонстрирует умение видеть оттенки[4 - Впервые составные «оттеночные» цвета появляются у Тургенева, кажется, в «Свидании» (1850).]. Тут и сложные прилагательные для полутонов и нюансов: «золотисто-серые облака» и «цвет небосклона легкий, бледно-лиловый», и «лиловый туман», и дозированные «голубоватые» и «черноватые»[5 - Разумеется, новое есть хорошо забытое старое, новая русская литература в 1850-х открывала оттенки цветов (которые есть в античной поэзии), заново читая Державина: «На темно-голубом эфире…», «Из черно-огненна виссона…» («Видение мурзы»); «Желто-румян пирог…» («Евгению. Жизнь званская»). Державин еще и видел, как живописец: «И палевым своим лучом…» («Видение мурзы»). Это внимание к нюансам присуще материальной культуре конца XVIII века, различавшей и ценившей тонкие и смешанные оттенки тканей.]. Сюда же относится и акцентирование, усиление качеств до их превосходной степени: «бесконечно разлившейся реки», «глубоко прозрачные», не говоря уже о звуковых играх: «рукава ровной синевы». Вместе с этим демонстрируется умение характеризовать по двум несвязанным параметрам (например, «круглые высокие облака»). Впечатляет зоркость, замечающая, что облака «с нежными белыми краями». И однако эти «новые» штрихи вовсе не мешают Тургеневу для решающего мазка взять самый традиционный и «окультуренный» цвет, тянущий за собой классические и романтические ассоциации и сквозь них уходящий в мифологическую, религиозную, фольклорную лазурь! Облака «так же лазурны, как небо, насквозь проникнуты светом и теплотой». Это, конечно, теплота традиционного символизма, его золотистая патина (опять приходят на ум пейзажи Венецианова); но для новой волны это слово недопустимо: «…солнце пурпурное / Опускается в море лазурное», – издевался Некрасов («Размышления у парадного подъезда», 1858).
«Реалисты» во Франции с презрением отказывались от символической гаммы золото-лазурь-пурпур. У Тургенева канонический спектр приглушен – пурпур стал бледно-лиловым, золото – золотисто-серым (драгметаллы все же присутствуют в небе в виде змеек кованого серебра), но лазурь осталась, как осталась и древняя метафора неба как реки, вод сверху и снизу, восходящая к древнейшим архетипам «что вверху, то и внизу» мистической «Изумрудной скрижали». Перед нами вновь осторожное и умеренное сочетание нового и старого.
Толстой на фоне Тургенева. Толстой пишет «Набег» (1852, опубликован в 1853) после тургеневского «Бежина луга», он замечает свое «невольное подражание» Тургеневу и открыто это признает, посвящая старшему автору свой следующий рассказ «Рубка леса» (1852). Толстовскую новую манеру сближают с тургеневской «очерковые» черты: преобладание описаний пейзажей и действующих (вернее, почти недействующих) лиц и лишь рудиментарная сюжетность, с «сюжетным минимумом» в виде заявки на отмеченность некоего лица в начале или середине повествования и некоего события с участием этого лица в конце (мальчик Павел у Тургенева, Аланин у Толстого). Наконец, и у Толстого представлена идеология точного экспертного знания: ее проводят многочисленные местные речения и региональная ботаническая номенклатура.
Однако легко наблюдать и различия между поэтикой Толстого и Тургенева. Существенно, что у Тургенева вначале дается результат: «прекрасный июльский день», затем демонстрация отвергнутых вариантов и разработка частностей. То есть знание уже дано заранее, обобщено и иллюстрируется частными примерами. Если мы проследим за логическими приемами строения тургеневского абзаца, станет еще яснее, что перед нами новое описание, построенное по старому принципу.
Контрастом в этом плане оказывается «Набег» Толстого:
Дорога шла серединой глубокой и широкой балки, подле берега небольшой речки, которая в это время играла, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнце еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом, – одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром[6 - Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 2. М., 1960. С. 12.].
Этот отрывок показывает логическое построение, совершенно обратное тургеневскому: описание собирается из массы разнородных деталей, и лишь на основании всех данных выводится обобщение и суждение. Толстой как будто хочет сказать: нам не пригождается то, что мы уже знали, – ни персонификация сил природы, ни мифология. Не надо готовых выводов – мы выводим их заново из непосредственно увиденных частностей. У Толстого регистрируется то, что реально видит взгляд, и даже обыгрывается трудность отождествления видимого с уже имеющимся знанием (хотя отменить это знание ему пока не удается – мотивировки для такой отмены найдены будут позднее):
Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какой-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении (Там же).
Круг видимого (дорога, балка, река, голуби) расширяется по мере того, как освещается картина: следует перечисление цветных предметов на освещенной стороне – камней, мха, кустов, затем описание другой стороны, покрытой сплошной тенью, и, наконец, дальних гор на горизонте; включается слух: насекомые с их звоном, и обоняние – и все это итожится фразой, подобной той, с которой Тургенев начинал: «одним словом, пахло прекрасным летним утром». Толстой как бы отталкивается от типичности и предсказуемости тургеневского мира. Он заново собирает свой мир из только что увиденных частей, следуя, сознательно или нет, новым эстетическим принципам.
Однако между двумя системами есть и явное сходство в красках. Здесь и составные цвета: «желто-зеленый», «бледно-лиловый» (Шкловский не заметил лилового цвета у Тургенева, а считал его изобретением Толстого), «темно-зеленый» и др.; и дозированные оттенки: «серые и беловатые», «почти черного», «ярко-белые» и т. п.
Интересно, что и Толстой не может обойти без решающего традиционного штриха: фоном его пейзажа служит все та же лазурь, и тоже с компромиссным добавочным оттенком: «Прямо перед нами, на темной лазури горизонта…» Тут же и золото, опять, как и у Тургенева, нюансированное: «на прозрачном, золотистом свете восхода». Есть и привлечение двух несвязанных параметров: «туман волновался дымчатыми, неровными слоями».
Но есть здесь и новые по сравнению с тургеневскими идейные элементы: Толстой щеголяет точным видением сложного образа, сложного настолько, чтобы объявить его непередаваемым. Тем не менее он все-таки пытается передать его: например, теневая сторона лощины описана как «неуловимая смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого». То есть перед нами идеологическое обоснование нового принципа наблюдения. Толстой как будто говорит, что то, что мы видим, очень сложно, часто неуловимо, полно оттенков, спутанно, смешанно, но попытаться разобраться можно и нужно.
В описании пейзажа дважды повторяется фраза, которая этим подчеркиванием, может быть, выталкивается на роль идейную, становясь чем-то вроде толстовской формулы предлагаемой поэтики:
…с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями;
Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию (Там же).
Для того чтобы трезво разобраться в «неуловимой смеси», которой является реальность, требуется новая – ослепительная, поражающая – четкость зрения, его «чрезвычайная ясность»[7 - Этой программы, во многом экспериментальной, Толстой придерживаться не стал: он, когда было нужно, мог пронизать пейзаж сакральными обертонами, как в описании Бородинского поля в «Войне и мире», а мог и вовсе отказаться от визуальных красот, как в знаменитом утилитаристском описании весны в деревне в «Анне Карениной».].
Интересно, что на начало 1850-х именно написанный Толстым словесный пейзаж с его холодноватой, трезвой, «дневной» гаммой, «разбеленной» живописью, нюансированной сероватым и беловатым, и фотографической четкостью прорисовки оказался близок самоновейшим художественным принципам не только в европейской литературе (где он скорее задавал пример), но и натуралистическим поискам в европейской живописи. Зрительные новации Толстого указывает генеральное направление визуальности в обоих искусствах. Следовательно, разговор о «конвенциях реализма» уместен и перспективен.
2. Тургеневская девушка: постромантический портрет и мифопоэтика
Типологии. Выделение основных женских типов старо как мир – ср. библейские фигуры: добродетельная жена и блудница из Книги премудрости Соломоновой или возлюбленная сестра-невеста из Песни песней. Начиная с библейских Рахили и Лии и евангельских Марии и Марфы, тип (потенциальной) любовницы противопоставляется типу деятельной помощницы, (якобы) лишенной сексуальных амбиций, зато наделенной бытовыми, духовными или интеллектуальными дарованиями. Любые три сестры сводимы к двум (впрочем, как и три брата, из которых двое противостоят меньшому) – ведь третья сестра всегда либо старше, либо младше возраста любви, либо больна, либо почему-то не может влюбиться, а значит, не участвует в центральной дихотомии. Примеры общеизвестны: от пушкинских «Сказки о царе Салтане» или Татьяны и Ольги до гончаровских Веры и Марфиньки, толстовских Наташи Ростовой и Сони (старшая, Вера, быстро оказывается замужем и оттого выключена из основного действия) и чеховских трех сестер, где Ирина находится вне игры. Сюжет тут часто состоит в самом выявлении любовного потенциала, скрытого в, казалось бы, неподходящей сестре, как в случае с Татьяной или Верой.
Красота индивидуального. Цель этой работы – заново вглядеться в образы так называемых тургеневских девушек – прежде всего героинь трех романов: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», исходя из мысли, что Тургенев открыл новый формат изображения внешности. Попробуем соотнести наш предмет с уже известными изменениями в «фокусировке» женских образов, проступившими в литературе к тому периоду, когда Тургенев начал писать свои романы. В XVIII веке Лафатер говорит о неповторимости и уникальности каждого лица. У Ж. – Ж. Руссо идеализированный образ сменяется красотой индивидуальной личности. Дж. Вигарелло в «Искусстве привлекательности» пишет:
Письмо Сен-Пре, героя романа «Новая Элоиза», в котором он говорит о присланном ему портрете Юлии, сосредоточило в себе первые попытки осмыслить индивидуальную эстетику. <…> Главным образом он недоволен академизмом портрета, мешающим передать характерные приметы юной Юлии, ее особую, не укладывающуюся в канон красоту: художник не заметил даже, «что изящный изгиб от подбородка к щекам делает очертания не такими правильными, но еще более прелестными». Герой желает созерцать не идеальную красоту, а саму Юлию, ему важнее не то, что увековечивает, а то, что оживляет[8 - Вигарелло Дж. Искусство привлекательности. М., 2013. С. 136.].