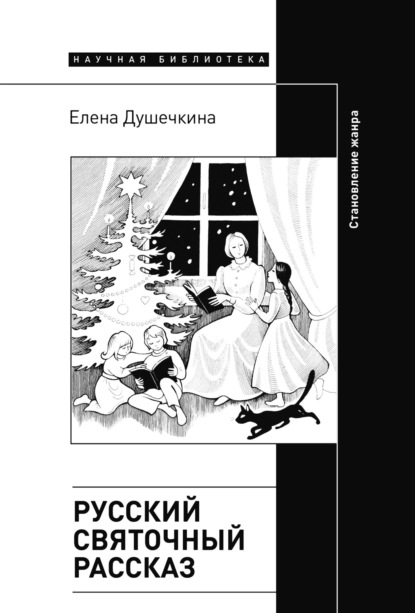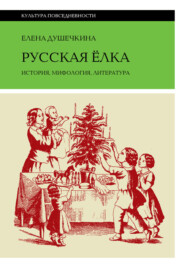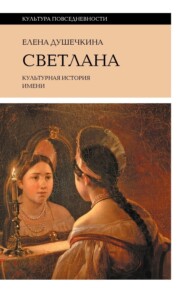По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский святочный рассказ. Становление жанра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы: играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках[225 - Карамзин Н. М. Избр. соч. Т. 1. С. 629.].
Этот фрагмент текста понадобился Карамзину для того, чтобы усилить важное для него национальное начало и придать воссоздаваемой им жизни больше целомудрия и патриархальности.
С конца XVIII века тема народных календарных праздников, и в особенности святок, становится сигналом принадлежности изображаемой в произведении жизни в русской патриархальной среде, и именно это провоцировало впоследствии читателей карамзинской повести воспринимать ее в «святочном ключе». Так, Н. В. Дризен сообщает, что переделанная в «героическую драму с хорами» «Наталья, боярская дочь» ставилась в саратовском театре[226 - Дризен Н. В. Материалы к истории русского театра. М., 1905. С. 265.]; в рассказе Ф. Миллера «Балканские кумушки» («Москвитянин», 1842) герои святочным вечером читают «прекрасную повесть» «Наталья, боярская дочь», рассматривая ее как самое подходящее для этого времени чтение[227 - Миллер Ф. Балканские кумушки // Москвитянин. 1842. Ч. 6. № 12. Смесь. С. 76–96.]; в 1805 году по мотивам повести Карамзина неизвестным композитором была сочинена одноименная опера, которая также исполнялась на святках. Все эти факты свидетельствуют о том, что «Наталья, боярская дочь», скорее всего без какого бы то ни было намерения со стороны ее автора, воспринималась читателями как произведение, «подходящее» к святкам. Обращение Карамзина к подобного рода сюжетам объясняется также его интересом к переработке исторических и семейных преданий. Иногда с «Повестью о Фроле Скобееве» связывают и семейное предание о женитьбе увозом петровского любимца рынды Панкратия Богдановича на дочери боярина Никиты Ивановича Зиновьева[228 - См. текст этого предания: Сумароков А. Записки отжившего человека // Вестник Европы. 1871. Т. 4. С. 694–696.].
Сюжет «Повести о Фроле Скобееве» оказался достаточно привлекательным: к его переработке не раз обращались и литераторы более позднего времени. Скорее всего, или «Фролом Скобеевым», или же переделкой Новикова воспользовался и М. П. Погодин при создании повести «Суженый» (см. об этом ниже), а в конце 1860?х Д. В. Аверкиев создал на ее основе «Комедию о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардына-Нащокина дочери Аннушке»[229 - См.: Аверкиев Д. В. Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и о стольничей Нардына-Нащокина дочери Аннушке // Заря. 1868. № 1. С. 1–129.], которая не без успеха шла на сценах многих театров России. Здесь драматург еще в большей степени, чем И. Новиков, обращает свое внимание на святочный эпизод и стремится как можно более точно передать этнографические детали. При этом он вносит в сюжет определенные изменения: герой появляется перед героиней не в «девичьем уборе», как это было в «Повести о Фроле Скобееве» и в переделке И. Новикова, а переряженный в бабку-ворожею. Чтобы не быть узнанным, он выбеливает усы замазкой, завязывает под самым носом платок и долго учится сидеть по-женски: «Ноги меня не слушают, все врозь едут, – жалуется он сестре. – Не умею по-вашему, по-женски сидеть. Примеривался на сундуке – не умею»[230 - Аверкиев Д. В. Драмы. СПб., 1887. Т. 1. С. 193.]. Видимо, эта замена была вызвана осознанием неправдоподобия эпизода с переодеванием в «Повести о Фроле Скобееве», где молодой человек в женском платье проводит несколько дней среди девушек, и никто за это время не признает в нем мужчину. Даже если допустить, что Фрол, московский подьячий конца XVII века, брил бороду, что уже практиковалось в то время, все равно картина представляется маловероятной: ведь Фрол пробыл в доме Нардина-Нащокина три дня. Напомню, что именно на бритье бороды попалась «служанка» в «Домике в Коломне» Пушкина, что вызвало пассаж о специфике «мужской природы»:
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской…[231 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 4. С. 39; М. И. Пыляев, пересказав один исторический анекдот о переодевании героя в платье служанки, высказал предположение, что Пушкин воспользовался им в поэме «Домик в Коломне»; см.: Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. М., 1990. С. 5.]
Что же касается «Повести о Фроле Скобееве», то ни авторы, ни читатели, ни иллюстраторы не заметили (или не захотели заметить) этой несуразности. На иллюстрациях (опыт композиции на слова «Повести») в популярном издании Б. И. Дунаева 1916 года художник Н. Фрейман изобразил Фрола хоть и с жиденькой, но все-таки с бородой[232 - См.: Библиотека старорусских повестей. Вып. 4. История о Российском дворянине Фроле Скобееве. М., 1916.].
В «Повести о Фроле Скобееве», как и в произведениях устного народного творчества, простая мена одежды делает человека неузнаваемым. Для Аверкиева, ориентированного на эстетику середины XIX века, эта мотивировка оказалась явно недостаточной, и поэтому он заменяет ее более правдоподобной с точки зрения здравого смысла, тем более что новый «костюм» Фрола вовсе не нарушал святочного колорита текста: переодевание молодых людей в стариков и старух практиковалось не в меньшей степени, чем переряживание в костюм противоположного пола или игра в свадьбу[233 - См.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. С. 115.]. Характерна в этом отношении реакция критики на постановку комедии Аверкиева: в 1876 году юмористический журнал «Стрекоза» помещает карикатуру на афишу спектакля и заметку, в которой высмеивается как само название комедии, представляющее собой стилизацию названий древнерусских повестей, так и ее сюжет, включающий в себя двукратное переодевание героя, что представляется автору заметки полной нелепостью: «…а на долю одного [актера. – Е. Д.] выпадает то и дело переодеваться; раз – для того, чтобы устроить свидание, два – для того, чтобы устроить похищение». Эта заметка свидетельствует о том, что карикатурист не сумел (или не смог) понять ориентации сюжета на святочную традицию. Впрочем, он имел на это основание, так как комедия была поставлена не на святках: «Если бы еще бенефис г. Виноградова, – замечает он, – случился на праздниках, мы бы понимали это „переряжение“, но после праздников это непонятно»[234 - Стрекоза. 1876. № 6. С4.].
Последнее обращение к сюжету «Фрола Скобеева» датируется пятидесятыми годами нашего столетия, когда советский композитор Т. Н. Хренников сочинил комическую оперу, которая неоднократно ставилась на сценах советских театров.
«Святочные истории» в журнале М. Д. Чулкова «И то и сио»
Говоря о святочной традиции в русской литературе XVIII века, нельзя пройти мимо журнала М. Д. Чулкова «И то и сио», который представляет несомненный интерес как первый опыт русского периодического издания, построенного по календарному принципу. Чулков незамедлительно откликается на призыв Екатерины II во «Всякой всячине» следовать ее примеру и уже 13 января 1769 года выпускает первый номер еженедельника, которому он дает перекликающееся с екатерининским журналом название – «И то и сио»[235 - См. о нем: Степанов В. П. Новиков и Чулков (Литературные взаимоотношения) // Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976. С. 49–76.]. Обычно журнал Чулкова рассматривался с точки зрения той роли, которую он сыграл в журнальной полемике 1769 года: как полагают исследователи, Чулков не имел своей общественно-литературной платформы, «был писателем вне группировки»[236 - См.: Шкловский В. Б. Чулков и Левшин. Л., 1933. С. 79; см. также: Западов А. Журнал М. Д. Чулкова «И то и сьо» и его литературное окружение // XVIII век. М.; Л., 1940. Вып. 2. С. 104; История русской литературы. М.; Л., 1947. Т. 4. Ч. 2. С. 271.], первое время позволял себе иронизировать над «Всякой всячиной», потом же, со второй половины года, когда журнальная обстановка изменилась, поддерживал ее. Фольклористы и этнографы видят ценность чулковского журнала в обильно использованном фольклорно-этнографическом материале. Действительно, в этом отношении «И то и сио» беспрецедентен не только для своего времени, но и для всего XVIII века. Частично перепечатанный в нем, выпущенный еще в 1769 году «Краткий мифологический лексикон»[237 - См.: Краткий мифологический лексикон. СПб., 1767; см. также: Абевега русских суеверий, идолопоклоннических приношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч., сочиненная М. Чулковым. М., 1786.], материалы по этнографии русской свадьбы, обширные публикации народных песен, пословиц и поговорок делают его ценным источником по XVIII веку, достаточно бедному этнографическими и фольклористическими материалами. Неудивительно поэтому, что А. Н. Пыпин, назвав Чулкова первым русским этнографом, дал ему следующую характеристику:
Замечательным работником в этой области был трудолюбивый, довольно талантливый писатель Михайло Дмитриевич Чулков (ум. 1793), московский студент и сенатский секретарь, рассказчик не без юмора и, видимо, большой любитель народной старины. Труды его дают образчик тогдашних этнографических понятий[238 - Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. 1. С. 65.].
Но ценность журнала «И то и сио» состоит не только в наличии фольклорно-этнографического материала, но и в способах его распределения. Выпуская журнал еженедельно, Чулков связывает каждый номер с тем календарным периодом, на который приходится данный выпуск. «И то и сио», таким образом, реагирует на все главные русские календарные (народные и церковные) праздники. Так, в пятом выпуске дается аллегорическое описание Масленицы, навеянное лубочными изображениями Масленицы[239 - См.: Путилов Б. Н. О журналах Чулкова («И то и се» и «Парнасский щепетильник») // Учен. зап. / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. 1940. Т. 29. С. 105.], в «пасхальном» – «Стихи на качели», в которых представлена «маленькая бытовая зарисовка пасхального гулянья»[240 - См.: Виднес М. В., Степанов В. П. Неизвестная ода М. Д. Чулкова // Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976. С. 172.], в «троицком» приводятся «Стихи на Семик» и т. п. Тем самым публикуемый Чулковым материал оказывается календарно обусловленным. Подобного рода структуры журналы XVIII века не знали. Они заполнялись материалами, не связанными с календарными датами, и либо отражали ход мысли издателя, либо реагировали на внешние, общественные события и на материал других периодических изданий[241 - Исключение из этого правила представляют поздравления с Новым годом, довольно часто встречающиеся в первых номерах журналов; см., например: «Всякая всячина». 1769. Один из первых юмористических журналов екатерининского времени. М., 1893. С. 82, где приводятся поздравления, надежды и обещания на Новый год, видение о будущем и т. п.; «Трутень, еженедельное издание на 1770 год» (СПб., 1770. Л. 1), где Н. И. Новиков приводит «старинную присловицу» «В новой год новое щастие» [курсив Н. Н.], «которая и поныне у всех на языке»; «Живописец Н. И. Новикова». 1772–1773. СПб., 1864. Лист 19, где помещаются стихи В. Петрова «На Новый 1773 год» и некоторые другие. Выходивший недолго (чуть более месяца) журнал В. В. Тузова «Поденьщина», кажется, подобно журналу Чулкова, обещал стать «календарным», но прекратился ранее, чем проявил себя достаточно полно; см.: Поденьщина. Сатирический журнал Василия Тузова. 1769. Переиздание А. Афанасьева. М., 1858; о нем см.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 242–244.].
Что же побудило Чулкова придать своему еженедельнику календарную структуру и наполнить его фольклорными и этнографическими сведениями? Видимо, главную роль в этом сыграла ориентация на определенного читателя: Чулков адресует свой журнал широким демократическим слоям городского населения – «малосмысленным людям», по его собственному определению. «Гостинодворцы», городское мещанство, купечество, актеры, ремесленники – эти, как говорил Н. И. Новиков, «простосердечные люди» именно к середине XVIII века начинают постепенно приобщаться к чтению. На них-то Чулков и рассчитывает, к ним он, сам разночинец, причисляет и себя. Обычным «чтивом» этой группы читателей была рыночная лубочная литература, сознательную связь с которой Чулков неоднократно обнаруживает в своем журнале. Он подчеркнуто и демонстративно называет источником своего образования лубочную продукцию: именно из нее «набрался» он «разума, чистого слога, изрядных замыслов и удивительного к истории расположения» («И то и сио», 46-я неделя). Чулков по интеллектуальному развитию и эрудиции стоит неизмеримо выше своего читателя. Его произведения обнаруживают знакомство с широким кругом литературы – античной, западноевропейской, русской[242 - О начитанности Чулкова см.: Сиповский В. В. Очерки по истории русского романа. Т. 1. Вып. 1. С. 588; Шкловский В. Б. Чулков и Левшин. С. 109; Гаррард Дж. «Русский Скаррон» (М. Д. Чулков) // Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. С. 178–185.], но Чулков – издатель журнала «И то и сио» сознательно низводит себя до уровня своего адресата, как бы подделываясь под его вкусы, чтобы создать «повествования, которые рассказывают в каждой харчевне»[243 - <Чулков М. Д.> Русские сказки. М., 1780. С. 83; см. об этом: Трубицын Н. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XVIII века. С. 187.]. Именно это приводит Чулкова к необходимости придать журналу привычный для демократического городского и сельского населения календарный ритм. Отсюда и публикация в соответствующих выпусках материалов, связанных с календарными праздниками. Цель этих материалов – в создании или в поддержании праздничных эмоций, а по необходимости – и в обучении полузабытому праздничному этикету: «Знающие все оные обряды девицы могут увеселяться моими упоминаниями, а которые совсем их позабыли, те могут припомнить», – пишет Чулков («И то и сио», 46-я неделя).
Особенно обилен календарный материал в последних номерах журнала. Еще задолго до наступления святок, самого любимого в народе и богатого в обрядовом отношении календарного праздника, Чулков начинает помещать святочные материалы. Он считает необходимым подготовить своих читателей к святкам, видимо, справедливо полагая, что в городе святочные обряды начинают постепенно забываться и исчезать. Чулков публикует двадцать подблюдных песен, подробно и тщательно описывает способы гаданий, в которых он великолепно ориентируется, приводит большую группу пословиц, относящихся к святкам, и наконец, дает читателю возможность познакомиться с «краткими замысловатыми историями», в которых описываются происшествия, имевшие место на святках.
Эти «истории» представляют несомненный интерес как одна из первых попыток создания литературного святочного рассказа. Их истоки, судя по всему, следует искать в устных рассказах – святочных быличках, тех, что широко бытовали в народе и повсеместно рассказывались в период «страшных» святочных вечеров. Как уже отмечалось, быличками фольклористы начали интересоваться поздно – лишь в конце XIX века; к этому времени относятся и первые их записи. Но судя по литературным произведениям, в которых они использовались, эти тексты сюжетно не претерпели серьезных изменений. Поэтому полагаю, что сопоставление «святочных историй» Чулкова с быличками, записанными в конце XIX – начале XX века, вполне правомерно.
Я уже говорила о том, что устные святочные рассказы по преимуществу посвящены описанию встреч с «нечистой силой», которая наиболее активно проявляет себя на святках. Судя по «Пересмешнику» (новеллы о мертвецах) и журналу «И то и сио» (святочные истории), Чулков был хорошо знаком с подобного рода «страшными» рассказами, но в его переработке устные тексты приобретают иной смысл. Прежде чем продемонстрировать те способы, которые использует Чулков для литературной обработки, приведу их краткий пересказ[244 - См. недавнее переиздание «святочных историй» Чулкова в книге: Чулков М. Д. Пересмешник / Подгот. текста и автор вступ. статьи М. Б. Плюханова. М., 1990.].
Первая история повествует о «некотором молодце», который для того, чтобы завоевать сердце своей возлюбленной, приходит на святочную вечеринку «в женской одежде и под именем девицы» (вспомним «Повесть о Фроле Скобееве» и «Новгородских девушек святочный вечер» Ивана Новикова[245 - Высказывалось мнение о сюжетной зависимости этой «святочной истории» Чулкова от «Повести о Фроле Скобееве» и переделки И. Новикова; см.: Русская литература и фольклор (XI–XVIII вв.). Л., 1970. С. 233. Ср. также повесть М. П. Погодина «Суженый», в которой молодой человек прячется в помещении, где гадает на святках его возлюбленная, и затем является перед ней в зеркале в образе «суженого»: Погодин М. П. Повести. Драма. М., 1984. С. 195.]). Когда девушки начинают гадать, он прячется за печкой в той горнице, где происходят гадания, и является возлюбленной в образе суженого. Девушка «пленяется» его обликом, но «увидя ево в женском платье», приходит в страшное смущение. В конце концов все выясняется к обоюдному удовольствию, и, как пишет автор, «по окончании девятимесячного срока услышали плач явившегося на свет младенца».
Во второй истории дочка некоего подьячего «вызывает на ужин суженого», и когда «некто» является к ней и втыкает по обычаю нож возле своей тарелки, гадальщица падает в обморок и надолго теряет дар речи. «Через два месяца помощию лекарей стала она говорить и себя помнить» и с тех пор, бывая наедине с мужчиной, всегда выясняет, не он ли приходил к ней ужинать на святках.
В третьей истории богатый помещик, в доме которого всегда присутствовало много девиц, на святках идет с двумя девушками к проруби «на чертях покататься». Они расстилают около проруби воловью кожу и, очертившись Васильевским огарком, ждут «демонов». Из проруби выскакивает четверо «робят», которые начинают катать на коже помещика с девицами по всей окрестности. В результате одна из девушек упала, сильно ушибла себе ногу, помещик тоже свалился, и его нашли только на следующее утро «в гораздо потревоженном состоянии», в то время как вторая девушка, любовница помещика, «очутилась в своей деревне ничем не вредима и в добром здоровье» («И то и сио», 47-я и 49-я недели).
Все эти истории напечатаны в «святочных» номерах чулковского журнала и потому предназначены для чтения на святках. Повествуют они о событиях, которые произошли во время святочных гаданий. Чулков тщательно описывает способы гаданий, которые читателям могут оказаться неизвестными. В первой истории используется гадание на зеркале:
Ставят зеркало на стол и по сторонам ево свечи, садится перед ним девушка и загадывает так: суженой, ряженой, покажися мне в зеркале. За четверть часа перед ево приходом, начинает зеркало тускнеть, а девушка протирает ево нарочно изготовленным к тому полотенцем. Наконец придет некто и смотрится через ее плечо в зеркало, и когда девушка разсмотрит все черты ево лица, тогда закричит чур сево места [курсив М. Ч.], то дьявол тот, который принимал на себя образ ее жениха, пропадает.
Во второй истории описано гадание, называемое «приглашение суженого на ужин»:
Тамо обыкновенно набирают на стол и кладут только два прибора и то без ножей. Пришла она туда в великом страхе, как завсегда оное водится, села за стол и сказала, суженой, ряженой, приди ко мне ужинать [курсив М. Ч.].
В третьей истории используется достаточно редкое гадание на воловьей коже:
А сие катание происходит таким образом. Берут девушки воловью кожу, таскают ее к продуби, и тамо севши на нее, очерчиваются огарком, нарочно к тому изготовленным, а оной огарок великую имеет силу, понеже горит он в такой день, который называется у девушек особливым для открытия их участи. Из пролуби же выходят водяные демоны и возят их столько, сколько им угодно, и во время оное гадают девушки не о чем ином, как только о своих женихах.
Сюжеты устных святочных историй о гадании на зеркале и приглашении суженого на ужин были широко распространены и многократно использовались в литературных произведениях. Ввиду наибольшей распространенности этих гаданий в святочном быту они чаще всего встречаются и в быличках[246 - См.: Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1987. С. 294–304.]. Сюжет о гадании на воловьей шкуре/коже также известен, хотя пользовались этим гаданием гораздо реже ввиду большей его опасности (см. повесть А. А. Марлинского «Страшное гаданье», где герой идет на кладбище гадать на воловьей коже[247 - О гадании на воловьей коже/шкуре см.: Сахаров И. П. Сказания русского народа. СПб., 1836. Ч. 1. С. 146; Пр<еображен>ский Н. Баня, игрище, слушанье и шестое января // Современник. 1864. Т. 10. С. 519.]). Появление «нечистой силы» (здесь – «дьявола», «демона»), как и в быличках, приводит гадальщиков в шоковое состояние. Во второй и третьей историях они расплачиваются за свое рискованное предприятие тяжелой болезнью.
Таким образом, сюжетно чулковские истории имеют много общего с устными святочными рассказами-быличками: гадание, появление «нечистой силы», потрясение от встречи с ней, последствия этой встречи. Но при всем том истории Чулкова, в отличие от быличек, производят комическое впечатление: они не только не пугают читателя, но смешат его. Именно этого эффекта Чулков и добивался:
Только не испужайся, – обращается он к читателю, приступая к рассказыванию этих «историй». – Тут будет много страшного, но естьли правду выговорить, то больше будет смешнова, а когда мы с тобой расхохочемся, то, конечно, позабудем страшиться («И то и сио», 46-я неделя).
Страх побеждается смехом – такова установка автора.
Каким же образом Чулков добивается комического эффекта? Механизм его юмора достаточно сложен. Многие материалы в журнале, в том числе и святочные истории, написаны в стиле легкой, ни к чему не обязывающей болтовни. Чулков попросту, как бы мы сейчас сказали, треплется, беспрестанно балагуря и ерничая. Он занимается, по его собственному признанию, «пустословием», перемежая свою болтовню изречениями, которые в контексте этой болтовни получают иронический смысл: «Где разум сопряжен вместе с красотою, туда мысли и сердце поневоле стремятся»; «Человек животное весьма замысловатое»; «Что возможно, то станется, а чево неможно, то никогда не сделается». В русской традиции гномическая речь издавна служила излюбленным приемом создания комического эффекта[248 - См. об этом: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. С. 21.].
Если В. В. Сиповский сожалел о том, что Чулкову недостает «серьезности»[249 - Сиповский В. В. Очерки по истории русского романа. Т. 2. С. 588.], то В. Б. Шкловский, напротив, ценил журнал Чулкова именно за «веселость» – за то, что в нем слышится «свободный голос, веселый, иронический…»[250 - Шкловский В. Б. Чулков и Левшин. С. 72.]. Шкловский видел в Чулкове человека, «который превосходно умеет переключить старый материал»[251 - Там же. С. 73.]. «Переключить старый материал», по Шкловскому, – это значит использовать старую форму в новых целях, по существу изменив ее жанр. Создавая свои «святочные истории», Чулков именно «переключает старый материал» быличек, придавая им новый тон и новый смысл. Серьезная, претендующая на безусловное доверие к себе быличка превращается под пером Чулкова в описание смешного случая, который то ли был, то ли не был, а если и был, то его можно интерпретировать и так, и эдак. Автор пересказывает якобы слышанные им рассказы, в которые он не очень-то и верит, да и читателя не стремится убедить в их истинности. Он может указать на невыясненность факта и сослаться на мнение очевидцев, при этом устранившись от высказывания собственного мнения: «Тускло у нее зеркало или нет, об етом я не известен; но только знаю то, что молодец тронулся из?за печки…»; «По словам ее, пришол к ней некто, а кто таков сей некто, тово я не знаю…»; «…однако я тово не утверждаю, опять и опровергать не смею». Но автора и не волнуют проблемы верификации: «…а я никакой нужды в том не имею», – говорит он, перечислив различные точки зрения на случившееся и не высказав собственной.
Тем самым голос автора оказывается не только ироничным, но и зыбким, неопределенным – о чем-то автор знает, о чем-то не знает, о чем-то умалчивает, а о чем-то и не хочет знать. Эта неопределенность оставляет впечатление некоторой шутливой таинственности, невыясненности причин событий и их хода. Она поддерживается и усиливается обилием мнений, слухов и толков: «Вся деревня утверждала <…>. А те люди, которым случалось бывать в городах, шептали между собою <…>. Любовница ево иногда об нем жалела»; «По словам ее пришел к ней некто, а кто таков сей некто, тово я не знаю; уверяют девки и старухи, что будто приходит дьявол…» и т. д.
Ироническое отношение к гадальщикам и гаданию вообще сказывается в том, что все три случая представлены как розыгрыши, в большей или меньшей степени раскрытые автором читателю. В рассказе «о молодце в женском платье» читатель с самого начала знает, что гадальщицу разыгрывает влюбленный в нее юноша с целью завоевать ее сердце. В рассказе о «гадании на воловьей коже» автор достаточно прозрачно намекает на то, что помещика разыгрывает его любовница, организовавшая катанье, от которого пострадали все его участники, кроме ее самой. В последней истории «о дочке подьячего» намек на розыгрыш совсем смутен – он содержится в авторском признании своей некомпетентности («По словам ее, пришел к ней некто, а кто таков сей некто, тово я не знаю») и в иронической отсылке на свидетельство гадальщицы, а также на мнение «девок и старух». Превратив сюжет о святочном гадании в сюжет о розыгрыше гадальщиков, Чулков тем самым аннулирует смысл быличек и создает произведение нового жанра – рассказ о забавном случае на святках, святочный анекдот. Анекдотический характер повествования усиливается некоторой затемненностью и двусмысленностью финалов. Однако разрушая жанр былички, Чулков не порывает полностью с устной традицией – он остается верен народному представлению о святках как о времени «страшном» и «смешном», трагическом и комическом одновременно, что проявлялось и в самой процедуре проведения святочного ритуала, и в рассказывании на святках, наряду с серьезными, веселых юмористических историй (псевдобыличек)[252 - См., например: РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 631. Л. 44; Д. 11. Л. 3–3 об.].
В исследовательской литературе уже отмечалось, что журнал «И то и сио» служил Чулкову «пробной лабораторией», которую он использовал для выработки оригинальных русских форм повествования[253 - См.: Западов А. Журнал М. Д. Чулкова «И то и сьо» и его литературное окружение. С. 95.]. Вполне профессионально ориентируясь в традиционных жанрах устной словесности, Чулков трансформирует эти жанры с целью создания юмористического рассказа. В конце 1760?х годов его серьезно занимают вопросы комического, что отразилось и в «Пересмешнике», и в еженедельнике, и отчасти – в «Пригожей поварихе». Получивший от современников имя «русского Скаррона», Чулков, как справедливо отмечает Дж. Гаррард, широко использует прием «self-conscious narrator» (ирония автора по отношению к собственному повествованию)[254 - Гаррард Дж. «Русский Скаррон» (М. Д. Чулков). С. 183.]. Но ирония Чулкова, как представляется, обладает гораздо большей универсальностью: он ироничен к себе, к своему повествованию, к своим героям и, наконец, к тому жизненному материалу, который лежит в основе его рассказов.
Святочные истории Чулкова, будучи помещенными в «святочных» номерах журнала «И то и сио», подчиненного ритму календарных праздников, представляют собой первые опыты одного из самых излюбленных жанров массовой беллетристики – святочного рассказа, становление и расцвет которого пришелся на период нового бурного роста массовой периодической печати – через сто лет после старательных, смешных, ироничных и наивных опытов Чулкова.
Святочная драматургия XVIII века
Святочная словесность XVIII века включает в себя большое количество драматических текстов. Русский народный театр издавна знал святочные действа: обычно именно на святках ставились такие пьесы, как «Царь Максимилиан», «Лодка» («Шлюпка»), «Шайка разбойников», «Мнимый барин», «Маврух», «Параша»[255 - О связи народного театра со святками существует обширная литература; см., например: Васильев М. К. Из истории народного театра // Этнографическое обозрение. 1898. № 1. С. 79; Виноградов Г. С. Материалы для народного календаря русского старожилого населения Сибири. Иркутск, 1918. С. 33; Ончуков Н. Е. Народная драма на Севере // Известия ОРЯС. Т. 14. Кн. 4. 1909.]. М. Б. Плюханова отметила неслучайность этого факта: приуроченные к дню поминовения святых младенцев, «иже Христа ради избиенные от Ирода» (29 декабря), сцены с казнями и кровопролитиями получали тем самым обрядово-символический смысл. «Русская традиция, используя для святочной игры „Царя Максимилиана“, – пишет М. Б. Плюханова, – создала таким образом особый вид обрядового действа – не казнь младенцев, как у соседних народов, а убийство сына-царевича»[256 - Плюханова М. Б. Мифологема сыновней жертвы в государственно-историческом сознании Московского царства // Механизмы культуры. М., 1990. С. 169.]. Однако все эти тексты, будучи прочно связанными со святками типом отношения к жизни (насмешкой над старостью, смертью, обманутым мужем и пр.), тем не менее не имели святочного сюжета. К постановкам народного театра примыкают и кукольные представления – рождественские драмы и вертепные действа, о чем подробно пишет В. Н. Перетц в своем фундаментальном исследовании «Кукольный театр на Руси»[257 - См.: Перетц В. Н. Кукольный театр на Руси: Исторический очерк. СПб., 1895. С. 15–16; см. также: Малинка Л. Из истории народного театра // Этнографическое обозрение. 1897. № 4. С. 37–56; Виноградов Н. Великорусский вертеп. СПб., 1906; Мезерницкий П. Народный театр и песни в г. Стародубе Черниговской губ. // Живая старина. 1909. № 1. С. 80–89. Иногда кукольные представления устраивались на святках цыганами; см.: Герман А. В. Цыганы вчера и сегодня. М., 1931. С. 36.].
Святочная и рождественская драматургия нефольклорного происхождения возникает в конце XVII – начале XVIII века под влиянием западноевропейских рождественских мистерий. В этот период рождественские мистерии часто представляются «компаниями возрастных школьников и подьячих»[258 - См.: Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. 2. С. 452; См. также: Галаган Г. П. Малорусский вертеп // Киевская старина. 1882. Т. 4. С. 5; Старинный театр в России. Пг., 1923; Елеонский С. Ф. Из истории русско-украинских отношений в русской литературе XVII – первой половины XIX в. // Учен. зап. / Моск. гор. пед. ин-т им. В. М. Потемкина. 1955. Т. 48. Вып. 5. С. 59–75; Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977. С. 143.], причем со временем религиозные «действа» начинают переплетаться и скрещиваться с народными пьесами[259 - См.: Елеонский С. Ф. Из истории русско-украинских отношений в русской культуре XVII – первой половины XIX в. С. 47–80.]. Эта традиция разыгрывания комедий на святках была жива еще в начале XIX века: «…в университете тогда было также много охотников до театра, и студенты сами разыгрывали на святках пьесы под руководством двух братьев Сандуновых…»[260 - Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета. М., 1855. Ч. 2. С. 234.].
Со второй половины XVIII века появляются комедии и комические оперы, либо изображающие святки, либо связанные с ними сюжетно. Примером такого рода произведений может послужить упоминавшаяся выше анонимная комедия в одном действии 1774 года «Игрище о святках». Героиня комедии Татьяна, молодая жена старого «господина», пытается на святочном игрище устроить свидание со своим возлюбленным Александром. Ее муж Симон долго не соглашается на организацию в его доме игрища, из?за чего возникает бурный спор, в котором принимают участие почти все действующие лица (Татьяна, Симон, его сестра Фетинья, учитель). В конце концов молодые побеждают, и Татьяна во время игры в жмурки, когда у Симона были завязаны глаза, встречается с Александром. Симон, сорвав с глаз повязку, начинает драку со своим соперником. Позванные караульные выгоняют из дома всех, кроме забравшегося под стол учителя. Торжество молодости – характерная черта святочных игрищ, и в этом отношении автор комедии отразил типично святочные коллизии, которые и были положены в основу ее сюжета. На святках, как отмечали многие этнографы, часто разыгрывалась сценка, где высмеивался старый муж, «семейному счастью которого будто бы угрожают ухаживания <…> волокиты»[261 - Милорадович В. Рождественские святки в северной части Лубенского уезда. С. 13.]. В комедии между героями ведется полемика по поводу устройства святочного игрища: одни герои страстно хотят его организовать, другие же, напротив, считают празднование народных святок признаком вздорности и суеверия, то есть смотрят на народные праздники с просветительских позиций XVIII века. «По-видимому, – пишет П. Н. Берков, – тема святочных игрищ была в это время злободневной, в данной комедии все время приводятся аргументы против этих старинных обрядовых развлечений»[262 - Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. С. 175.].
К традиции святочной драматургии принадлежит и комическая опера «Вечеринка, или Гадай, гадай, девица, отгадывай, красная» (где, в частности, разыгрывается обряд «хоронения кольца» под песню «А я золото хороню, хороню»[263 - Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. С. 258.]), и комедия И. Я. Соколова «Святошная шутка», шедшая на сцене вологодского театра в 1780 году[264 - См. о ней: Лазарчук Р. Из истории провинциального театра (театральная жизнь Вологды 1780 г.) // Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. Л., 1988. С. 52–69.], в которых действие происходит на святочном игрище. В демократической драматургии XVIII века иногда встречаются отдельные упоминания о святках, отражающие народное их восприятие. Так, героиня комедии А. О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват» возражает своему мужу: «Нет, Гаврилыч! право, кажется, ты ума рехнулся, ну, святки ныне, что ли, так загадывать?», на что он ей отвечает: «Это только вашим сестрам, бабам, черед загадывать о святках, а нам, ворожеям, и летом, и зимою, днем и ночью, когда не захотим, всегда святки…»[265 - Стихотворная комедия. Комическая опера. Водевиль конца XVIII – начала XIX века: В 2 т. Л., 1990. Т. 1. С. 205.]
Огромной популярностью, судя по отзывам современников, пользовалась написанная в 1799 году и в течение тридцати лет с неизменным успехом шедшая на сценах столичных театров опера С. Н. Титова на либретто А. Ф. Малиновского «Старинные святки»[266 - См. о ней: Чешихин В. История русской оперы (с 1674 по 1903 г.). СПб.; М.; Лейпциг, 1905. С. 83; Рабинович А. С. Русская опера до Глинки. М., 1948. С. 130.]. Впервые поставленная в Москве в 1800 году, в 1813 она была возобновлена в Петербурге, где партию боярышни Натальи исполняла знаменитая Е. С. Сандунова, о игре которой в этой роли восторженно отзывались Жуковский и Пушкин[267 - См.: Швидченко Е. <Быстров Б.> Святочная хрестоматия. СПб., 1903. C. X–XI.]. Через тридцать лет после первой постановки оперы В. А. Ушаков помещает в «Московском телеграфе» восторженную рецензию, где восхваляет ее за изображение «яркой картины старинного быта» и пророчит ей мировую известность. «Тот же Алексей Федорович Малиновский, – пишет В. А. Ушаков, – написал оперу „Старинные святки“, которая так нравилась публике, что ее играли лет тридцать сряду. Такая сила народности в литературе»[268 - Ушаков В. О старинных святках // Московский телеграф. 1829. Декабрь; см. также: Панаев И. Святки // Телескоп. 1834. Ч. 19. С. 17–24; Москвитянин. 1853. Кн. 2. № 12. Мелочи. С. 159.]. Содержание оперы, а также текст рецензии Ушакова помогают понять, что именно привлекало в ней русскую театральную публику. Действие оперы отнесено к историческому прошлому России (XVII век), когда, по мнению авторов, жизнь русских людей протекала в естественной атмосфере народного обычая и обряда. Эта идеализированная атмосфера в наиболее полном и органичном виде являет себя в течение народных праздников, и прежде всего на святках. В эпоху зарождающегося романтизма с его тяготением к национальным обычаям и формам жизни, но еще до возникших несколькими годами спустя острых дискуссий и дебатов о народности та идеализация народного быта, с которой встречался слушатель оперы, вполне объяснима: она нравилась «своею простотою, верностью изображением минувшего быта», «простыми веселыми играми», изображением «святочных событий» и т. д.[269 - Ушаков В. О старинных святках. С. 59.]
На протяжении всего XIX века «святочная» драматургия, судя по обилию текстов, продолжала пользоваться успехом у русской публики, помогая ей восполнить недостаток утраченных святочных впечатлений. Напомню в этой связи и о том, что в начале XIX века студенты Московского университета под руководством братьев Сандуновых регулярно разыгрывали на святках пьесы соответствующего праздничного содержания[270 - См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета. Ч. 2. С. 234; традиция постановки специальных праздничных спектаклей поддерживалась театрами до начала XX века; о рождественских и масленичных спектаклях конца XIX века см.: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.; Л., 1948. С. 109. В советское время это было характерно в основном только для детских новогодних спектаклей.]. В начале 1830?х годов А. А. Шаховской написал «народную драму» «Двумужница, или За чем пойдешь, то и найдешь», которая печаталась в «Северной пчеле» в 1831 году. Первое действие этой драмы происходит в 1742 году на святках в старинном провинциальном городе Балахне в течение Васильева вечера, на который собираются купеческие сыновья («красные девицы и добрые молодцы») петь подблюдные песни и гадать. Героиня ждет возлюбленного, явившегося наконец в костюме сибирского шамана. Любопытно, что второе действие приурочено к другому крупнейшему народному празднику – дню Ивана Купалы. Выбор двух главных народных календарных праздников, конечно, не случаен. Создавая «народную драму», Шаховской ищет и время, по его мнению, в наибольшей степени раскрывающее душу народа. Вот как рецензирует эту драму критик Каменев, назвав ее «первым образцом в сем роде»:
Молодицы, красные девицы и добрые молодцы сошлись в дом к зажиточной купчихе Мавре Арефьевне петь подблюдные песни и загадывать. Хор поет еще до поднятия занавеса; когда же он открывается, то мы видим на сцене первую строфу «Светланы», баллады Жуковского…[271 - Каменев. Русский театр // Литературное прибавление к «Русскому инвалиду». 1832. № 101. 17 декабря. С. 804–808; № 102. 21 декабря. С. 806.]
Каменев, как можно заметить, восхваляет Шаховского за ту же «народность», столь ценимую публикой и в опере А. Ф. Малиновского.
В дальнейшем, в течение всего XIX века, на святках регулярно ставятся и печатаются пьесы, сценки, картинки, водевили, действие которых приурочивается к празднику. Приведу несколько примеров из этой многочисленной и, по существу, совершенно забытой группы текстов: «драматические сцены» П. П. Ершова «Ночь на Рождество» (1834)[272 - Ершов П. Ночь на Рождество: Драматические сцены // Библиотека для чтения. 1834. № 7. С. 5–8.], анонимный водевиль «Приезд жениха, или Святочный вечер в купеческом доме» (1842)[273 - См.: Приезд жениха или Святочный вечер в купеческом доме: Водевиль в одном действии. 2?е изд. М., 1842 (поставлен впервые в 1838 году); см. о нем: Отечественные записки. 1843. Т. 26. С. 24–25, где он назван «известной пошлостью»: «у тех-де книг своя публика».], «картина старинного быта» П. А. Каратыгина «Русские святки» (1856)[274 - См.: Каратыгин П. Русские святки. Картина старинного быта, в двух отделениях с хорами и песнями. СПб., 1856.], «зимняя сцена из русского быта» М. А. Стаховича «Святки» (1860)[275 - Стахович М. А. Святки. Зимняя сцена из русского быта. СПб., 1860.]; «святочная сцена из русского быта» В. А. Тихонова «Суженый-ряженый» (1896)[276 - Тихонов В. Суженый-ряженый. Святочная сцена в одном действии // Новое время. 1896. № 7483. 25 декабря. С. 2.] и многие другие. Некоторые святочные пьесы, не претендуя на сценическое воплощение, представляли собой тексты, написанные в драматургической форме, чаще всего – юмористические, как, например, антисемитская «фантастическая интермедия» В. П. Буренина «Маскарад под Новый год» (1885)[277 - См.: Буренин В. Маскарад под Новый год. Фантастическая интермедия // Новое время. 1885. № 3177. 1 января. С. 3–4; см. также: Н. П. Первый отъезд закладчиков и ростовщиков в городе Москве. Святочная интермедия в стихах // Развлечение. 1875. № 1. С. 3–6.] или же «комедия в одном действии» Р. А. Менделевича «Отъезд» – «святочная вариация» по комедии Грибоедова «Горе от ума»[278 - Меч Р. <Менделевич Р. А.> Отъезд: Комедия в одном действии и нескольких явлениях. Составлена по Грибоедову // Русский листок. 1899. № 1. 1 января. С. 1.].
Заключение
Литераторами XVIII века были сделаны первые шаги на пути создания литературных произведений на святочные сюжеты. В этот период начинается обработка устных рассказов анекдотического характера, в основе которых лежат события, свойственные именно святочному времени («Повесть о Фроле Скобееве»), и народных святочных историй-быличек («святочные истории» Чулкова). Интерес к святкам драматургов конца XVIII века объясняется той идеализацией народной культуры, которая характерна для периода формирования романтических представлений и выработки концепции народности в литературе и искусстве. Святки рассматриваются здесь как средоточие русской национальной жизни, как время-утопия, когда эта жизнь проявляет себя не только в наиболее характерных и ярких, но и в своих лучших чертах. Оформление святочных текстов в самостоятельный жанр наблюдается на более позднем этапе – на протяжении нескольких последующих десятилетий. Позже возникает и сам термин, ставший универсальным для жанрового обозначения повествования со святочным сюжетом. Как протекал этот сложный и долгий процесс, будет показано в следующих главах.
Глава 3