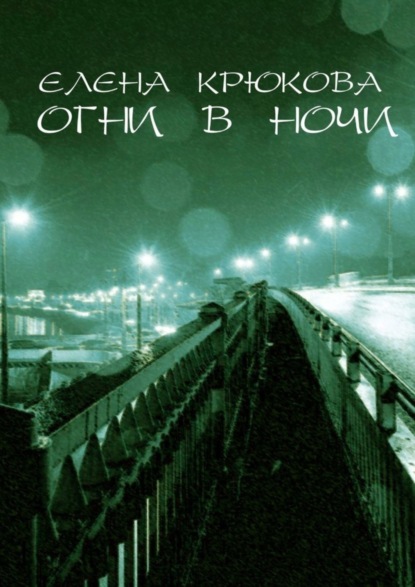По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огни в ночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
шею голубке сверни да старухе всучи —
пущай в чугуне сварит в широкой печи!
крынка овсяного теста —
вот бабка и невеста!
молчи, бабка,
чай, не девка, на передок слабка!
а ты, девка красна, к Царь-Волку ближе шагни…
зришь, в глазёнках его горят огни…
а ну, валяй, ближей подойди…
как он зраками жрёт лалы на твоей белой груди…
а ты гляди, на Царь-то-Волке кафтанчик-полудурьице,
кафтанчик-полудурьице, златым дымком курится,
миткалинова рубаха развевается-трепещется,
скоморохово монисто бьет сребряным подлещиком,
ну давай, девка красна, Царь-Волка обними,
между всеми изумлёнными людьми,
пущай охают и ахают, возжигают очи ярче свечи,
а ты, девка, Зверя перед плахою, яко Бога, приручи!
а ты, девка, Волка из руки корми,
да за шею его крепче, крепче обыми,
развяжи на ём опоясочку шелковую,
шепни на ухо шерстяно ёму шелково слово,
а он тебе и прорычит в ответ:
не Зверь я на множество злобных лет,
не Волк я, резцов-клыков снежный горох,
а Царь скоморохов, наиважный скоморох!
скоморошки люди добрые, голосят-поют,
сухарь чёрствый весело жуют,
да так и помрут в безвестии,
скоморошки всюду дома, скоморошки очестливые,
скоморохи высоко летят, яко ангелы Божии,
скоморохи вина не вкусят во грязи-бездорожии,
скоморохи не смолят табак,
не обидят калик перехожих-нищих,
скоморохи не ловят в горсть пятак,
ежели деньга в кровище,
скоморохи шапки рытого бархата на затылке носят,
скомороху для весёлой пляски все одно – весна ли осень,
обними, красна девка, Царя-скомороха да изо всех силёнок!
зачуешь волчью силу!.. гляди, родится волчонок…
Юродивый – русская трансформация, родная трансляция ветхозаветных Иеремии, Иезекииля, Даниила, Исайи? А как же тогда быть с теми жалкими, скрюченными в грязи сумасшедшими, бормочущими не откровения – невнятицу и околесицу? Там, в этих сбивчивых косноязычных текстах, какой смысл просвечивается и пылает? И разве возможно сравнивать мощь Исайи или Амоса с бедным, совсем не Шекспировым и не библейским словарем уличного помешанного? Спасает ли его не чугунный – оловянный крест на груди? Или на Руси, хоть и гогочут и тычут пальцем в юродивого, а все же поклоняются ему тайком и незаметно обожествляют его, как некогда – язычники – идола, ибо темнота и заумь его речей предполагают тайносмыслие и силу неразгаданной и волшебной загадки?
Юродивый – некий тайный «лакмус» энергетики либо астении общества. Он присутствует в обществе всегда, но отчего-то на площадях – «на стогнах града» – его видно чаще и ярче и слышно громче тогда, когда на страну, на культуру, на эпоху обрушиваются всякого рода катаклизмы.
Излом времён! Это любимое пространство юродивого – здесь он как рыба в воде. И дело не в том, священен он для обывателя или презираем. ОН ЕСТЬ – и всё тут. А зачем он есть? А чтобы воскликнуть: вот оно! То, что вы не видите, не слышите! А времена наступили, пришли! И над временами – поверх – то, что и есть ГЛАВНОЕ для вас! А вы только себе под ноги да в карман глядите!
На беду, охватившую этнос, юродивый реагирует мгновенно и сильно. Если Григорий Распутин был вместе и святым и дьяволом, и распутником и врачевателем, и диким зверем и просветленным паломником, – значит, он был несомненным юродивым. Юродство Серафима Саровского или Нила Сорского – абсолютно другого порядка, но происхождения того же. Пророк на Руси, так же, как и в пространстве семитской, вольнопустынной Библии, сильно, разительно отличается от простого человека: уклад жизни юродивого странен, его внешность часто уродлива, его выкрики непонятны и страшны, – но то, что он вещает ВАЖНОЕ, что он несет БЛАГО, а не ЗЛО, – понятно и грамотному и неграмотному.
Увеличивается количество больных среди здоровых, но возрастает и количество юродивых среди одарённых.
Как, юродивый, кроме пророка, ещё и…
Да, да, именно так. Юродивый – ХУДОЖНИК, у которого цель оправдывает средства настолько, что сам он, весь, до капли крови, до последней жилы, состоит из этой цели, и даже арсенал средств ему абсолютно не нужен: ОН САМ ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СРЕДСТВО БОГА, посредством которого Бог, как худой и грязной кистью, тем не менее кладущей яркие и рельефные мазки, пишет мир и достигает своей единственной цели – пробиться в сердца: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь».
Цель жизни художника – сама его жизнь: оставить яркий золотой, самосветящийся след во тьме, во мраке мира (мрак до рожденья и после ухода – беззвездный, пустой, НЕЗНАЕМЫЙ нами). Такой странный, ни с чем не сравнимый, издалека видный, как комета в небе или молния в тучах, ЮРОДСКИЙ след. То, что делает художник, он делает вразрез с обществом; общество его гонит, не принимает, давит, шпыняет, хохочет над ним – он упорно делает свое, то, к чему призван, идет по своему пути, не сворачивая. Он исполняет миссию, и миссия не приносит ему никаких ощутимых дивидендов, кроме дивиденда радости: Я СВОИМ ТВОРЕНЬЕМ МОЛЮСЬ ЗА ВСЕХ И ОПРАВДЫВАЮ ВСЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ТВОРИТЬ – ПЕРЕД БОГОМ.
«Священническая» миссия художника скрыта от догадок (наверное, даже самих священников) и тем более от невооруженного глаза простого человека. Для него самого она не значит ничего – он ее просто не осознает. Кто начинает осознавать, как, например, Гоголь в последнее время своей жизни, – уходит в мир иной быстро, странно, тайно и страшно: тоже по-юродски. Последнее слово Гоголя: «Лестницу!..» – не было ли намеком на восхождение, на восстание из гроба – сиречь, на ВОСКРЕСЕНИЕ собственное, на повторение миссии Господа? И он, Гоголь, взят был из дольнего мира ТУДА не за святотатство – не наказан, а вознаграждён юродским и странным прощанием он был, хотя чаши весов пораженья и победы в Юродивом Пространстве космично уравновешены и нашим бедным земным рацио неразличимы. И он, Гоголь, по легенде из гроба пытался выйти, в домовине перевернулся. Да и находился ли он по эксгумации во гробе – еще вопрос, как бы ни была жутка и мистична сама его постановка.
Художник – мистика, легенда. Художник – юродивый преобразователь быта в бытие.