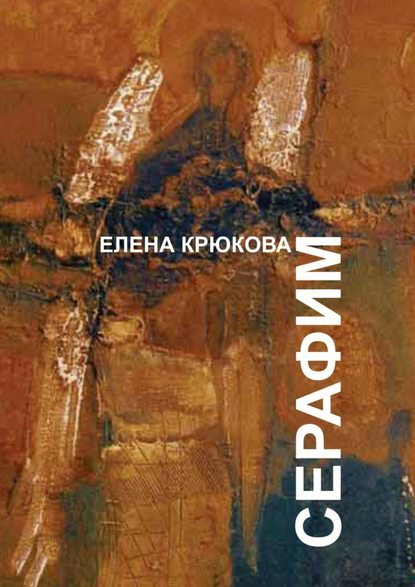По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Серафим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Женился рано и поспешно, так не женятся. Так только отчаянные циркачи сдуру прыгают из-под купола в бездну без лонжи; пловцы бесшабашные в омут – вниз головенкой, в водоворот.
О, я сумасшедший был! Молоденький петушок! Девчонка понравилась, с ходу, с лету. Цап!
Или это она меня цапнула? Оцарапала коготками… Кошечка черненькая… Шестнадцать лет, только из школы выпрыгнула…
Через три месяца она выкрасила смоляные коски перекисью водорода – в мертвый белый цвет.
Через четыре – напилась первый раз, до бесчувствия.
Через полгода, беременная от меня, она изменила мне первый раз. С моим другом.
Через год она родила мне дочку.
Анной назвали.
Верочка – так мою жену звали – пить не прекратила после рождения дочки. И гулять тоже. Ох и гуляла она! Стены стонали! Мать моя, Матрена Ильинична, только морщилась, страдая. А Верочка и маманю в пьянство вворачивала. Так и не просыхали они, обе, бедные мои, старая и молодая. Анночка орала, как резаная, в колыбельке. Верочка раздевалась догола и перед пьяными автозаводскими подругами танцевала на столе, пинала чашки, рюмки, бутылки, они летели на пол и разбивались, и младенец плакал еще громче. Мать кричала мне, сквозь крики и визги пьяных девок: «И как ты все это ей позволяешь?!» Верочка обнимала мать за кривую, высохшую как корень шею, выталкивала неслушным языком: «Борь-рь-рь-ка… Пак-корми Аньку!..»
И подносила к впалому, уже старческому рту матери до краев налитый ртутным зельем граненый наш, деревенский стакан.
«Кормящий отец», – шептал я сам себе, Анночка лежала у меня на локте, я совал ей в губки грубую толстую резиновую соску, и уменьшалось, убывало в бутылочке метельно-белое молоко.
Молоко я сам брал в раздатке, рядом с домом. И кефир тоже. И выкармливал Анну, как мог, сам.
Потому что в доме творилось невообразимое. Я даже не знал, что со мной так в жизни будет.
Верочка была хорошенькая, как куколка. От алкоголя ее молоденькое кукольное личико краснело, краснели веки, грубо алели, как надраенные наждачкой, свежие круглые щеки. Огромные серые глаза сочились юным презрением к жизни и тайной, жестокой жадностью к ней. К ее удовольствиям. К ее наслаждениям.
Сейчас я могу сказать: да, к ее грехам. К ее сладким, винно-алым, грудастым, задастым грехам!
Плоть. Это не Плоть Христова. Не Его Кровь.
Это жадная плоть быстротечной жизни, и падкий на земную сладость человечек жадно, оголтело поглощает ее, стремится урвать, угрызть кусок, еще один, еще, пока не отняли.
Пока не затолкали в глотку – лопатой – земли сырой черный ломоть.
Верочка пила, глотала сладкое людское вино, в грех вводящее, горькую человечью водку, в преступление окунающую. Ела – сосала – жрала – грызла, хохоча, хитро подмигивая кому-то невидимому, сладкую, в подливке, в соусах, в перцах-приправах человечью пищу, которая из священной еды становилась просто – в ее дрожащих пальцах и намазанном яркой помадой рту – поганой жратвой, дымящейся хавкой. Она выпивала полбутылки водки, которую почему-то называла железным словом «коленвал», и заедала пирогом с мясом-с луком, купленным в кулинарии напротив, а мне казалось – она пьет дымящийся яд, она ест пирог с человечиной. Верочка, уже брюхатая, переспала с моим другом, с соседом моим, Валерой Гончаровым, а у Валеры Гончарова жена ведь была, Милка, так им вдвоем плевать было, что у нее – муж, у него – жена: я однажды шел по коридору, услышал из подсобки, где хранились инструменты слесарные, охи и ахи, все понял сразу, дверь рванул на себя – а они даже не закрылись, так с открытой дверью и обнимались. Я на всю жизнь запомнил Верочкин красный, высунутый из зубов наружу, как у овчарки из пасти, дымящийся, влажный язык. И все десять пальцев Гончарова, впившиеся в круглый нагой Верочкин юный задик.
Семнадцать лет. Ей было всего семнадцать лет.
А мне было двадцать два, и я учился на втором курсе университета. И, войдя из коридора в квартиру, лег, не разуваясь, на кровать, и плакал горько.
И горько, горько в кроватке своей, в колыбельке, в которой мать мою еще в деревне младенчиком качали, выращивали, плакала моя дочка, бедная Анна моя.
Компании, гулянки, девки новые, мне неизвестные, парни стриженые налысо и лохматые, как собаки, с татуировками на запястьях, на фалангах пальцев, в виде синих перстней… где она их подбирала? Подобное льнет к подобному. Плохое липнет к плохому. Зачем Верочка так жила? Такой она была рождена? Или такой сделали ее? Кто? Я не знал. Я ничего не знал. Я видел: она спит и с мальчиками, и с девочками, я видел, как нежно, ласково ее пьяные пальцы мнут, гладят грудь новой хмельной подружки под расстегнутой кофточкой, под грязным кружевом, – никогда так нежно и доверчиво она не ласкала меня.
Когда я с ней был, ночью, в постели, она пусто, бездумно и тоскливо смотрела в потолок. Отворачивала от меня лицо, пахнущее перегаром. И я читал по колючим письменам смоляных смеженных ресниц: «Кончай скорее, надоело».
Потом она засыпала и храпела, как мужик, оглушительно.
А я вставал к ребенку. Анна возилась, кряхтела, тонко всплакивала, будто взлаивал щеночек. Она и была моим щеночком – бедным, кудлатым, молочным, беспомощным, и его надо было мыть, подтирать за ним, кормить чем Бог пошлет, лишь бы кормить. Лишь бы – жил, выжил щеник мой. Когда еды совсем не было – Верочка спокойно могла пропить все семейные деньги, деньгами распоряжалась она, ведь она была мне еще жена и вроде как хозяйка, – я чистил картошку, лез в погреб за ней, заползал рукой в мешок, картошку я сам запасал на всю зиму, каждую осень, чистил и варил, а потом делал Анночке пюре на воде, и чуть подслащивал и подсаливал, и в это пюре крошил черствый ржаной хлеб, и так, перемешав нищую тюрю, давал ей с ложечки. И ела она, а я улыбался и плакал.
И сестры мои называли меня идиотом; и мать моя, работая на заводе, так и продолжала во дни церковных праздников просить милостыню у Карповской церкви, у ее белых стен и деревянных ворот.
И приходил к нам иногда Верочкин отец, лысый старик, без левой руки, и я глядел на его пустой рукав, конец рукава он заталкивал в карман, – ее отец, тесть мой, ничего не говорил, молчал, садился за стол, вынимал из кармана початую бутылку; и я пил вместе с ним жгучую водку, мы пили не из рюмок – из битых старых чашек, что наспех находил я в буфете. И я молчал, ничего не говорил. И вокруг нас молчали разбросанные в угаре попойки вещи, лифчики и туфли, тарелки и рюмки, соски и сигареты.
И, не выдержав, я бросил учебу, потому что после бессонных ночей, когда Верочку рвало фонтаном, а я держал ее поперек живота, как кота, а потом убирал за нею блевотину ее, как за больной собакой, за плохой овчаркой в моем питомнике, а потом снова тетешкал, укачивал на руках плачущую Анночку, ходил-ходил с ней по комнате, до одурения, а ребенок все плакал надсадно, а я сам превращался в сонного младенца, и я это я засыпал на руках у Анны, а не она у меня, – после таких ночей не мог я ни одной задачи решить, и декан факультета, вызвав меня к себе, долго, строго смотрел на меня, а потом сказал: «Жаль. Талантливый вы человек, Полянский. Жаль. Очень жаль».
И больше ничего не сказал.
Я сам написал заявление. Приказ об исключении состряпали быстро. На мое место было уже десять желающих.
Так я оказался на улице. Недоучка. С женой, и без жены. С матерью-нищенкой.
С ребеночком моим на руках.
Дочка! Радость моя! Солнце мое! Сквозь тучи…
Вот ты есть у меня; а что бы я делал, если бы тебя не было?
Продолжение рода, продолжение рода… Плодитесь… и размножайтесь…
К чему… зачем…
Так надо.
Закон.
Бабушка моя, Марфа, умерла, когда жена моя, Верочка, задумала уйти от меня, дочку мою, Анну, взявши на руки и собравши в дорогу, к новой жизни, маленький, еще военный, деда моего, Ильи Семеныча, вишневый чемодан.
Я видел, как она чемодан собирала, но не догадался, что к чему.
А вечером Верочка, удивительно трезвая, тихая, ко мне подходит и говорит мне, губы свои к уху моему вытянув трубочкой, тоже очень тихо:
– Боря, я от тебя ухожу. К другому. Благослови меня.
Так и сказала: «благослови».
– Благословить? – глупо выдавил я. И глупо, растерянно улыбнулся.
И глаза мои, уже бешеные, безумные, сами стрельнули вбок, скосились на кроватку, где тихо спала наша дочка, Анночка.
– Да. Благослови, – тихо и твердо, как-то железно сказала жена. – Я хочу, чтобы ты меня благословил. Чтобы все было по-хорошему.
Я видел: лицо ее свело, как от кислоты, от лимона, так ей захотелось внезапно и жалко заплакать.
Но не заплакала. Не унизилась предо мной. Наоборот, зубы показала. Улыбка? Оскал?
– На зверька ты похожа, – я ей сказал. Сердце в ребрах билось мучительно. – Зверек ты, Верочка, а еще не человек. Куда ты? А как же Анночка?
О, я сумасшедший был! Молоденький петушок! Девчонка понравилась, с ходу, с лету. Цап!
Или это она меня цапнула? Оцарапала коготками… Кошечка черненькая… Шестнадцать лет, только из школы выпрыгнула…
Через три месяца она выкрасила смоляные коски перекисью водорода – в мертвый белый цвет.
Через четыре – напилась первый раз, до бесчувствия.
Через полгода, беременная от меня, она изменила мне первый раз. С моим другом.
Через год она родила мне дочку.
Анной назвали.
Верочка – так мою жену звали – пить не прекратила после рождения дочки. И гулять тоже. Ох и гуляла она! Стены стонали! Мать моя, Матрена Ильинична, только морщилась, страдая. А Верочка и маманю в пьянство вворачивала. Так и не просыхали они, обе, бедные мои, старая и молодая. Анночка орала, как резаная, в колыбельке. Верочка раздевалась догола и перед пьяными автозаводскими подругами танцевала на столе, пинала чашки, рюмки, бутылки, они летели на пол и разбивались, и младенец плакал еще громче. Мать кричала мне, сквозь крики и визги пьяных девок: «И как ты все это ей позволяешь?!» Верочка обнимала мать за кривую, высохшую как корень шею, выталкивала неслушным языком: «Борь-рь-рь-ка… Пак-корми Аньку!..»
И подносила к впалому, уже старческому рту матери до краев налитый ртутным зельем граненый наш, деревенский стакан.
«Кормящий отец», – шептал я сам себе, Анночка лежала у меня на локте, я совал ей в губки грубую толстую резиновую соску, и уменьшалось, убывало в бутылочке метельно-белое молоко.
Молоко я сам брал в раздатке, рядом с домом. И кефир тоже. И выкармливал Анну, как мог, сам.
Потому что в доме творилось невообразимое. Я даже не знал, что со мной так в жизни будет.
Верочка была хорошенькая, как куколка. От алкоголя ее молоденькое кукольное личико краснело, краснели веки, грубо алели, как надраенные наждачкой, свежие круглые щеки. Огромные серые глаза сочились юным презрением к жизни и тайной, жестокой жадностью к ней. К ее удовольствиям. К ее наслаждениям.
Сейчас я могу сказать: да, к ее грехам. К ее сладким, винно-алым, грудастым, задастым грехам!
Плоть. Это не Плоть Христова. Не Его Кровь.
Это жадная плоть быстротечной жизни, и падкий на земную сладость человечек жадно, оголтело поглощает ее, стремится урвать, угрызть кусок, еще один, еще, пока не отняли.
Пока не затолкали в глотку – лопатой – земли сырой черный ломоть.
Верочка пила, глотала сладкое людское вино, в грех вводящее, горькую человечью водку, в преступление окунающую. Ела – сосала – жрала – грызла, хохоча, хитро подмигивая кому-то невидимому, сладкую, в подливке, в соусах, в перцах-приправах человечью пищу, которая из священной еды становилась просто – в ее дрожащих пальцах и намазанном яркой помадой рту – поганой жратвой, дымящейся хавкой. Она выпивала полбутылки водки, которую почему-то называла железным словом «коленвал», и заедала пирогом с мясом-с луком, купленным в кулинарии напротив, а мне казалось – она пьет дымящийся яд, она ест пирог с человечиной. Верочка, уже брюхатая, переспала с моим другом, с соседом моим, Валерой Гончаровым, а у Валеры Гончарова жена ведь была, Милка, так им вдвоем плевать было, что у нее – муж, у него – жена: я однажды шел по коридору, услышал из подсобки, где хранились инструменты слесарные, охи и ахи, все понял сразу, дверь рванул на себя – а они даже не закрылись, так с открытой дверью и обнимались. Я на всю жизнь запомнил Верочкин красный, высунутый из зубов наружу, как у овчарки из пасти, дымящийся, влажный язык. И все десять пальцев Гончарова, впившиеся в круглый нагой Верочкин юный задик.
Семнадцать лет. Ей было всего семнадцать лет.
А мне было двадцать два, и я учился на втором курсе университета. И, войдя из коридора в квартиру, лег, не разуваясь, на кровать, и плакал горько.
И горько, горько в кроватке своей, в колыбельке, в которой мать мою еще в деревне младенчиком качали, выращивали, плакала моя дочка, бедная Анна моя.
Компании, гулянки, девки новые, мне неизвестные, парни стриженые налысо и лохматые, как собаки, с татуировками на запястьях, на фалангах пальцев, в виде синих перстней… где она их подбирала? Подобное льнет к подобному. Плохое липнет к плохому. Зачем Верочка так жила? Такой она была рождена? Или такой сделали ее? Кто? Я не знал. Я ничего не знал. Я видел: она спит и с мальчиками, и с девочками, я видел, как нежно, ласково ее пьяные пальцы мнут, гладят грудь новой хмельной подружки под расстегнутой кофточкой, под грязным кружевом, – никогда так нежно и доверчиво она не ласкала меня.
Когда я с ней был, ночью, в постели, она пусто, бездумно и тоскливо смотрела в потолок. Отворачивала от меня лицо, пахнущее перегаром. И я читал по колючим письменам смоляных смеженных ресниц: «Кончай скорее, надоело».
Потом она засыпала и храпела, как мужик, оглушительно.
А я вставал к ребенку. Анна возилась, кряхтела, тонко всплакивала, будто взлаивал щеночек. Она и была моим щеночком – бедным, кудлатым, молочным, беспомощным, и его надо было мыть, подтирать за ним, кормить чем Бог пошлет, лишь бы кормить. Лишь бы – жил, выжил щеник мой. Когда еды совсем не было – Верочка спокойно могла пропить все семейные деньги, деньгами распоряжалась она, ведь она была мне еще жена и вроде как хозяйка, – я чистил картошку, лез в погреб за ней, заползал рукой в мешок, картошку я сам запасал на всю зиму, каждую осень, чистил и варил, а потом делал Анночке пюре на воде, и чуть подслащивал и подсаливал, и в это пюре крошил черствый ржаной хлеб, и так, перемешав нищую тюрю, давал ей с ложечки. И ела она, а я улыбался и плакал.
И сестры мои называли меня идиотом; и мать моя, работая на заводе, так и продолжала во дни церковных праздников просить милостыню у Карповской церкви, у ее белых стен и деревянных ворот.
И приходил к нам иногда Верочкин отец, лысый старик, без левой руки, и я глядел на его пустой рукав, конец рукава он заталкивал в карман, – ее отец, тесть мой, ничего не говорил, молчал, садился за стол, вынимал из кармана початую бутылку; и я пил вместе с ним жгучую водку, мы пили не из рюмок – из битых старых чашек, что наспех находил я в буфете. И я молчал, ничего не говорил. И вокруг нас молчали разбросанные в угаре попойки вещи, лифчики и туфли, тарелки и рюмки, соски и сигареты.
И, не выдержав, я бросил учебу, потому что после бессонных ночей, когда Верочку рвало фонтаном, а я держал ее поперек живота, как кота, а потом убирал за нею блевотину ее, как за больной собакой, за плохой овчаркой в моем питомнике, а потом снова тетешкал, укачивал на руках плачущую Анночку, ходил-ходил с ней по комнате, до одурения, а ребенок все плакал надсадно, а я сам превращался в сонного младенца, и я это я засыпал на руках у Анны, а не она у меня, – после таких ночей не мог я ни одной задачи решить, и декан факультета, вызвав меня к себе, долго, строго смотрел на меня, а потом сказал: «Жаль. Талантливый вы человек, Полянский. Жаль. Очень жаль».
И больше ничего не сказал.
Я сам написал заявление. Приказ об исключении состряпали быстро. На мое место было уже десять желающих.
Так я оказался на улице. Недоучка. С женой, и без жены. С матерью-нищенкой.
С ребеночком моим на руках.
Дочка! Радость моя! Солнце мое! Сквозь тучи…
Вот ты есть у меня; а что бы я делал, если бы тебя не было?
Продолжение рода, продолжение рода… Плодитесь… и размножайтесь…
К чему… зачем…
Так надо.
Закон.
Бабушка моя, Марфа, умерла, когда жена моя, Верочка, задумала уйти от меня, дочку мою, Анну, взявши на руки и собравши в дорогу, к новой жизни, маленький, еще военный, деда моего, Ильи Семеныча, вишневый чемодан.
Я видел, как она чемодан собирала, но не догадался, что к чему.
А вечером Верочка, удивительно трезвая, тихая, ко мне подходит и говорит мне, губы свои к уху моему вытянув трубочкой, тоже очень тихо:
– Боря, я от тебя ухожу. К другому. Благослови меня.
Так и сказала: «благослови».
– Благословить? – глупо выдавил я. И глупо, растерянно улыбнулся.
И глаза мои, уже бешеные, безумные, сами стрельнули вбок, скосились на кроватку, где тихо спала наша дочка, Анночка.
– Да. Благослови, – тихо и твердо, как-то железно сказала жена. – Я хочу, чтобы ты меня благословил. Чтобы все было по-хорошему.
Я видел: лицо ее свело, как от кислоты, от лимона, так ей захотелось внезапно и жалко заплакать.
Но не заплакала. Не унизилась предо мной. Наоборот, зубы показала. Улыбка? Оскал?
– На зверька ты похожа, – я ей сказал. Сердце в ребрах билось мучительно. – Зверек ты, Верочка, а еще не человек. Куда ты? А как же Анночка?