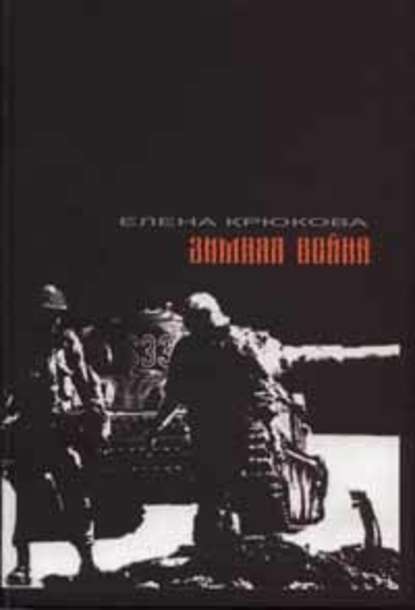По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зимняя Война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Там живут люди. ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ!
Дрезина мчит оголтело. Скорей! Времени на раздумье никакого. И так же внезапно, как он впрыгнул в стремительно несущуюся под звездами дрезину, он резко, рискуя сломать шею, втянув голову в плечи, прижав руки к животу и плотно, как младенец в утробе матери, подобрав колени к подбородку, вывалился из повозки – и покатился, сцепив зубы, застонав, по крутосклону, обдирая об острые камни ладони, локти и щеки, разрывая балахон о кусты горных цепких колючек.
Снова красная Луна глянула из-за каменных зубцов. Синяя, нахальная ее сестра, Ай-Каган, смеялась, мертвенная морда ее расплывалась в широкой змеиной ухмылке, дырявые глаза мерцали светляками, вспыхивали и гасли. Краснорожая раззявила на полнеба красный орущий рот. Между Лун тек и струился звездный снегопад. Юргенс подмигнул обеим Лунам и свистнул.
Он сдернул рукавицы. Цепко сжимая мгновенно коченеющими на морозе пальцами ствол оружья, Юргенс подобрался поближе к горящим окнам дома. О, дом ходил ходуном! Ему почудилось, что ободранные, потемневшие под натиском горных метелей доски источают жар, пыль и пот. Он прижался щекой к ставню, по-гусиному вытянул шею и заглянул в дыру окна. Там танцевали!
Господи, одинокий дом в горах. И там пляшут. Уж не бредит ли он. Куда завезла его сумасшедшая дрезина. Юргенс всунул голову поглубже в окно. Пары неслись по бесконечному кругу, визжа и вереща, тяжело притопывая, жарко сплетаясь, кольца дрожащих от любовного голода рук свивались на спинах и шеях, мужики зарывались губами и носами в перепутанную темь женских расплетенных кос, наступали пудовыми башмаками на цветные вихри подолов, трогали грубыми руками обнаженные, в прорезях юбок, женские белые ноги, и женщины зазывно, истомно прикасались острыми пирамидками грудей, шепча бессвязные жаркие речи, к холодным бляхам и колючим нашивкам мужских военных комбинезонов и охотничьих, пропахших порохом и мокрой собачьей шерстью курток. А это кто?! Он сглотнул. Кто – эта, вот эта, за стойкой бара, заслоненная пустыми бутылками из-под мартини и кальвадоса с отбитыми горлышками?! Ее отраженье то исчезает, то появляется в грязных, засиженных мухами зеркалах. Амальгама обшарпана – из зеркал льется свет синей Луны. А красная Луна где?! А где же белая Луна, еще довоенная, одинокая, – где ее тихий свет?! За дымно несущимися вдаль, в ночь и смерть, зимними тучами?!
«Красотка!.. Эй! Две бутылки „Консорто“ и хороший, крепкий стакан, не щербатый».
«Душка, дай поцелую шейку, носик, – губки жалко, жадина?!.. Два одеяла в номер мне, – в ваших чертовых горах такой колотун!..»
«Что ты, стерва, кобенишься. Что выкаблучиваешься. Видали мы таких цац. Быстро!»
«Два хереса, ром и „Мальдивский водопад“. Пойдешь за меня, если позову?..»
«О, я-то думал, ты дура, а ты знаешь приемы!.. Где ты училась джиу-джитсу?.. Обучи и меня!.. За отдельную плату!..»
«Три рюмки коньяка, ласточка!.. Лимончик положи!..»
Он глядел на девушку за стойкой бара не отрываясь. Впалые, измученные убийством, страхом, одиночеством глаза его горели на бледном, грязном лице. Перевязанное наспех портянкой плечо болело. Он не сводил с девушки глаз. Мирный дом на Зимней Войне гляделся редкостью, как павлинье перо. А девушка за стойкой сверкала ярче всех на свете павлиньих перьев. Молодец дрезина. Правильно его привезла. Какая судьба.
Он напружинил тело, по-волчьи готовя его для прыжка.
Что было в твоей жизни, Кармела? А ничего особенного. Ты молчала. Улыбалась. Глотала слюну. Глотала обиды и бранные слова. Глотала коньяк втихомолку, забивая взрывом перцовой крепости в глотке и груди готовые вылиться слезы, приседая под уставленной прозрачной стеклянной утварью стойкой, чтоб никто из посетителей не заметил и не наорал: а барменша-то – пьяница!.. Утирала губы и глаза ладонью, юбкой. Вставала. Опять улыбалась. Зубы блестели под розовинкой подмалеванных губ двумя платиновыми подковками. Резала лимон. Дольки лимона с тарелки улыбались ей. Она клала кислые лимонные улыбки на края граненых рюмок, несла улыбки на подносах на столики, колченогие и увечные, заваленные горками табачного пепла. Ее улыбки запихивали в неистово жующие рты, кололи мохнатыми усами, швыряли на замусоренный пол одним щелчком мозолистых пальцев. Ее улыбки смаковали и выплевывали. Просили повторить. Ее улыбками рыгали и блевали.
И однажды – редко – кто-нибудь – она никогда не знала, кто – не ел, не пил, не сплевывал, не обсасывал, а тихо, незаметно, в сполошном полумраке и терпком табачном дыме, глубоко вдыхал и осторожно целовал. А может, ей это снилось? Она, набегавшись за долгий день, бывало, от усталости валилась там, где стояла – прямо под стойку бара, сворачивалась клубком, как котенок, и мгновенно засыпала. Ей снилось, что она богачка. Что она владеет всем. Что у нее много, много денег и самоцветов – все карманы полны, и из-за пазухи вываливаются, падают на доски пола, в пыль дороги. Она владелица постоялого двора! И всех окрестных гор! И всех птиц в небе! И всех самолетов и пушек Зимней Войны! И всех мужиков, что в безумье угара, табака и вина нежно пялятся на нее – она теперь над ними царица, и пусть только мизинец ее кто посмеет тронуть!.. Да уж я всю ее давно перетрогал, брат. Теперь ты попробуй. Закуска что надо – с кислинкой.
Она выросла в зимней стране. Ее отец умер давно. Они с отцом когда-то жили в большом страшном городе, называемом Армагеддон. Отец забросил ее в эту гостиницу в горах, когда она была еще девчонкой, а сам ушел на Зимнюю Войну и погиб. Она прокляла сначала свою жизнь, потом постаралась полюбить ее. Ей казалось, ей это удалось.
Девочка за стойкой – как это было романтично. Она умело обращалась с винными бутылями, с иной стеклянной посуденкой. Она научилась курить, изящно прикуривала, пускала дым колечками. Мужчины хохотали над ней. Они лапали ее в каждом углу. Она уворачивалась от них, швыряла в них стреляные гильзы ругательств. Она привыкла к Войне, как привыкают к горькому, бесполезному питью. Она глядела на солдат вражеской армии, заходящих в гостиницу то с парадного, то с черного хода, как на зимних птиц, – они голодны, их надо накормить. Человек голоден. Мужик голоден. Накормить! И дать выпить. Выпить – это святое дело. Это прежде всего. Прежде супа, жаркого. Ей на кухне помогал старый одноглазый повар Тимофей, бывший моряк. Какие он стряпал макароны по-флотски! Даже отец ее таких стряпать на умел.
А что дальше будет в жизни? Война грохотала совсем близко. Кто выстроил гостиницу в горах, одну, на отшибе мира? Ночами приходили волки и снежные барсы, садились кругами рядом с домом, подняв морды, выли и мяукали, жалуясь звездам на жестоких людей. По сумасшедшей ветке железной дороге сюда доставляли раз в месяц еду – для харчевни. Что будет, если дорогу разбомбят вконец? Она задавала себе этот вопрос много раз, пугаясь ответа, потом перестала задавать. Она стала просто жить. Просто страдать. Плакать от обиды. Пробовать обед на кухне. Облизывать пальцы. Выпивать рюмочку коньячку. Целоваться с тем, кто ей был по сердцу, отбиваться с отвращеньем от тех, кто был ей не мил, противен. Иной раз ее насиловали. Иногда ей удавалось побеждать. Тогда она гордилась собой. А потом опять плакала. Бывало и так – ей ломали руки, затыкали рот, больно дергали за волосы, и она не могла биться, бороться. Она кусалась. Плевала обидчику в лицо. Это была ее маленькая Зимняя Война.
Женщина и Война – как нелепо. Она слышала дальние взрывы. Она представляла: вот снаряд попадает в гостиницу, и все взлетает в воздух – и койки с верблюжьми одеялами, и столы в зале, и батареи бутылок, и полных и пустых, и люстра, и свечи, и люди, главное, люди. Ои взлетают, людские тела, летят вверх, прочь от земли, разодранные взрывом на куски, на красные клочья, потом падают на землю. И она разодрана надвое, и из рваных лоскутов тела бешеным потоком льется кровь. Отец рассказывал ей про древнюю казнь ее предков – человека привязывали к наклоненным верхушкам двух молодых деревьев, потом деревца резко отпускали, и живое тело разрывало надвое. Разве это мученье не страшнее любого другого? Взрыва, сгоранья заживо? Люди горят заживо в танке. Вот был недавно в гостинице офицер Серебряков, так он рассказывал…
Ей никогда не удавалось додумать про ужасы. Она не любила думать про страшное. А если честно, она ничего и не боялась. Война ей была скушна. Бедная Война. Она жалела Войну, как жалеют живое существо – ободранного больного волка, загнанную лошадь. Эй, Кармела! Неси к столу на подносе жареную курицу! Кур привезли с Запада, их плохо заморозили, и половина курьего мяса протухла. Тимофей и она расстарались, жарили птицу с перцем, с чесноком, с пряностями, чтобы скормить солдатам, отбить гнусный запах. Удалось. Мужики жрали – аж за ушами хрустело. А может, они были просто очень голодны. Тем лучше. Все съедят. Ешьте. Завтра генералы снова придумают вам бой. Говорили, страшный бой был вчера у селенья Танхой, у железнодорожной станции. Под бомбами погибло несколько бурятских и уйгурских сел. Бедные мужчины, как им, наверно, неохота умирать. А они все умирают и умирают на Войне. Ну да женщинам тоже не легче. Что, женщины разве не умирают?! Еще как умирают. О, Кармела, до чего вкусненький цыпленочек!.. А добавки можно?..
Можно, только осторожно. Не лезь мне жирными пальцами под юбку. Я и так все слышу.
Она принесла на подносе бритому бурятскому солдатику добавочную порцию, улыбнулась ему, показав ровные подковки зубов, скользнула за стойку бара, пощупала ладонью выпуклые холодные бока бутылок. Доброе вино в них, внутри. А она, кроме коньяка, в иных винах ничего не понимает. Коньяк пьянит, он исторгает из нее слезы. Лечебные слезы. Как бы ей не спиться. Ее отец говорил ей…
Она вскинула голову. Из открытого в морозную ночь окна – в зале столбом стоял дым, было адски накурено, чад и гарь забивали ноздри, – прямо на нее глядел человек в грязной, лунно блестевшей каске, с перепачканным, исцарапанным лицом, с автоматом наперевес, глядел, набычившись, молчал.
Юргенс напрягся, закусил до крови губу, перекинул автомат на спину – он больно ударил по позвонкам, вызвав во всем голодном теле тихий звон, – и впрыгнул в окно с шумом и стуком, распугав пляшущие на сквозняке пары, и дощатый смолистый пол гостиничного зала охнул под его тяжелыми коваными сапогами.
Он ломанулся прямо к ней, к длинношеей, через круговерть пляшущей толпы. Он видел перед собой только глаза девушки – широко поставленные, чуть раскосые, черные, влажные, как две темные сливины; видел россыпь черных кудрей по плечам и спине, кольца золотых серег в мочках ушей. У него так давно не было женщины на Войне. Женщина, соблазн, приманка. Уж наверно, эту барменшу имеют здесь все, кому не лень. А не лень на Войне всем. Берегись, она общее достоянье. Дочь полка. Он хохотнул про себя. Как он хотел умереть один, в горах, каких-то полчаса назад. Человек наивен. Он думает, что он и есть целый мир, и что Вселенная кончается именно на нем.
Девушка была красива. Это он сразу понял. Если бы она была уродлива, она вызвала бы в нем точно такое же желанье. Он вспомнил свои юношеские сны. Тогда, в снах, женская красота мучила и пытала его. Он почувствовал желанье за что-то непонятное отомстить ей. Он чуть не умер в бою. Он сам убил людей. Он хотел убить себя – от презренья к себе, убийце, но стал бороться за свою жалкую жизнь, и вот выжил, и вот нашел дом в горах, при дороге, и вот глядит на красивую девушку. А не пригласить ли ему ее погулять в горах на морозе, при Луне. Ты видела ли когда-нибудь полную Луну на морозе, девушка? Она похожа на сдобную девичью ягодицу.
Прыжком он достиг стойки, вырвавшись из потно-тяжелой, пестрой груды танцующих солдат и девиц, невесть откуда взявшихся на Войне здесь, в горах. Навалился грудью на деревянную тумбу; хрипло выдохнул. Уставился глазами в женские глаза. Мир померк. Он почувствовал свою силу. Какие, к черту, войны. Нет ничего. Есть я. Есть ты. Есть старая игра: замри-умри-воскресни.
Колени его стыдно подогнулись. Мелкая влажная вышивка испарины унизала виски, раздувшиеся ноздри.
Девушка ясно улыбнулась, тряхнула черными кудрями, налила поочередно в три бокала – портвейн, коньяк и водку.
– На выбор, трусишка солдатик!..
Она уперла руку в бок, вызывающе качнула бедром. Ну и манеры. Мужланка.
– Портвейн пусть пьют испанцы, коньяк – французы, – проворчал он и протянул руку к водке. – Дай родной напиток, замечательная девушка.
Водка исчезла в его глотке. Желудок схватило с голодухи. Жар разлился по ребрам, по потрохам. В голове нудно зашумело, уши заложило. Как тебя звать, девчонка? А, Кармела. До чего любят в России давать детям иноземные сладкие имена. Приторные, как патока. Заткнись! Мне нравится мое имя. А я тебя раньше видел во сне. Надоело. Дай лучше еще водки. Я хочу залить водкой бой. Хочу залить водкой бой!
Она налила ему еще водки – уже не в тонконогий бокал, в стакан, – и захохотала. Она смеется над ним?!
– Я не трус. Ты ошиблась. Я докажу тебе.
Он сжал зубы. Чтобы поганая девчонка в придорожной забегаловке могла ткнуть его носом в дерьмо. Он убил сегодня в бою людей. Он запросто может убить ее. Он и убьет ее. Он убьет каждого, кто обидит его. Багровые круги и крылья замельтешили у него перед глазами. Сейчас. Нет. Не сейчас. Что может быть проще – вскинуть автомать и ну поливать огнем тонкую живую черемуху. Там, в России, близ Армагеддона, в полях и в лугах, растет пахучая терпкая черемуха. Господи, как давно он там не был. Будет ли когда. Его могут завтра убить.
– Да ведь и ты не девушка. Ха, ха.
Он увидел, как покраснели ее смуглые щеки. Золотая серьга в ухе задрожала. Он слизнул с губ капли алкоголя. Засопел, блаженствуя. Отогрелся. Покачался из стороны в сторону, как маятник.
– Пусть тебя это не волнует. – Она вскинула чернокудрую голову.
– Да меня ничто никогда не волнует. – Голос его дрожал от жара, радости, волненья, глухоты мощного мужского желанья. – Ты знаешь, что Война закончилась?
– Не ври. Сегодня был большой бой в горах. Вот он закончился, да. Грохот поутих. И я могла приготовить на кухне ужин для гостей. Ты был в бою? Ты солдат?
– Глупо. Ты что, не видишь. – Он показал пьяным жестом на свой балахон. Снял ремень с автоматом с плеча и бросил оружье на пол. – У тебя тут найдется кровать? Раскладушка?.. Соснуть?..
Он подмигнул ей. Она швырнула ему початую бутылку водки.
– Напейся лучше!.. но ко мне не приставай…
Он засунул водку в карман балахона.
– Вы все не умеете пить. Вы все пьете, как свиньи. – Она шумно выдохнула. – Солдат Войны. Как это гордо звучит. Ты знаешь, эта гостиница – мое наследство. За него отец мой покойный жизнью заплатил. Это странноприимный дом. У нас в подвале много бочек с вином. Бутылки привозят на дрезине. Видел сумасшедшую дрезину там, на рельсах?.. она катается взад и вперед по железной дороге, никто ее не ведет, не отправляет, не присылает, на ней можно подъехать, подвезти товар, продукты… А вот одеял теплых у нас все меньше, меньше!.. одеяла солдаты крадут, собаки… Хочешь еще водки, солдатик?.. Ну что у тебя так глаза бегают?.. Не бойся. Худо тебе не станет. Люди сами себя не понимают, кто они. Я одна знаю.
– Неправда. Ты не можешь знать. Никто из людей не может знать.
– Если я откажу человеку в еде и ночлеге, он замерзнет в горах, особенно если дует норд-ост.
– Ты умная, ты знаешь названья ветров. Хочешь выйти на волю, под звезды?
– Подожди. Ты торопливый.