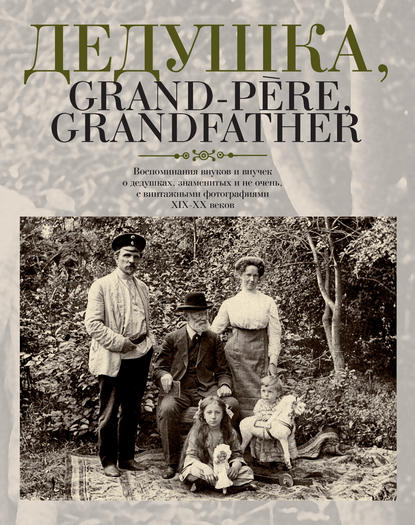По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дедушка, Grand-père, Grandfather… Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX – XX веков
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В квартире народного художника СССР Василия Бородая мне поручили ответственное дело: держать в наклонном положении специальный зонтик, в который должна была выстрелить печально знакомая мне осветительная лампа. По задумке деда, только такой отраженный свет правильно подсветит с задней стороны золотисто-красные витражи. На их фоне пожелал сниматься их автор – Василий Бородай. Я с блеском выполнил свою работу и потом много лет показывал родным и знакомым дедовскую картину, приговаривая: «А вот там стою я и держу зонтик».
В знак признания художник угостил нас какими-то сладостями с черным кофе. По тогдашней моде он был не просто черный, но еще и без сахара. И, в духе хлебосольных украинских традиций, от всего сердца налил его не в маленькие кофейные чашечки, а в увесистые трехсотграммовые кружки.
Надо признаться, дома мы кофе вообще не пили. Изредка я пробовал хорошо разбавленный молоком сладкий напиток, который пила бабушка, «опасаясь давления». Но был я при этом очень послушным и тактичным мальчиком.
– Ешь там все, что дадут, – напутствовала меня мама перед поездкой. – Не привередничай. А то будет стыдно.
Василий Бородай, 1974
Чтобы «не было стыдно», я мучительночестно выпил крепчайший кофе по-турецки в украинской таре. До самого дна. (Думаю, мне было бы легче выпить пузырек черных чернил.) И впал в странный полуобморочный транс. Но надо было ехать дальше. Нас уже ждала у себя на квартире артистка Ада Роговцева, героиня моих любимых в то время фильмов «Салют, Мария!» и «Укрощение огня».
Я держался как мог. Увлеченные разговором с Бородаем и прошедшими съемками, ни дед, ни Володя Вяткин не замечали моего состояния. Но Ада Роговцева заметила. Она выпорхнула нам навстречу в ярком цветном платье, как настоящая райская птица. И тотчас присела и заглянула мне в лицо.
– Вы такой бледный, – сказал она. – Все ли в порядке?
– И в самом деле, – спохватился дед. – Устал, наверное?
– Слишком много выпил… кофе, – с трудом ворочая языком, пробормотал я, конфузясь.
– Да! – подтвердил Володя. – С кофе он там действительно переборщил.
Ада мгновенно порхнула куда-то вглубь квартиры и тут же вручила мне чашку со свежепротертой с сахаром клубникой.
– Я как раз делала заготовки, – сказала она. – думаю, это поможет.
От клубники исходил блаженный аромат свежести. Я ел клубнику и чувствовал, как кофейная пелена спадает с глаз. Мне и раньше нравилась Ада Роговцева, но с тех пор я полюбил ее как свою спасительницу. Ее… и протертую клубнику.
А потом был ночной переезд в уже упоминавшийся отдаленный колхоз. Помню черную-черную южную ночь, какого-то странного провожатого, сидевшего рядом с дедом и время от времени на всю кабину запевавшего популярные оперные арии. И режущие глаз огни встречных машин.
– Как они слепят! – недовольно пробормотал дед. – Нет чтобы притушить как полагается…
– А давайте пару раз включим нашу «волшебную лампу»! – предложил я, все еще ощущая прилив сил после клубники.
– Что ты! – испугался дед.
А Володя задумчиво добавил:
– На такой скорости и на такой дороге это – настоящее оружие. Собьет в кювет только так!
Галина Бойко, 1974
В колхозе дед должен был снять доярку на лоне природы. Предполагалось, что это будет собирательный образ молодой украинской девушки-красавицы. Вместо этого, по указанию обкома или крайкома, нам представили почетную доярку края, передовицу и ударницу Галину Бойко. Была она дородная и добродушная. И не девушка, а бабушка.
Дед сначала даже растерялся, но потом повел ее в сады-огороды, повертел под солнечными лучами влево-вправо, о чем-то пошептался с председателем колхоза… И сегодня с картины на нас глядит веселая и совсем даже не старая, а мудрая молочница в красно-белом национальном сарафане и красном платке на фоне красных полевых маков. Картина стала настоящей удачей и, как мне кажется, даже пахнет парным молоком!
Доярка подарила мне на прощание огромный, величиной с таз, подсолнух. Подсолнухи я видел только в кино и принял подарок с благоговением.
Мы вернулись в Киев, и я, желая получше сохранить чудо-цветок, вынес его на ночь на балкон нашего гостиничного номера. Рано утром нас разбудил птичий концерт: чирикали воробьи, чирикали дружно и оживленно. И было их, судя по голосам, великое множество.
Я вышел на балкон и вместо правильного диска подсолнуха увидел безобразно расклеванный остов, больше похожий на кашу. Это был удар. Я так хотел привести домой настоящий сувенир с украинского поля! Но мудрый дед и тут сумел найти нужные слова:
– Стихия всегда требует жертв! – сказал он. – Греки бросали в море бочки с оливковым маслом. Испанцы швыряли в океан пригоршни золотых монет. В Карфагене, прежде чем пересечь пустыню, и вовсе резали людей. Мы славно поработали, много повидали… Будем считать твой подсолнух нашим совместным жертвоприношением этой поездке.
И я, конечно, сразу утешился.
* * *
Вот уже почти четверть века деда Васи нет с нами.
Ушли из жизни большинство персонажей его картин, тускнеют и портятся и сами работы – даже лучшие фотокраски бессильны против времени. Быть может, где-то в архивах РИА «Новости» (бывшего АПН) хранятся малышевские негативы. Да только кому они нужны в век цифровой фотографии… Так есть ли смысл в жизни, если спустя всего два-три десятка лет о нас помнят разве что наши стареющие внуки и некоторые пожилые ученики? Несомненно! Только не стоит измерять его объемы количеством фоторабот или числом написанных строк (равно как и в декалитрах надоенного молока или тоннах добытого угля).
Почти весь ХХ век мой дед служил Красоте, извлекал ее из новых и новых лиц, находил в каждом новом персонаже. Но когда я сегодня думаю о нем, я вспоминаю не его картины или рассказы, а лица людей в момент духовного взаимопонимания, возникавшего при общении с дедом.
Я с дедом на даче, 1961
– Великолепно! – говорил он, вглядываясь в эти лица своими цепкими глазами. И я видел, как уставшие после дороги путешественники отдыхали в кресле, посреди дедовской комнаты-студии. Как замученные болезнями пациенты вдруг сбрасывали с себя груз болячек и смотрели в дедовскую камеру иным, просветленным взглядом. Как улыбались грустные, как смягчались скептики. Порой это преображение длилось считаные минуты, ровно столько, сколько шла съемка. Но если человек даже на мгновение поверит, что он прекрасен, жизнь покажется ему чуточку легче, а выбранный путь – понятнее.
Дарить людям радость – что может быть банальнее? Но есть ли в этом мире подарки дороже?
С дедом в Парке культуры и отдыха им. М. Горького, 1970
Нет, я не стал фотокорреспондентом, как, наверное, мечтал дед. Моим призванием стала радиожурналистика. Вот уже двадцать лет я работаю на «Радио России», и говорить мне нравится больше, чем изображать, а рассказывать – больше, чем показывать. Возможно, в недалеком будущем я сам стану дедом, и крохотный внук сначала ухватит меня за палец, а лет через десять ужаснется: «И я стану таким… сморщенным, как ты?!»
Но я не стану читать ему морали или учить философии. Я постараюсь обыграть его в шахматы, затаскать по выставкам и вернисажам, замучить поездками по стране и миру, научить его любить этот мир и понимать людей, которые его населяют. Так, как учил меня дед.
В моей квартире висит несколько его картин. На них он сам, мои родители и я – в «нежном» грудном возрасте. Когда-то этот толстощекий малыш глядел на посетителей персональных дедовских выставок со стен Манежа, Дома журналистов, Дома дружбы с зарубежными странами…
Сегодня мой черед напомнить читателям о том, кем был мой дед, Василий Алексеевич Малышев.
В. А. Потресов
Из беженских скитаний Сергея Яблоновского
Я никогда не видел своего деда, не сидел у него на коленях, не дергал за бороду. Хотя, когда в конце 1953 года его не стало, я учился в первом классе 110-й московской мужской средней школы. Вот в том-то и дело: я ходил в московскую школу, а дед умер в Париже – в тот последний год сталинского правления расстояние между этими столицами было больше, чем от Земли до Марса.
О моем деде, Сергее Викторовиче Потресове, более известном в театральных и литературных кругах России до революции как Сергей Яблоновский, мне рассказывал отец. Иной раз, прогуливаясь по Москве, мы останавливались перед нестарым тогда еще домом в стиле модерн, скажем на углу Среднего и Малого Николопесковских или Петровки и Столешникова (дед, оказывается, любил менять жилье), и, показывая на окна в бельэтаже, рассказывал, сколько семья нанимала тут комнат, кто здесь бывал и прочие занятные, но ушедшие в дореволюционное прошлое детали.
Когда в середине пятидесятых в Москве стали появляться люди, казалось бы, навсегда исчезнувшие в тридцать седьмых, я познакомился со своим дядей Володей, братом моего отца: почти двадцать лет он провел в лагерях за то, что встречался с моим дедом в Париже. Когда речь заходила об эмигрантах, которых советская власть по разным причинам прощала, о деде речи не было: видимо, даже в после – сталинское время он представлял большую угрозу для коммунистического режима.
Чем же так насолил дед советской власти, я узнал значительно позже, когда довелось познакомиться с его архивом, обнаруженным за рубежом. Впрочем, я и раньше из эзоповских высказываний взрослых вылавливал информацию о дедовых провинностях перед властью.
И в России, и даже во Франции, где он провел тридцать три эмиграционных года, удавалось обнаружить лишь разрозненные небольшие фонды, как, например, в РГАЛИ, ИНИОНе и еще кое-где. Благодаря счастливому случаю, о котором расскажу позже, найти кое-какие материалы о нем, сохранившиеся рукописи и публикации, удалось в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Соединив обнаруженные западные архивы, отечественные фонды, по крупицам собранные книги, публикации и то, что чудом сохранили мои родственники, удалось воссоздать образ деда, видеть которого, повторю, мне, увы, не довелось.
С. В. Потресов (Яблоновский), 1910-е годы
Вот тогда я понял, что держу в руках забытое наследие, и возникла идея вернуть отечественной культуре имя моего деда, журналиста, поэта, театрального и литературного критика Сергея Викторовича Потресова, более известного под псевдонимом Сергей Яблоновский [2(15).11.1870, Харьков – 6.12.1953, Париж]. Один из известнейших в начале ХХ века фельетонистов, соредактор сытинского «Русского слова»[1 - Ежедневная газета, выходила в Москве с 1895-го по 26 ноября (9 декабря) 1917 г. Издатели – А. А. Александров, с 1897 г. И. Д. Сытин. В газете сотрудничали В. М. Дорошевич (с 1902 г. – фактический редактор), А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, В. А. Гиляровский, Вас. И. Немирович-Данченко и др. Газету называли «фабрикой новостей», и критика власти способствовала превращению газеты в одно из самых распространенных изданий России. Тираж к началу 1917 г. составлял 600–800 тыс. экземпляров. После Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство, выступала против большевиков. К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 6 июля 1918 г. выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 г. закрыта окончательно.], самой крупной газеты начала ХХ века, автор бесчисленных рецензий и статей об актерах и театре, публицист, участник и руководитель московских литературных объединений, Сергей Яблоновский из-за своих убеждений и активных политических действий в 1918 году был приговорен екатеринбургской ЧК к расстрелу. Тогда ему удалось бежать на юг России, где он участвовал в Белом движении, а в 1920 году Яблоновский навсегда покинул родину. В эмиграции жил в Париже.
Стоит ли говорить, что власти, которые правили страной с 1917 по 1991 год, сделали все возможное, чтобы имя С. Потресова-Яблоновского, его произведения были навсегда забыты. Надо отдать им должное, властям это удалось довольно успешно, хотя даже в советские годы отдельные произведения опального автора все же публиковались, вероятно, по недосмотру, лени или недостаточной образованности цензоров. Я расскажу об этих редких изданиях.
В знак признания художник угостил нас какими-то сладостями с черным кофе. По тогдашней моде он был не просто черный, но еще и без сахара. И, в духе хлебосольных украинских традиций, от всего сердца налил его не в маленькие кофейные чашечки, а в увесистые трехсотграммовые кружки.
Надо признаться, дома мы кофе вообще не пили. Изредка я пробовал хорошо разбавленный молоком сладкий напиток, который пила бабушка, «опасаясь давления». Но был я при этом очень послушным и тактичным мальчиком.
– Ешь там все, что дадут, – напутствовала меня мама перед поездкой. – Не привередничай. А то будет стыдно.
Василий Бородай, 1974
Чтобы «не было стыдно», я мучительночестно выпил крепчайший кофе по-турецки в украинской таре. До самого дна. (Думаю, мне было бы легче выпить пузырек черных чернил.) И впал в странный полуобморочный транс. Но надо было ехать дальше. Нас уже ждала у себя на квартире артистка Ада Роговцева, героиня моих любимых в то время фильмов «Салют, Мария!» и «Укрощение огня».
Я держался как мог. Увлеченные разговором с Бородаем и прошедшими съемками, ни дед, ни Володя Вяткин не замечали моего состояния. Но Ада Роговцева заметила. Она выпорхнула нам навстречу в ярком цветном платье, как настоящая райская птица. И тотчас присела и заглянула мне в лицо.
– Вы такой бледный, – сказал она. – Все ли в порядке?
– И в самом деле, – спохватился дед. – Устал, наверное?
– Слишком много выпил… кофе, – с трудом ворочая языком, пробормотал я, конфузясь.
– Да! – подтвердил Володя. – С кофе он там действительно переборщил.
Ада мгновенно порхнула куда-то вглубь квартиры и тут же вручила мне чашку со свежепротертой с сахаром клубникой.
– Я как раз делала заготовки, – сказала она. – думаю, это поможет.
От клубники исходил блаженный аромат свежести. Я ел клубнику и чувствовал, как кофейная пелена спадает с глаз. Мне и раньше нравилась Ада Роговцева, но с тех пор я полюбил ее как свою спасительницу. Ее… и протертую клубнику.
А потом был ночной переезд в уже упоминавшийся отдаленный колхоз. Помню черную-черную южную ночь, какого-то странного провожатого, сидевшего рядом с дедом и время от времени на всю кабину запевавшего популярные оперные арии. И режущие глаз огни встречных машин.
– Как они слепят! – недовольно пробормотал дед. – Нет чтобы притушить как полагается…
– А давайте пару раз включим нашу «волшебную лампу»! – предложил я, все еще ощущая прилив сил после клубники.
– Что ты! – испугался дед.
А Володя задумчиво добавил:
– На такой скорости и на такой дороге это – настоящее оружие. Собьет в кювет только так!
Галина Бойко, 1974
В колхозе дед должен был снять доярку на лоне природы. Предполагалось, что это будет собирательный образ молодой украинской девушки-красавицы. Вместо этого, по указанию обкома или крайкома, нам представили почетную доярку края, передовицу и ударницу Галину Бойко. Была она дородная и добродушная. И не девушка, а бабушка.
Дед сначала даже растерялся, но потом повел ее в сады-огороды, повертел под солнечными лучами влево-вправо, о чем-то пошептался с председателем колхоза… И сегодня с картины на нас глядит веселая и совсем даже не старая, а мудрая молочница в красно-белом национальном сарафане и красном платке на фоне красных полевых маков. Картина стала настоящей удачей и, как мне кажется, даже пахнет парным молоком!
Доярка подарила мне на прощание огромный, величиной с таз, подсолнух. Подсолнухи я видел только в кино и принял подарок с благоговением.
Мы вернулись в Киев, и я, желая получше сохранить чудо-цветок, вынес его на ночь на балкон нашего гостиничного номера. Рано утром нас разбудил птичий концерт: чирикали воробьи, чирикали дружно и оживленно. И было их, судя по голосам, великое множество.
Я вышел на балкон и вместо правильного диска подсолнуха увидел безобразно расклеванный остов, больше похожий на кашу. Это был удар. Я так хотел привести домой настоящий сувенир с украинского поля! Но мудрый дед и тут сумел найти нужные слова:
– Стихия всегда требует жертв! – сказал он. – Греки бросали в море бочки с оливковым маслом. Испанцы швыряли в океан пригоршни золотых монет. В Карфагене, прежде чем пересечь пустыню, и вовсе резали людей. Мы славно поработали, много повидали… Будем считать твой подсолнух нашим совместным жертвоприношением этой поездке.
И я, конечно, сразу утешился.
* * *
Вот уже почти четверть века деда Васи нет с нами.
Ушли из жизни большинство персонажей его картин, тускнеют и портятся и сами работы – даже лучшие фотокраски бессильны против времени. Быть может, где-то в архивах РИА «Новости» (бывшего АПН) хранятся малышевские негативы. Да только кому они нужны в век цифровой фотографии… Так есть ли смысл в жизни, если спустя всего два-три десятка лет о нас помнят разве что наши стареющие внуки и некоторые пожилые ученики? Несомненно! Только не стоит измерять его объемы количеством фоторабот или числом написанных строк (равно как и в декалитрах надоенного молока или тоннах добытого угля).
Почти весь ХХ век мой дед служил Красоте, извлекал ее из новых и новых лиц, находил в каждом новом персонаже. Но когда я сегодня думаю о нем, я вспоминаю не его картины или рассказы, а лица людей в момент духовного взаимопонимания, возникавшего при общении с дедом.
Я с дедом на даче, 1961
– Великолепно! – говорил он, вглядываясь в эти лица своими цепкими глазами. И я видел, как уставшие после дороги путешественники отдыхали в кресле, посреди дедовской комнаты-студии. Как замученные болезнями пациенты вдруг сбрасывали с себя груз болячек и смотрели в дедовскую камеру иным, просветленным взглядом. Как улыбались грустные, как смягчались скептики. Порой это преображение длилось считаные минуты, ровно столько, сколько шла съемка. Но если человек даже на мгновение поверит, что он прекрасен, жизнь покажется ему чуточку легче, а выбранный путь – понятнее.
Дарить людям радость – что может быть банальнее? Но есть ли в этом мире подарки дороже?
С дедом в Парке культуры и отдыха им. М. Горького, 1970
Нет, я не стал фотокорреспондентом, как, наверное, мечтал дед. Моим призванием стала радиожурналистика. Вот уже двадцать лет я работаю на «Радио России», и говорить мне нравится больше, чем изображать, а рассказывать – больше, чем показывать. Возможно, в недалеком будущем я сам стану дедом, и крохотный внук сначала ухватит меня за палец, а лет через десять ужаснется: «И я стану таким… сморщенным, как ты?!»
Но я не стану читать ему морали или учить философии. Я постараюсь обыграть его в шахматы, затаскать по выставкам и вернисажам, замучить поездками по стране и миру, научить его любить этот мир и понимать людей, которые его населяют. Так, как учил меня дед.
В моей квартире висит несколько его картин. На них он сам, мои родители и я – в «нежном» грудном возрасте. Когда-то этот толстощекий малыш глядел на посетителей персональных дедовских выставок со стен Манежа, Дома журналистов, Дома дружбы с зарубежными странами…
Сегодня мой черед напомнить читателям о том, кем был мой дед, Василий Алексеевич Малышев.
В. А. Потресов
Из беженских скитаний Сергея Яблоновского
Я никогда не видел своего деда, не сидел у него на коленях, не дергал за бороду. Хотя, когда в конце 1953 года его не стало, я учился в первом классе 110-й московской мужской средней школы. Вот в том-то и дело: я ходил в московскую школу, а дед умер в Париже – в тот последний год сталинского правления расстояние между этими столицами было больше, чем от Земли до Марса.
О моем деде, Сергее Викторовиче Потресове, более известном в театральных и литературных кругах России до революции как Сергей Яблоновский, мне рассказывал отец. Иной раз, прогуливаясь по Москве, мы останавливались перед нестарым тогда еще домом в стиле модерн, скажем на углу Среднего и Малого Николопесковских или Петровки и Столешникова (дед, оказывается, любил менять жилье), и, показывая на окна в бельэтаже, рассказывал, сколько семья нанимала тут комнат, кто здесь бывал и прочие занятные, но ушедшие в дореволюционное прошлое детали.
Когда в середине пятидесятых в Москве стали появляться люди, казалось бы, навсегда исчезнувшие в тридцать седьмых, я познакомился со своим дядей Володей, братом моего отца: почти двадцать лет он провел в лагерях за то, что встречался с моим дедом в Париже. Когда речь заходила об эмигрантах, которых советская власть по разным причинам прощала, о деде речи не было: видимо, даже в после – сталинское время он представлял большую угрозу для коммунистического режима.
Чем же так насолил дед советской власти, я узнал значительно позже, когда довелось познакомиться с его архивом, обнаруженным за рубежом. Впрочем, я и раньше из эзоповских высказываний взрослых вылавливал информацию о дедовых провинностях перед властью.
И в России, и даже во Франции, где он провел тридцать три эмиграционных года, удавалось обнаружить лишь разрозненные небольшие фонды, как, например, в РГАЛИ, ИНИОНе и еще кое-где. Благодаря счастливому случаю, о котором расскажу позже, найти кое-какие материалы о нем, сохранившиеся рукописи и публикации, удалось в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Соединив обнаруженные западные архивы, отечественные фонды, по крупицам собранные книги, публикации и то, что чудом сохранили мои родственники, удалось воссоздать образ деда, видеть которого, повторю, мне, увы, не довелось.
С. В. Потресов (Яблоновский), 1910-е годы
Вот тогда я понял, что держу в руках забытое наследие, и возникла идея вернуть отечественной культуре имя моего деда, журналиста, поэта, театрального и литературного критика Сергея Викторовича Потресова, более известного под псевдонимом Сергей Яблоновский [2(15).11.1870, Харьков – 6.12.1953, Париж]. Один из известнейших в начале ХХ века фельетонистов, соредактор сытинского «Русского слова»[1 - Ежедневная газета, выходила в Москве с 1895-го по 26 ноября (9 декабря) 1917 г. Издатели – А. А. Александров, с 1897 г. И. Д. Сытин. В газете сотрудничали В. М. Дорошевич (с 1902 г. – фактический редактор), А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, В. А. Гиляровский, Вас. И. Немирович-Данченко и др. Газету называли «фабрикой новостей», и критика власти способствовала превращению газеты в одно из самых распространенных изданий России. Тираж к началу 1917 г. составлял 600–800 тыс. экземпляров. После Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство, выступала против большевиков. К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 6 июля 1918 г. выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 г. закрыта окончательно.], самой крупной газеты начала ХХ века, автор бесчисленных рецензий и статей об актерах и театре, публицист, участник и руководитель московских литературных объединений, Сергей Яблоновский из-за своих убеждений и активных политических действий в 1918 году был приговорен екатеринбургской ЧК к расстрелу. Тогда ему удалось бежать на юг России, где он участвовал в Белом движении, а в 1920 году Яблоновский навсегда покинул родину. В эмиграции жил в Париже.
Стоит ли говорить, что власти, которые правили страной с 1917 по 1991 год, сделали все возможное, чтобы имя С. Потресова-Яблоновского, его произведения были навсегда забыты. Надо отдать им должное, властям это удалось довольно успешно, хотя даже в советские годы отдельные произведения опального автора все же публиковались, вероятно, по недосмотру, лени или недостаточной образованности цензоров. Я расскажу об этих редких изданиях.