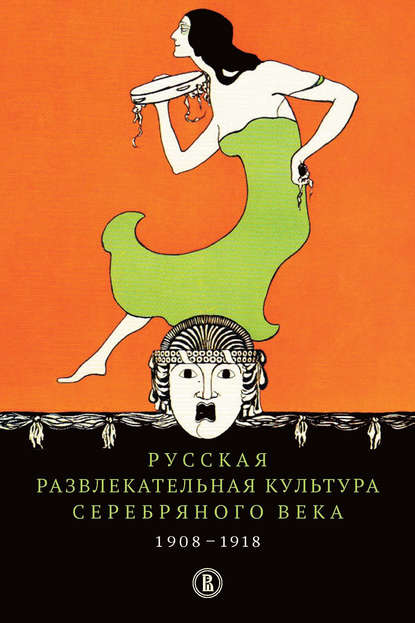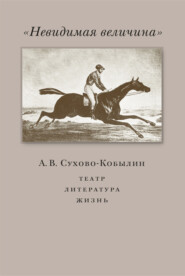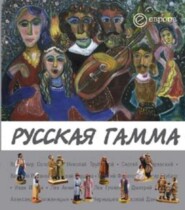По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская развлекательная культура Серебряного века. 1908-1918
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пролетая в нежный, страстный,
Грациозный па д'эспань, —
<…>
Звякнет в пол железной злостью
Там косы сухая жердь: —
Входит гостья, щелкнет костью,
Взвеет саван: гостья – смерть.
Гость: – немое, роковое,
Огневое домино —
Неживою головою
Над хозяйкой склонено.
Во второй половине стихотворения дважды повторяется фраза: «Вам погибнуть суждено», – как будто произнесенная красным домино, танцующим со Смертью, а в финале стихотворения происходит метаморфоза: красное домино оказывается не только вестником смерти, но и убийцей, а Смерть из карнавальной превращается в подлинную[71 - Цит. по: [Белый, 1994, с. 167-169].]:
Чей-то голос раздается:
«Вам погибнуть суждено», —
И уж в дальних залах вьется, —
Вьется в вальсе домино
С милой гостьей: желтой костью
Щелкнет гостья: гостья – смерть.
Прогрозит и лязгнет злостью
Там косы сухая жердь.
<…>
Ждет. И боком, легким скоком, —
«Вам погибнуть суждено», —
Над хозяйкой ненароком
Прошуршало домино.
<…>
Только там по гулким залам —
Там, где пусто и темно, —
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.
Уже отмечалось, что в основе сюжета этого стихотворения лежит рассказ Э. По «Маска Красной смерти» (1842)[72 - См.: [Лавров, 1995, с. 259; Пискунова, 1994, с. 513].]. Совпадают наиболее важные сюжетные мотивы: появление Смерти в красном домино на балу, устроенном в тщательно изолированном от внешнего мира роскошном дворце, в разгар веселого праздника, превращение маскарадной маски в истинное лицо Смерти, гибель всех участников оргии и безграничная власть «Тьмы» и «Тлена». Те же мотивы у Белого и в стихотворении «В Летнем саду» (1906), и в романе «Петербург» (1913), хотя и в фарсовом, вывороченном наизнанку варианте: в наводящем панику красном домино появляется не Смерть, а один из персонажей романа Николай Аблеухов.
Бал мертвецов или с участием мертвецов – один из сквозных сюжетов европейской и русской литературы. Достаточно вспомнить «Пляску смерти» Ш. Бодлера, «Бал повешенных» А. Рембо, стихотворение «Бал» А. Одоевского и повесть «Бал» В. Одоевского.
Рассказ Э. По «Маска Красной смерти» вообще играет роль прецедентного текста в изображении бала, маскарада, праздника в поэзии и прозе символистов. В стихотворении К. Бальмонта «После бала» (1899) имя Э. По эксплицирует источник образа дьявольского бала[73 - Цит. по: [Бальмонт, 1989, с. 364-365].]:
Как пир среди чумы, манящий с давних пор,
Как странный вымысел безумного Эдгара,
Для нас пропевшего навеки «Nevermore», —
Наш бал, раскинутый по многошумным залам,
Уже закончил лик сокрытой красоты,
И чем-то веяло холодным и усталым
С внезапно дрогнувшей над нами высоты.
В процитированном стихотворении назван еще один важнейший прецедентный текст: пушкинский «Пир во время чумы» (1830). Собственно, рассказ Э. По можно считать вариацией на тему этого сюжета: ведь замкнутый аристократический кружок принца Просперо прячется в загородном монастыре именно от эпидемии Красной смерти, поразившей страну и в конце концов настигнувшей и пирующих на маскараде принца и его придворных.
Тема «присутствия смерти на празднестве жизни»[74 - [Виролайнен, 1998, с. 47].] – один из топосов, хорошо известных европейской и русской традиции XVIII-XIX веков. Однако в символистской и постсимволистской литературе эта тема претерпевает значительную трансформацию: исходные локусы развлечений – это не столько «праздник жизни», сколько путь к смерти или, точнее, сопряжение праздника жизни с ситуацией постоянной угрозы смерти, катастрофы. Это ощущение катастрофичности, превращения праздника жизни в праздник смерти проявляется не только в литературе. М. Кузмин видит ту же тему в живописи мирискусников, в особенности – у К. Сомова: «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг – вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство – череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок – вот пафос целого ряда произведений Сомова. О как не весел этот галантный Сомов! Какое ужасное зеркало подносит он смеющемуся празднику! – Comme il est lourd tout cet amour lеger![75 - Как тяжела ты, легкая любовь! (фр.)] <…> Смерть – вот чего боится Сомов, откуда его насмешка и отчаяние и опустошенный блеск. <…> И ретроспективность у него не только исторические иллюстрации любимой эпохи и необходимый метафизический элемент его творчества, улыбающаяся скука вечного повторения, пестрого и минутного очарования легчайших пылинок, летящих в бессмысленную пустоту забвения и смерти. Восемнадцатый век, даже в самом конце, был спокойнее, простодушнее, не веровал без колебаний и без сомнений»[76 - [Кузмин, 1996, с. 154-156].].
В постсимволистской традиции, уже в советский период, тема «пира во время чумы» была подхвачена в поэзии и статьях О. Мандельштама, о чем мне уже приходилось писать. Уже в стихотворении 1913 г. мнимая легкость существования выявляет скрытую трагическую обреченность в пушкинских образах «вина», «похмелья» и «чумы»[77 - [Мандельштам, 2001, с. 137].]:
От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?
Начиная с 1917 г. связь образов еды, питья, вина, пирушки с сюжетом «Пира во время чумы» и с заданной символистами традицией демонизации праздника становится в лирике Мандельштама постоянной. Не упоминая обо всех текстах, назовем хотя бы стихотворение «Фаэтонщик», в котором поездка через разрушенный мусульманами Нагорный Карабах осмыслена как пир на грани жизни и смерти[78 - [Там же, с. 179-181].]:
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.
Возница («дьявола погонщик») превращается в пушкинского Председателя[79 - [Там же, с. 180].]:
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил – черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.
Знает об этой традиции и Б. Пастернак – достаточно вспомнить его знаменитую строчку «На пире Платона во время чумы»[80 - Стихотворение «Лето» (1930); цит. по: [Пастернак, 1989, с. 388-389].]. Наконец, самым масштабным произведением, продолжившим традицию демонизации развлечений, является, на мой взгляд, роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором и театр, и бал, и ресторан оказались просто местом пребывания Воланда и его свиты. Полемическое использование праздничных хронотопов в романе Булгакова и его связь с символистской традицией станет особенно ясной, если увидеть общность трансформации исходных сюжетов: смерть становится не финалом, завершившим «праздник жизни», а повседневным состоянием мира. Если в литературе XIX века достаточно четко ощутима грань между земным существованием и царством смерти, то в символистской и постсимволистской традиции праздник происходит не просто на границе между миром живых и миром мертвых, а в атмосфере почти утраченной границы между мирами, когда мир смерти и мир жизни едва ли не меняются местами.
Литература
Анциферов Н.П. «Непостижимый город…». Л.: Лениздат, 1991. Бальмонт К. Стихотворения. М.: Книга, 1989.
Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. М.: Республика, 1994.
Блок А.А. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. М.: Наука, 1997- (по настоящее время).
Брюсов В.Я. Собр. соч.: в 7 т. М.: Художественная литература, 1973-1975.
Венцлова Т. К демонологии русского символизма // Венцлова Т. Собеседники на пиру. М.: Новое Литературное обозрение, 2012. С. 32-58.
Виролайнен М. Две чаши (о дружеском послании 1810-х годов) // Русские пиры. СПб.: Альманах «Канун», 1998. Вып. 3. С. 40-69.
Кузмин М. Условности. Статьи об искусстве. Томск: Водолей, 1996.
Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М.: Новое Литературное обозрение, 1995.
Магомедова Д.М. Комментируя Блока. М.: РГГУ, 2004.
Грациозный па д'эспань, —
<…>
Звякнет в пол железной злостью
Там косы сухая жердь: —
Входит гостья, щелкнет костью,
Взвеет саван: гостья – смерть.
Гость: – немое, роковое,
Огневое домино —
Неживою головою
Над хозяйкой склонено.
Во второй половине стихотворения дважды повторяется фраза: «Вам погибнуть суждено», – как будто произнесенная красным домино, танцующим со Смертью, а в финале стихотворения происходит метаморфоза: красное домино оказывается не только вестником смерти, но и убийцей, а Смерть из карнавальной превращается в подлинную[71 - Цит. по: [Белый, 1994, с. 167-169].]:
Чей-то голос раздается:
«Вам погибнуть суждено», —
И уж в дальних залах вьется, —
Вьется в вальсе домино
С милой гостьей: желтой костью
Щелкнет гостья: гостья – смерть.
Прогрозит и лязгнет злостью
Там косы сухая жердь.
<…>
Ждет. И боком, легким скоком, —
«Вам погибнуть суждено», —
Над хозяйкой ненароком
Прошуршало домино.
<…>
Только там по гулким залам —
Там, где пусто и темно, —
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.
Уже отмечалось, что в основе сюжета этого стихотворения лежит рассказ Э. По «Маска Красной смерти» (1842)[72 - См.: [Лавров, 1995, с. 259; Пискунова, 1994, с. 513].]. Совпадают наиболее важные сюжетные мотивы: появление Смерти в красном домино на балу, устроенном в тщательно изолированном от внешнего мира роскошном дворце, в разгар веселого праздника, превращение маскарадной маски в истинное лицо Смерти, гибель всех участников оргии и безграничная власть «Тьмы» и «Тлена». Те же мотивы у Белого и в стихотворении «В Летнем саду» (1906), и в романе «Петербург» (1913), хотя и в фарсовом, вывороченном наизнанку варианте: в наводящем панику красном домино появляется не Смерть, а один из персонажей романа Николай Аблеухов.
Бал мертвецов или с участием мертвецов – один из сквозных сюжетов европейской и русской литературы. Достаточно вспомнить «Пляску смерти» Ш. Бодлера, «Бал повешенных» А. Рембо, стихотворение «Бал» А. Одоевского и повесть «Бал» В. Одоевского.
Рассказ Э. По «Маска Красной смерти» вообще играет роль прецедентного текста в изображении бала, маскарада, праздника в поэзии и прозе символистов. В стихотворении К. Бальмонта «После бала» (1899) имя Э. По эксплицирует источник образа дьявольского бала[73 - Цит. по: [Бальмонт, 1989, с. 364-365].]:
Как пир среди чумы, манящий с давних пор,
Как странный вымысел безумного Эдгара,
Для нас пропевшего навеки «Nevermore», —
Наш бал, раскинутый по многошумным залам,
Уже закончил лик сокрытой красоты,
И чем-то веяло холодным и усталым
С внезапно дрогнувшей над нами высоты.
В процитированном стихотворении назван еще один важнейший прецедентный текст: пушкинский «Пир во время чумы» (1830). Собственно, рассказ Э. По можно считать вариацией на тему этого сюжета: ведь замкнутый аристократический кружок принца Просперо прячется в загородном монастыре именно от эпидемии Красной смерти, поразившей страну и в конце концов настигнувшей и пирующих на маскараде принца и его придворных.
Тема «присутствия смерти на празднестве жизни»[74 - [Виролайнен, 1998, с. 47].] – один из топосов, хорошо известных европейской и русской традиции XVIII-XIX веков. Однако в символистской и постсимволистской литературе эта тема претерпевает значительную трансформацию: исходные локусы развлечений – это не столько «праздник жизни», сколько путь к смерти или, точнее, сопряжение праздника жизни с ситуацией постоянной угрозы смерти, катастрофы. Это ощущение катастрофичности, превращения праздника жизни в праздник смерти проявляется не только в литературе. М. Кузмин видит ту же тему в живописи мирискусников, в особенности – у К. Сомова: «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг – вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство – череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок – вот пафос целого ряда произведений Сомова. О как не весел этот галантный Сомов! Какое ужасное зеркало подносит он смеющемуся празднику! – Comme il est lourd tout cet amour lеger![75 - Как тяжела ты, легкая любовь! (фр.)] <…> Смерть – вот чего боится Сомов, откуда его насмешка и отчаяние и опустошенный блеск. <…> И ретроспективность у него не только исторические иллюстрации любимой эпохи и необходимый метафизический элемент его творчества, улыбающаяся скука вечного повторения, пестрого и минутного очарования легчайших пылинок, летящих в бессмысленную пустоту забвения и смерти. Восемнадцатый век, даже в самом конце, был спокойнее, простодушнее, не веровал без колебаний и без сомнений»[76 - [Кузмин, 1996, с. 154-156].].
В постсимволистской традиции, уже в советский период, тема «пира во время чумы» была подхвачена в поэзии и статьях О. Мандельштама, о чем мне уже приходилось писать. Уже в стихотворении 1913 г. мнимая легкость существования выявляет скрытую трагическую обреченность в пушкинских образах «вина», «похмелья» и «чумы»[77 - [Мандельштам, 2001, с. 137].]:
От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?
Начиная с 1917 г. связь образов еды, питья, вина, пирушки с сюжетом «Пира во время чумы» и с заданной символистами традицией демонизации праздника становится в лирике Мандельштама постоянной. Не упоминая обо всех текстах, назовем хотя бы стихотворение «Фаэтонщик», в котором поездка через разрушенный мусульманами Нагорный Карабах осмыслена как пир на грани жизни и смерти[78 - [Там же, с. 179-181].]:
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.
Возница («дьявола погонщик») превращается в пушкинского Председателя[79 - [Там же, с. 180].]:
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил – черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.
Знает об этой традиции и Б. Пастернак – достаточно вспомнить его знаменитую строчку «На пире Платона во время чумы»[80 - Стихотворение «Лето» (1930); цит. по: [Пастернак, 1989, с. 388-389].]. Наконец, самым масштабным произведением, продолжившим традицию демонизации развлечений, является, на мой взгляд, роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором и театр, и бал, и ресторан оказались просто местом пребывания Воланда и его свиты. Полемическое использование праздничных хронотопов в романе Булгакова и его связь с символистской традицией станет особенно ясной, если увидеть общность трансформации исходных сюжетов: смерть становится не финалом, завершившим «праздник жизни», а повседневным состоянием мира. Если в литературе XIX века достаточно четко ощутима грань между земным существованием и царством смерти, то в символистской и постсимволистской традиции праздник происходит не просто на границе между миром живых и миром мертвых, а в атмосфере почти утраченной границы между мирами, когда мир смерти и мир жизни едва ли не меняются местами.
Литература
Анциферов Н.П. «Непостижимый город…». Л.: Лениздат, 1991. Бальмонт К. Стихотворения. М.: Книга, 1989.
Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. М.: Республика, 1994.
Блок А.А. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. М.: Наука, 1997- (по настоящее время).
Брюсов В.Я. Собр. соч.: в 7 т. М.: Художественная литература, 1973-1975.
Венцлова Т. К демонологии русского символизма // Венцлова Т. Собеседники на пиру. М.: Новое Литературное обозрение, 2012. С. 32-58.
Виролайнен М. Две чаши (о дружеском послании 1810-х годов) // Русские пиры. СПб.: Альманах «Канун», 1998. Вып. 3. С. 40-69.
Кузмин М. Условности. Статьи об искусстве. Томск: Водолей, 1996.
Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М.: Новое Литературное обозрение, 1995.
Магомедова Д.М. Комментируя Блока. М.: РГГУ, 2004.