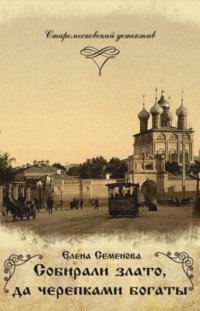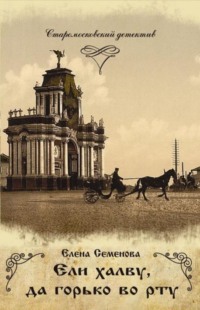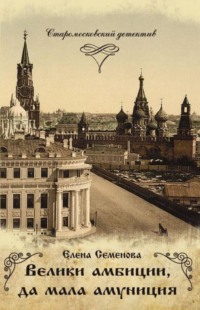Во имя Чести и России
– О, она не пропускает ни одного собрания! – живо откликнулась Эжени.
– Старуха явно тронулась умом… Что ж, это нам на руку. Вы должны вступить в их общество, моя дорогая спутница.
Эжени вопросительно приподняла густую, смолистую бровь:
– Вы хотите, чтобы я участвовала в этом балагане и губила свою душу?
– Давайте не будем говорить о душе? Вы же не будете всерьез уподобляться этим помешанным, а лишь войдете к ним в доверие. С вашими способностями вам это не составит труда. Стоит вам продемонстрировать несколько ваших чудес, и это сборище падет к вашим ногам и возведет вас в свои пророчицы.
– Сомнительную славу вы мне предлагаете. Но у них уже есть пророк.
– Вот как? Что же он?
– Какое-то косматое чудовище. По-видимому, простолюдин. Юродивый или хороший актер.
– Юрода мы оттесним, а актера купим, – решил Виктор.
– Мы?
– Оттесните вы, дорогая, – целуя руку даме, улыбнулся бывший граф Неманич, ныне поселившийся в столице под скромной фамилией Курский. – А куплю я.
– Что ж, я обещала помогать вам, и сделаю то, о чем вы просите. Но вы помните, я никогда не делаю шаг, не зная, каков будет следующий.
– Не волнуйтесь, ничего крамольного. Я лишь хочу, чтобы вы вошли в доверие к старухе, стали бывать у нее дома, а, если надо, и поселились бы у нее, дабы знать все о жизни этого почтенного семейства.
– Мой друг, юрод, о котором я говорила, живет как раз у Борецкой. Они зовут его Гаврюшей.
– Это вам рассказали те две несчастные старые девы, которым не повезло с беспокойными соседями?
– Именно.
– Гаврюша… Что ж, если он актер, а не юрод, то может быть нам более чем полезен. Вам необходимо приглядеться к нему, Эжени. А тогда и решим, как действовать дальше.
Этот разговор происходил тремя неделями прежде. Эжени достало столь незначительного срока, чтобы выполнить инструкции Курского. Теперь она, укутавшись в теплую шубу, сидела подле него в крытой коляске и наблюдала за домом Борецкой. Ей достало одной встречи с юродом Гаврюшей, чтобы распознать в нем обычного актера, умело обирающего старую барыню и дурачащего ее знакомых. Не откладывая дела в долгий ящик, Виктор решил лично пообщаться с мошенником и теперь дожидался, когда тот выйдет из дома.
Ждать пришлось недолго – Эжени успела заметить, что юрод во время дневного почивания барыни уходит якобы «в церкву», а на деле спешит в находившееся в нескольких кварталах от дома Борецких злачное место. Каким порокам предавался он там, ей, разумеется, было неведомо.
Едва Гаврюша показался на улице, как Курский прихлопнул себя по колену:
– Тесен мир! Нужно быть действительно выдающимся актером, чтобы играть блаженного с такой физиономией!
– Вы знаете его?
– Еще бы мне не знать этого разбойника! Помните ли вы, милая Эжени, мой побег из кишеневской тюрьмы?
Разумеется, она помнила. Виктор ожидал там своей не сулящей ничего доброго участи в компании отпетых злодеев, среди которых были три разбойника недавно разгромленной шайки, наводившей ужас на путешественников, особенно, купцов. Все они были малороссами, бежавшими из крепостной зависимости и зажившими вольной казачьей жизнью. Их атаман чем-то походил на Стеньку Разина. В его внешности не было ничего, чтобы выдавало в нем лихого разбойничьего атамана. В тюрьме он был смирен, тужил о своей грешной жизни и тосковал по тому безоблачному времени, когда был он простым крестьянином, имел пригожую невесту и не помышлял о грабежах и иных злодействах. Его подельник Гиря, здоровенный горбун с непропорционально длинными руками и смуглым, злым лицом, смотрел на атамана с презрением. Сам он не испытывал никакого сокрушения о совершенном, а печалился лишь собственной участью. Каким-то образом этому негодяю удалось украсть ключи у надзирателя и отомкнуть свои оковы. О друзьях по несчастью не имел он и мысли, желая спасти от кнута лишь собственную спину, но не тут-то было. Виктор успел мертвой хваткой вцепиться в его ногу. Гиря попытался ударить его кулаком в голову, но молодой офицер ловко увернулся и, вскочив, повис уже на шее разбойника.
– Пусти, ваше благородие, а не то не жить тебе!
– Тогда и тебе не жить! Один громкий звук, и твои же друзья поднимут шум, чтобы не лишаться твоего общества!
– Чего тебе надо?
– Либо уходим вместе, либо вместе остаемся здесь.
Выбора у Гири не было, и так Виктор обрел свободу. Дальнейшие их пути лежали порознь, но разбойник-горбун был слишком примечательной фигурой, чтобы его забыть…
– Поезжайте домой, – сказал Курский Эжени, спрыгивая на мостовую. – А я провожу своего старого приятеля и побеседую с ним.
– Будьте осторожны, Виктор! – откликнулась она, пожимая его руку.
Курский, стройный и по-юношески гибкий, быстро последовал за Гаврюшей-Гирей. Эжени некоторое время смотрела ему вслед. Этим человеком, сочетавшим в себе глубокий и находчивый ум, мужество, ловкость, природное благородство души, скрываемое под маской холодного, беспощадно ироничного циника, она восхищалась и ни единого мгновенья не жалела о том, что когда-то соединила с ним свою странную судьбу. Они оба остались верны своим обетам, но в то же время их жизнь давно сделалась единым целым. Настолько, что, если Виктору грозила беда, Эжени всегда чувствовала это – даже если он находился на другом конце света.
Теперь она была спокойна и, тронув кучера за плечо, сделала ему знак ехать домой.
Курский же благополучно проследовал до трактира «У Евпла», где обрел Гаврюшу, мирно вкушавшего беленькую и нетерпеливо мявшего могучей лапой льнувшую к нему девку. Виктор бесцеремонно уселся напротив них и поприветствовал подавшегося в юроды разбойника:
– Ну, здравствуй, Гиря.
Гаврюша вздрогнул и, медленно подняв косматую голову, вперил в Курского тяжелый, застывший взор. Его лапа сползла с оголенного плеча девки, и та, поняв, что стала лишней, тотчас ускользнула. Он осушил уже наполненную стопку, и, наконец, заговорил:
– Вы, господин хороший, верно, обознались.
– В Кишеневе генерал есть. Он точно не обознается. Ты, Гиря, человек приметный. Да и клеймо у тебя на правом предплечье приметное. По нему тебя сразу вспомнят. Думаю, твой атаман, коли жив, рад будет встретить тебя на каторге, куда ты уж наверное попадешь, потому что горбуны, как говорят, более выносливы к ударам кнута, чем обычные люди.
– Помер атаман, – холодно сказал Гиря. – На третий день после кнута преставился, – водрузив на стол массивные, поросшие рыжеватым волосом кулаки, он заметил: – Где-то видел я тебя, барин, нутром чувствую, что видел, а глаз твоих вспомнить не могу. Верил бы я в черта, так подумал бы, что ты он самый есть.
– Я не против, если ты будешь считать меня чертом. В сущности, нечто общее у меня с этим малоприятным господином есть.
– Ну, сказывай, барин, почто тебе моя душа занадобилась.
– А хотел я твоей душе предложение сделать – заработать недурно, – Курский положил на стол несколько ассигнаций. – Это задаток. Если станешь делать, что скажу, то будешь получать подобное вспомоществование регулярно.
Глаза Гири жадно загорелись:
– Весь к услугам вашего превосходительства!
– Даже не спросив, что от тебя потребуется? – усмехнулся Виктор.
– Какое мне дело? Если вашему превосходительству нужно прибить кого, так это мы завсегда со всем нашим удовольствием.
– Если мне понадобиться кого-нибудь прибить, то я справлюсь с этой задачей сам, – холодно отозвался Курский. – Ты давно живешь в доме Борецких?
– Три года у них кормлюсь.
– И хорошо знаешь, что происходит в этом почтенном семействе?
– Кому ж лучше знать? – самодовольно ухмыльнулся Гиря. – Старуха мне чаще, чем попу, исповедуется. А за остальными я доглядываю для собственной потехи.
– Отлично. Вот, и меня заодно потешишь. Я должен знать все о жизни этой семьи. Их материальное положение, их страсти, их…
– Преступления? – услужливо уточнил бывший разбойник.
– Все. Карточные долги, любовницы… В общем, ты понял.
– Чего уж не понять. Знать, насолили вам эти господа. Хотите их на угольках изжарить?
– Это уже не твое дело.
– Очень даже мое, – возразил Гиря. – Ну как вы эту семейку под монастырь подведете, а при ком же я буду харчеваться? На большую дорогу идти опять прикажете?
– Тебя возьмет к себе другая старая дура.
– А если не возьмет?
– А если не возьмет, даю слово, что на улице ты не останешься. И не задавай больше лишних вопросов, иначе, даю слово, я сделаю так, что следующую ночь ты проведешь в холодной.
Бывший разбойник зло усмехнулся и спрятал в карман деньги:
– Как прикажете доносить вам? Грамотой я не владею, отлучаться надолго также затруднен.
– Каждую среду в это же время здесь буду ждать тебя либо я сам, либо мой человек. От него вопросов не жди. Просто говори все, о чем имеешь сказать. Будешь получать одну и ту же сумму всякий раз. Если же твое сообщение окажется особенно ценным, будут премиальные. Только учти: попробуешь соврать – пеняй на себя. Я об этом узнаю, будь уверен.
С этими словами Курский оставил своего нового агента. Вечером его ожидала не менее важная встреча. И к ней нужно было успеть основательно подготовиться.
Глава 3.
В дом 14 по улице Мойке стекались гости. Еще с 18-го века часть его принадлежала адмиралу Петру Пущину, ныне здесь проживал его внук Иван, сменивший мундир поручика Конной артиллерии на ничтожную должность сверхштатного члена Петербургской палаты уголовного суда, дабы показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унизительной. На этом поприще познакомился он с другим отставным поручиком, решившим защищать права простого человека в уголовном суде – Кондратием Рылеевым. Пущин увидел в Рылееве двигатель, способный дать ход делу, которому сам он и его друзья решили посвятить себя. И не ошибся. Кондратий Федорович скоро сделался неформальным вождем Северного общества, его душой, огнем, воспламеняющим сердца.
Константин Стратонов вступил в ряды общества вслед за своим другом и однополчанином Сашей Одоевским, юношей-поэтом с высокими помыслами и мечтательным выражением благообразного лица. Саша восхищался Кондратием, всем чистым сердцем своим верил в идеалы свободы, восприятые им от своих детских наставников Шопена и Арсеньева. С их легкой руки мальчик проникся идеями Руссо и Монтескье, уже в отроческие годы наизусть знал Вольтера. Его романтическая настроенность подчас казалась Константину излишней: такая инфантильность – престала ли серьезному человеку? Но Одоевский был поэт, и все воспринимал сердцем, поддаваясь пылкому воображению.
Константин, имевший куда более суровую школу жизни, был не столь прекраснодушен. Выросший в чужом семействе, не помнивший матери и почти не помнивший отца, корнет Стратонов получил образование в самом лучшем военном учебном заведении – «рыцарской академии», Первом кадетском корпусе. Здесь же, несколькими годами раньше, учился и Кондратий Рылеев.
В то время уже осталась в прошлом легендарная эпоха корпуса, когда возглавлял его Федор Евстафьевич Ангальт, заботившийся о просвещении кадетов. При нем в числе преподавателей были Княжнин и Железников, актер Плавильщиков декламировал в классах Ломоносова и Хераскова. Юноши читали сочинения знаменитых историков и философов, получали выписываемые из-за границы журналы и газеты, а кроме того работали на маленьких участках разбитой в саду сельской фермы. Увы, Ангальт впал в немилость после французской революции, как почитатель Руссо и Вольтера, и «рыцарская академия» сделалась вполне обычным заведением такого рода.
В бытность там Константина корпус возглавлял знаменитый немецкий писатель, вдохновитель периода «Бури и натиска», получившего название по его трагедии, друг Гете и Шиллера, Фридрих Клингер. Сын прачки и дровосека, борец за национальное единство Германии, он в итоге вступил в Русскую армию, женился на русской и в чине генерала возглавил «рыцарскую академию». Сын его погиб под Бородином. Романы Клингера были большей частью запрещены в России и, в конце концов, сам он попал в число «вольномыслящих» в глазах правительства.
Стратонов всегда с благодарностью вспоминал и его, и преподавателей корпуса, и суровых барынь, присматривавших за младшим отделением, и своих товарищей. Рылеев, будучи старше, не был в их числе. Между тем, в те поры еще вспоминалась в корпусе его озорная шутка над добрейшим экономом Бобровом, всегда отечески относившимся к кадетам, утешавшим их и с большим трудом вынуждавшим себя бывать суровым, когда того требовала необходимость. Этого милейшего человека любили все. Даже старый хромой пес, вечно бродивший за ним. Однажды Бобров явился к Клингеру с обычным утренним рапортом, вложенным в треуголку. Развернув лист, директор немало удивился, обнаружив в нем шуточные вирши. То была первая поэма Кондратия «Кулакияда». В тот же день он повинился перед обиженным до слез экономом за свою шалость и получил от добряка прощение…
В годы войны лучших кадет из старших классов досрочно выпускали в офицеры. Среди них был и Рылеев, успевший пусть и под конец принять участие в битве народов. Младшие товарищи страшно завидовали старшим. По сей день Стратонов горько сожалел, что ему не привелось наравне с братом бить ненавистного супостата.
Война обошлась без него, и Константин с горечью сознавал, что лучшие годы проходят в трясине аракчеевщины, затянувшей всю армию. После войны Государь имел желание сохранить большую армию, но ее содержание требовало средств. Тут-то и выступил вперед временщик с проектом создания военных поселений. Издавна таковые поселения располагались на границах России, родившись из живой необходимости, создаваясь самими поселенцами – казаками. Но в отличие от казаков Аракчеев превратил поселения в форменную каторгу. Все в них было заведено на немецкий манер. Измученный полевою работой поселянин должен был вытягиваться во фронт и маршировать. Возвратясь домой, обязан мыть и чистить избу и мести улицу. Ему надлежало объявлять о каждом яйце, которое принесет его курица. Его жена не имела права просто родить дома, но должна была, чувствуя приближение родов, являться в штаб. Этот ужасный порядок завели в Белоруссии, на Буге, в Харьковской губернии, в Чугуеве… Даже самих казаков не обошло это лихо. Часть из них решено было обратить в «поселенную кавалерию». Особенно пагубно сказалось это на славном Чугуевском казачестве. Еще недавно чугуевское население выставляло десятиэскадронный уланский полк, который отличался красотой людей и лошадей, равно как преданностью и мужеством. Но это воинственное племя было переформировано в военные поселения, изменившие вид этого небольшого, но богатого края и превратившие его в пространную казарму. Новая система нарушала все права собственности и водворила везде и всюду горькую тоску. Много казаков, поседевших под ружьем и покрытых славными ранами, было переселено из родного края и вынуждено умирать в местах для них чуждых, частью даже в Сибири…
Разумеется, доведенные до отчаяния люди восставали – восстания беспощадно подавлялись. Счастье, что устройство поселений оказалось слишком дорогой для казны «забавой», и это начинание не получило предполагаемого изначально распространения.
Жизнь офицера в невоенное время, если он не принадлежит к богатому семейству, весьма трудна. Особенно в столице. Для того, чтобы поддерживать свое положение хоть сколько-нибудь вровень с товарищами, нужно иметь деньги. Офицерское же жалование было столь ничтожно, что даже пошить себе новый мундир оказывалось неподъемной задачей. Начинались долги… Избавить офицера от уплаты долгов по закону могла только война, но ее не было. Константин восхищался аскетизмом старшего брата, пренебрегавшего неформальными «правилами» и оттого обходившегося скромным достатком. Но Юрий уже стяжал себе славу на полях великой войны, стяжал уважение товарищей по оружию. И этот фундамент был незыблем, его не нужно было укреплять соблюдением ложных «правил». У Константина же не было ничего. И он жестоко страдал от своего бесславного и нищенского существования, из которого не находил выхода.
Тяготило душу и то видимое небрежение, если не сказать больше, с которым правительство относилось зачастую к лучшим сынам Отечества. Лишь два героя минувшей войны удостоились памятников, кои были воздвигнуты в столице – Кутузов и Барклай. И это было справедливо, но Константин разделял негодование брата, что не нашлось места памятнику третьему – Багратиону, чей прах так и не был перезахоронен, и чье имя было как будто вовсе позабыто.
А чего стоила история величайшего вослед Ушакову флотоводца Сенявина? Этот человек, получивший в командование все русские морские и сухопутные силы Средиземноморья, сделался грозой турок и французов. Он не допустил захвата Ионических островов французами, разгромив турецкий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях 1807-го года, и тем самым обеспечил господство русского флота в Архипелаге.
Увы, по Тильзитскому миру Сенявин вынужден был передать Франции и Ионические острова, и бухту Каттаро на Адриатическом море, и отплыть на родину. До России, однако, его корабли добрались нескоро. В Лиссабоне их блокировал британский флот по случаю объявления Россией войны Англии. После долгих переговоров адмирал заключил с англичанами соглашение об интернировании эскадры в британских портах на время войны. Целый год он находился с кораблями на Портсмутском рейде. Так как содержание, выделяемое пленным было ничтожно, а Россия ничем не помогала попавшим в беду морякам, то Дмитрий Николаевич, дабы спасти подчиненных от голода, взял содержание их на себя. Он истратил все имевшееся у него состояние до гроша, занимал у собственных офицеров и в итоге возвратился на Родину совершенно нищим. Какова же была награда герою, спасшему эскадру от затопления и приведшего ее в целости к родным берегам, заплатив за это такую цену? Немилость Государя, посчитавшего лиссабонские договоры с англичанами самовольством. В 1812 году Сенявин, командовавший фактически бездействовавший Ревельской эскадрой, просил военного министра перевести его туда, где мог бы и он послужить Отечеству делом в суровую годину. Ему не отвечали, а в 1813-м вовсе уволили со службы, назначив лишь половинную пенсию, ввергнув тем самым адмирала и его семейство в совершенную нищету.
Подобные примеры переполняли душу Константина возмущением. Толчком к приведению в действие копившегося недовольства стала для него печальная и постыдная история восстания Семеновского полка.
Шефом Семеновцев был сам Государь, и полк считался образцовым. Командовал им генерал-адъютант Яков Алексеевич Потемкин, храбрый офицер в сражениях и франт в гостиных. Офицеры обожали своего командира, бывшего всегда вежливым и менее взыскательным перед фронтом, чем начальники в других полках. Дисциплина Семеновцев была образцовой. Офицерами в нем состояли молодые люди из лучших фамилий. Строго соблюдая законы чести, в товарище не терпели они и малейшего пятна на ней. Они не курили табаку, не выражались скверными словами, были воспитаны и обходительны со всеми. Нижние чины тянулись за офицерами, были всегда учтивы и исполнены сознания своего достоинства, как телохранителей государевых. Таким солдатам не требовалось телесных наказаний, и они ушли из жизни полка. Казалось бы, что могло быть лучше?
Увы, мнимое пренебрежение к фронту вызвало неудовольствие еще совсем молодого и горячего великого князя Михаила, командовавшего бригадой, в которую входил Семеновский полк. Он-то и предложил в целях исправления положения заменить Потемкина полковником Шварцем. Человек грубый и черствый, Шварц из всех воспитательных мер признавал одну – палку.
И, вот, палочные удары посыпались на спины забывших оные семеновских солдат, не исключая и тех заслуженных фронтовиков, которые самим уставом были избавлены от телесных наказаний. Оскорбления и унижения, коим подвергались они за мельчайшую провинность, вызывали чувство гнева во всяком честном человеке. Гвардия пришла в уныние – если так поступили с «телохранителями», то что ждать другим?..
Тогда-то и запели тишком по углам гостиных в офицерских группах переведенную отставным полковником Катениным песню французской революции:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода
Ты царствуй отныне над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас.
Семеновский бунт был подготовлен офицерами. В частности, братьями Муравьевыми-Апостолами, сыновьями русского посла в Мадриде. «Vivere in sperando, morire in cacando!» – жарко говорили они, считая, что не должно дожидаться приезда Императора с очередного всеевропейского конгресса в Троппау и его возможной милости.
На рассвете промозглого осеннего дня все нижние чины в одно мгновение высыпали из казарм и построились на площади, отвечая допрашивающим их батальонным и ротным командирам, что не хотят более находиться под начальством полковника Шварца и что, за исключением этого, готовы исполнять все, что им прикажут. Бунтарей увещевали корпусный начальник генерал Васильчиков и сам великий князь, но напрасно. На другой день все три тысячи человек признали себя арестантами и беспрекословно отправились в крепость.
Через несколько дней из Троппау пришел приказ Государя – полк было велено кассировать: нижние чины разослать по линейным полкам, офицеров, коих виновность осталась не доказана перевести также в армию, только с повышением двумя чинами. Таковых было большинство, так как солдаты не выдали никого из своих командиров. Лишь несколько из них все же попали под суд и были разжалованы в рядовые. Шварца судили за жестокое обращение с солдатами и отставили от службы. Полк же был набран сызнова.
Вскоре после этого Константин близко сошелся с вольномыслящими и решительно настроенными молодыми офицерами и, наконец, вошел в Северное общество. Брату он ни словом не обмолвился о том, зная, что тот, несмотря ни на что, никогда не поддержит какое-либо движение против существующего строя, против Государя. К тому же Юрию не могло понравиться, что одним из мест собраний «вольнодумцев» стал салон его собственной жены…
Нынешнее заседание общества имело особое значение – для координации совместных действий в Петербург прибыл глава общества Южного полковник Павел Пестель, «Русская правда» которого стала вторым проектом устройства России после муравьевской Конституции северян. Пестель прибыл в город на несколько дней в сопровождении майора Рунича. И, вот, наконец, предстояло первое общее совещание.
Константин никогда прежде не видел Пестеля и теперь с любопытством разглядывал его невысокую плотную фигуру, полное, надменное лицо. Герой Бородинского сражения, отличный офицер, жалованный самим Государем за образцовый порядок, наведенный им в Вятском пехотном полку, он отличался решительностью, амбициозностью и властностью и чем-то напоминал Наполеона. Как гостю, ему было предоставлено первое слово, и он сразу завладел вниманием аудитории. Павел Иванович говорил энергично и убежденно. Он не рассуждал, не убеждал, а утверждал и требовал, чтобы именно его «Русская Правда» была признана основой российского законодательства после революции.
– Революция, господа, не терпит мягкости и нерешительности! – говорил он. – Наш противник силен, а потому действовать надлежит твердо и жестко, иначе дело будет проиграно! Никаких компромиссов и полумер! Самодержавие должно быть уничтожено без возможности восстановления когда-либо. А на его месте да будет республика!
– Признаю, еще недавно я уверенно поддержал бы вас, – вымолвил Рылеев задумчиво. – Но по размышлении должен заметить, что весьма сомневаюсь в том, что народ русский готов к столь радикальной смене государственного строя. Мы можем оттолкнуть его от себя чрезмерной крутизной поворота, а потому, полагаю, что на первых порах наиболее разумный проект – областное правление Северо-Американской республики при Императоре, власть которого будет ограничена Конституцией и не превосходить власти президента Штатов.
– Народ, Кондратий Федорович, примет тот строй, который сможет устоять, – холодно ответил Пестель. – Тотчас по уничтожении Царствующего дома мы создадим правительство Провидения, которое направит всех по пути добродетели.
– И каким же образом? – подал голос поляк Кавалерович, странноватый господин с пышными усами и в синеватых очках.
– Вы не читали «Русской Правды»?
– Читать, Павел Иванович, совсем не то, что слышать. Впрочем, я припоминаю, что у вас там предусмотрены некие… приказы благочиния, которые будут следить за свободными гражданами.
Никто, казалось, не заметил иронии в словах остроносого поляка. И Пестель спокойно ответил:
– Вы правы. Над оным приказом будет существовать также Высшее благочиние, которое будет охранять правительство. Оно будет следить за разными течениями мысли в обществе, противодействовать враждебным учениям, бороться с заговорами и предотвращать бунты. Любые общества мы запретим: как открытые, так и тайные, потому что первые бесполезны, а вторые вредны.