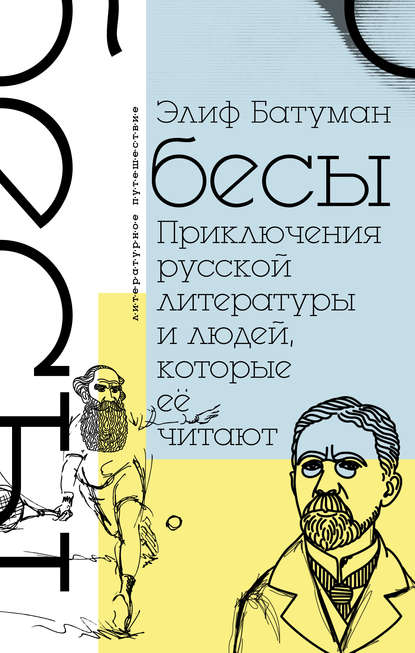По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Цех же литературного творчества, напротив, лишь кажется коллективным, в то время как в действительности там нет никаких коллективных процессов и любые намеки на подобные процессы систематически удаляются из конечного продукта. В современных рассказах практически нет отсылок к тем или иным интересным работам последних двадцати, пятидесяти, ста лет; вместо этого дамы из среднего класса по-прежнему ведут битву с клептоманией, девиантные подростки по-прежнему попадают в специальные учреждения, народ по-прежнему страдает от блэкаутов и стихийных бедствий, а унылые, похожие на писателей типы по-прежнему терзаются сомнениями.
Не знаю, попала ли я в лагерь ученых из-за аспирантуры, или же я оказалась в аспирантуре из-за того, что в душе уже тогда примкнула к ученым. Как бы то ни было, я перестала считать, будто «теория» способна погубить в человеке литературу или что любимый предмет можно скомпрометировать его исследованием. Разве любовь – настолько поверхностная вещь? Разве главное в любви не то, что она заставляет тебя узнать больше, полностью погрузиться, стать одержимым?
Не могу сказать, что аспирантура далась мне легко, особенно поначалу. Мне посчастливилось сразу подружиться с одногруппницей Любой, русской эмигранткой, выросшей в Ташкенте. Знакомство с таким прекрасным человеком в столь сложный момент моей карьеры было огромной удачей. Между семинарами об одной безвестной эксцентрической школе русского кино двадцатых годов, в чьих фильмах фигурировали цирковые атрибуты и резиновые манекены в человеческий рост, мы подолгу гуляли по жилому комплексу для аспирантов, неизменно теряя дорогу; однажды даже свалились в какую-то канаву. Подобно герою Манна в первые недели на Волшебной горе, я думала: «Это не может длиться долго».
По сути дела – между занятиями, конференциями, преподаванием и бесконечными ланчами – мне стало понятно, что кроме стэнфордских курсовых работ я ничего здесь не получу. В конце года я подала заявление на академический отпуск и уехала в Сан-Франциско, где в перерывах между случайными подработками много писала. Однако то, что получилось в результате, романом назвать было нельзя. Он не имел ни начала, ни конца. Да и особого сюжета там тоже не было. Я удивлялась и не могла понять. О писательском кризисе я уже побеспокоилась загодя, но создание огромного «неромана» не входило в число возможных решений.
13 сентября 2001 года, направляясь на пробежке к мосту Золотые ворота, я как раз обдумывала эту проблему, когда вдруг грохнулась, наткнувшись на какой-то пластиковый барьер, возведенный, как я позднее узнала, для защиты моста от террористов. Другие бегуны помогли мне подняться. Странные ощущения в руке заставили меня обратиться в ближайшую больницу. Несколько часов я провела в приемном покое, телевизор под потолком показывал бесконечные кадры с телами, их вытаскивали из-под Всемирного торгового центра. Наконец я прошла в кабинет, где врачи извлекли из коленей мелкий гравий, сделали рентген руки, сообщили о переломе локтя и экипировали меня гипсом с подвеской. В счете стояло 1700 долларов. Этот опыт заставил меня взглянуть на текущий жизненный путь пристальнее и трезвее. Чем я занимаюсь? Бесцельно суечусь в мире, о котором у меня нет ни малейшего внятного представления, пишу бесконечный роман бог знает о чем, без медстраховки, без настоящей работы? Через неделю позвонил завкафедрой и спросил, не хочу ли я вернуться в Стэнфорд. Я ответила «да».
Тогда-то меня и затянуло – глубже, чем я могла ожидать. Название этой книги позаимствовано у Достоевского: его самый таинственный роман «Бесы» раньше на английский переводился как «The Possessed», «Одержимые». Там повествуется о том, как кружок интеллектуалов в далекой русской провинции постепенно впадает в безумие: ситуация, в некотором смысле аналогичная моему собственному опыту в аспирантуре.
Я вернулась в реальный мир с новым взглядом на многие вещи. Мне больше не казалось, будто романы должны и могут вдохновляться исключительно жизнью, а не другими книгами. Я уже понимала, что сама эта идея порождена литературой, что именно традиция европейского романа после «Дон Кихота» произвела тезис о лживости и бесплодности литературы, ее оторванности от настоящей жизни и настоящего образования.
На самом деле нельзя сказать, чтобы эта идея в «Дон Кихоте» однозначно присутствовала. Вспомним знаменитый эпизод о «книжной инквизиции», где священник и цирюльник пытаются вылечить рыцаря от безумия, очистив его библиотеку. Общепринятая версия этого эпизода – в том, что друзья Дон Кихота сжигают большую часть его книг, и она зеркально отражает идею самого произведения: рыцарские романы глупы и опасны. Но если вы подсчитаете, то увидите, что лишь четырнадцать из тридцати упомянутых книг подверглись сожжению, тогда как другим шестнадцати было даровано официальное помилование. Это равенство показывает баланс между жизнью и литературой в сюжете книги, который – как отмечает Фуко – состоит в «дотошных поисках по всему лику земли тех фигур, которые доказали бы, что книги говорят правду». Приключения Дон Кихота, его дружба с Санчо Пансой, участие в воссоединении влюбленных, веселье, которое он доставляет бесконечным скучающим испанцам, – все это не в меньшей степени, чем причиняемый им ущерб, происходит от решимости испытать жизнь такой, какой она знакома ему из любимых книг, повести книги в бой. «Дон Кихота» мог написать только человек, который по-настоящему любит рыцарские романы, по-настоящему хочет, чтобы их сходство с его жизнью было сильнее, и понимает, в какую цену это может выйти.
Размышляя о «Дон Кихоте», я задумалась о других возможных способах приблизить жизнь к любимым книгам. После Сервантеса типичным романическим приемом стала имитация: персонажи стараются походить на героев книг, которые они считают важными. Но что, если попробовать другой путь, что, если заменить имитацию изучением, а метафору – метонимией? Что, если – вместо того чтобы разъезжать по округе, притворяясь Амадисом Галльским – посвятить свою жизнь тайне авторства этой книги, выучить испанский и португальский, разыскать всех ученых-специалистов, разгадать, что имеется в виду под «Галлией» (большинство исследователей полагают, что это Уэльс или Бретань), что, если проделать все это самому вместо создания вымышленных персонажей? Что, если написать книгу и в ней все будет правдой?
Что, если после чтения «Утраченных иллюзий» – вместо того чтобы уехать в Нью-Йорк, поселиться в мансарде, издавать собственные стихи, писать книжные обозрения и предаваться любовным связям, вместо того чтобы прожить собственную версию «Утраченных иллюзий» ради написания такого же романа, только про Америку XXI века – что, если вместо всего этого вы отправитесь в дом Бальзака и в имение госпожи Ганской, прочтете каждое написанное им слово, раскопаете о нем все что можно, до последней мелочи, и лишь после этого сядете за литературную работу?
Вот в чем идея этой книги.
Бабель в Калифорнии
Когда Российская академия наук издает собрание сочинений того или иного автора, это будет отнюдь не книжка, которую на ходу бросаешь в чемодан. Приуроченное к новому тысячелетию издание Толстого состоит из сотни томов, и весом оно с новорожденного кита. (Я принесла в библиотеку свои напольные весы и взвешивала по десять томов за раз.) Достоевский вышел в тридцати томах, Тургенев – в двадцати восьми, Пушкин – в семнадцати. Даже у Лермонтова, поэта-лирика, убитого на дуэли на двадцать восьмом году жизни, – четыре тома. Во Франции по-другому, там академические издания печатают на тонкой «библейской» бумаге. «Библиотека Плеяды» умудрилась запихнуть всю «Человеческую комедию» в двенадцать томов плюс еще два тома – на остальные работы Бальзака, и весит это всё восемь килограммов.
Собрание сочинений Исаака Бабеля занимает всего два небольших тома. Рядом с Толстым – это как длинная дорога и карманные часы. Самые популярные работы Бабеля напечатаны в первом томе: рассказы об Одессе, детстве и Петербурге, «Конармия» и конармейский дневник 1920 года. Эта компактность ощущается особенно остро, если знать, что до нас дошли далеко не все его работы. Когда в 1939 году к Бабелю на дачу приехали из НКВД, первое, что он сказал: «Не дали закончить». Девять папок изъяли и конфисковали на даче и еще пятнадцать – в его московской квартире. Самого Бабеля тоже изъяли и конфисковали по обвинению в шпионаже в пользу Франции и даже Австрии. Ни его, ни рукописей больше никто не видел.
В последующие годы опубликованные работы Бабеля были изъяты из библиотек, а его имя вычеркнуто из энциклопедий и кинотитров. Ходили слухи, будто его содержат в специальном лагере для литераторов, где он пишет в лагерную газету, но никто не знал наверняка, жив ли он. В 1954 году после смерти Сталина его официально реабилитировали и рассекретили уголовное дело. Внутри был всего один листок – свидетельство о том, что 17 марта 1941 года он умер при неизвестных обстоятельствах. Подобно Шерлоку Холмсу в «Последнем деле», Бабель исчез, оставив после себя лишь листок бумаги.
Никто не знает, за что Бабеля арестовали на самом деле. Опубликовав в начале своего писательского пути «Конармию», которая увековечила бездарную русско-польскую военную кампанию 1920 года, он нажил могущественных врагов. В 1924 году командующий Первой Конной армией Семен Буденный публично обвинил Бабеля в «контрреволюционной лжи» и очернительстве. Позднее, когда Буденный поднялся по партийной лестнице от маршала до замкомиссара обороны и стал Героем Советского Союза, Бабель оказался на тонком льду, особенно после того, как в 1936 году скончался его покровитель Максим Горький. Тем не менее он пережил пик чисток 1937–1938 годов; арестовали его лишь в 1939-м, когда на горизонте уже замаячила Вторая мировая и у Сталина, казалось бы, появились дела поважнее. Что же склонило чашу весов?
Возможно, свою роль сыграл советско-германский пакт: до этого, благодаря тесным связям Бабеля с французскими левыми, его фигура была важна для поддержки советско-французских дипломатических отношений, что потеряло смысл после того, как Сталин встал на сторону Гитлера. По другим сведениям, арест Бабеля был частью подготовки к завершающему показательному суду над всей интеллектуальной элитой – от легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна до ученого-полярника Отто Шмидта, – который передумали устраивать, когда Гитлер в сентябре вошел в Польшу.
Некоторые исследователи связывают арест Бабеля со странными отношениями между ним и бывшим наркомом Николаем Ежовым: у Бабеля в двадцатые годы был роман с будущей женой Ежова Евгенией Гладун-Хаютиной. Говорили, что уже в тридцатые Бабель навещал супругов у них дома, они играли в кегли и слушали жуткие истории Ежова о ГУЛАГе. Когда Лаврентий Берия («мясник Сталина», как его называли) получил в 1938 году власть, он поставил своей целью уничтожить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к Ежову.
Другие считают, что Бабеля арестовали «вообще без всяких причин» и что полагать обратное – впадать в грех приписывания логики тоталитарной машине.
Когда в девяностые годы КГБ рассекретил дело Бабеля, стало известно, что ордер на его арест выписали постфактум через тридцать пять дней. После семидесяти двух часов допросов и, скорее всего, пыток Бабель подписал признание, что в шпионскую сеть его завербовал в 1927 году Илья Эренбург и что он годами снабжал Андре Мальро секретами советской авиации – эта деталь была, наверное, позаимствована из его киносценария «Старая площадь, 4» (1939), где описываются византийские интриги среди ученых на производстве советских дирижаблей.
«Я невиновен. И никогда не был шпионом, – говорит Бабель в стенограмме двадцатиминутного „суда“ в застенках Берии. – Я оговорил себя. Меня заставили дать ложные показания против себя и других… Прошу об одном: позвольте мне завершить работу». Бабеля расстреляли в подвале Лубянки 26 января 1940 года, а его тело бросили в общую могилу. 1940-й, а не 1941-й. Даже свидетельство о смерти оказалось ложью.
Впервые я прочла Бабеля в колледже на занятиях по литературному творчеству. Преподавателем был благожелательный еврей-романист с бородкой как у Иисуса, с тягой к русской литературе и с меланхоличным чувством юмора; однажды прямо на уроке он вдруг «осознал» истину о человеческой смертности. Он показывал на каждого из нас, сидящих за круглым столом, и говорил: «Вы умрете. И вы умрете. И вы». До сих пор помню выражение лица одного из моих однокашников, добродушного отпрыска семейства Кеннеди, который все время писал одну и ту же историю – о вечно занятом корпоративном юристе, забросившем свою жену. Лицо было обалделым.
На том занятии нам задали прочесть «Моего первого гуся», рассказ о первой ночи еврейского интеллигента в расположении Красной армии во время кампании 1920 года. Он приходит на постой, и новые товарищи, безграмотные казаки, первым делом вместо приветствия выбрасывают за ворота его сундучок. Заметив шатающегося по двору гуся, интеллигент наступает ногой ему на шею, пронзает саблей и приказывает хозяйке приготовить на ужин. Тогда казаки признают в нем своего и дают ему место у костра, где он им вслух читает ленинскую речь из «Правды».
Прочтя этот рассказ впервые, я абсолютно ничего не поняла. Зачем надо было убивать гуся? Что такого замечательного в чтении Ленина у костра? Из рассказов, которые мы проходили на тех занятиях, меня куда глубже взволновала чеховская «Дама с собачкой». Особенно запомнился пассаж, что человек ведет две жизни: одну – открытую и видимую, заполненную работой, условностями, обязанностями, шутками, и другую – «протекающую тайно», и насколько легко могут обстоятельства сделать все существенное, интересное, необходимое частью именно второй, тайной жизни. На самом деле тема тайной жизни для Бабеля тоже чрезвычайно важна, но я поняла это лишь позднее.
Второй раз я читала Бабеля в аспирантуре перед семинаром по литературным биографиям. Это были дневники 1920 года и «Конармия»; я прочла их в один присест, пока в февральскую дождливую субботу пекла торт «Черный лес». Для потомков Бабель увековечил военный позор бездарной русско-польской кампании, а для меня – кулинарный позор этого торта, который на выходе из печки напоминал старую шляпу: после того как я оптимистично вылила на торт половину двухдолларовой бутылки киршвассера, органы чувств опознали в нем старую шляпу, замоченную в сиропе от кашля.
Есть книги, которые запоминаются вместе с материальными условиями чтения: сколько чтение заняло, время года, цвет обложки. Зачастую книга запоминается именно благодаря этим материальным условиям, но иногда – наоборот. Я уверена, что мои воспоминания о том дне – запах дождя и печеного шоколада, унылая квартира с ее надувной кроватью, раздвижная стеклянная дверь, через которую видны мокрые пальмы и парковка у супермаркета «Сэйфвэй», – обусловлены дневником Бабеля, драгоценным и полуутраченным.
Дневник начинается с пятьдесят пятой страницы – предыдущие пятьдесят четыре Бабель потерял. Через три дня отсутствует еще двадцать одна страница, а это целый месяц. «Спал плохо, думаю о рукописях, – пишет Бабель. – Тоска, упадок энергии; знаю, что превозмогу, когда это будет?» В следующие несколько дней, несмотря на усилия, все вокруг напоминает ему об утерянных страницах: «Крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи…»
Этот дневник – не о войне, а о писателе на войне, о писателе, взахлеб вкушающем войну как источник материала. Виктор Шкловский, который изобрел теорию о том, что литературный материал всегда вторичен по отношению к литературной форме, был большим поклонником Бабеля. «У него не было отчуждения от жизни. Но мне казалось, что Бабель, ложась спать, подписывает прожитый им день, как рассказ». У Бабеля не было отчуждения от жизни – напротив, он к ней стремился, – но он был неспособен воспринимать ее иначе как материал для литературы.
Эпиграфом к дневнику могла бы послужить знаменитая фраза из «Дон Кихота»: «…читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице»[7 - М. де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Пер. Н. Любимова (примеч. пер.).]. В Бродах, после погрома, в поисках овса для лошади, Бабель набредает на немецкую книжную лавку: «Великолепные неразрезанные книги, альбомы… хрестоматия, история всех Болеславов… Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники. Я роюсь как сумасшедший…» В разграбленном польском поместье, в гостиной, где лошади стоят прямо на коврах, он находит сундук с «драгоценнейшими книгами»: «Конституция, утвержденная сеймом в начале XVIII века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты XVI века, записки монахов, старинные французские романы… Французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молодожены?» В покинутом польском замке он обнаруживает «французские письма 1820 года, notre petit hеros ach?ve 7 semaines [нашему маленькому герою исполняется семь недель]. Боже мой, кто писал, когда писали…»
Эти материалы дополнены подробностями и влиты в «Конармию» – например, в новелле «Берестечко» рассказчик тоже находит в польском замке французское письмо: «Paul, mon bien aime, on dit que l'empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont еtе faciles, notre petit hеros ach?ve sept semaines…» [Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель]. Из фразы «notre petit hеros ach?ve 7 semaines» Бабель магически воссоздает время с его всеобъемлющей ненадежностью, с аккуратно вписанными в человеческую историю фрагментами – как семинедельный младенец или ложные слухи о смерти Наполеона.
Прочитав после дневника всю «Конармию», я поняла «Моего первого гуся». Поняла важность той детали, что в сундучке, выброшенном казаками за ворота, лежали рукописи и газеты. Поняла, что это значило для Бабеля – читать Ленина казакам вслух. Это было первое агрессивное столкновение писательства с самой жизнью. Как и большая часть «Конармии», «Мой первый гусь» рассказывает о цене, которую заплатил Бабель за свой литературный материал. Осип Мандельштам однажды спросил у Бабеля, почему того тянет к чекистам, к людям вроде Ежова: «„Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты?“ – „Нет, – ответил Бабель, – пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?“» Но, разумеется, потрогать ему пришлось. Пришлось своими руками проливать кровь – пусть даже и просто гуся. Без этой крови он никогда бы не написал «Конармию». «Бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, – говорит один из рассказчиков у Бабеля, – мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть».
Императив понять жизнь и описать ее становится в дневнике 1920 года настоятельным, эмоциональным рефреном.
«Описать ординарцев – наштадива и прочих – Черкашин, Тарасов».
«Описать Матяжа, Мишу. Мужики, в них хочется вникать».
Когда бы и с кем бы Бабель ни познакомился, ему нужно было выяснить, что это за человек. Всегда «что», а не «кто».
«Что такое Михаил Карлович?» «Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства?»
«Что такое бойцы?» «Что такое наш казак?» «Что такое большевизм?»
«Что такое Киперман?.. Описать его штаны».
«Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?» (Когда Бабель писал это предложение, он, строго говоря, уже сам был военным корреспондентом.)
Порой в вопросе уже содержится ответ – когда, например, он спрашивает у Винокурова: «Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом?»
«Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает».
«Иду на мельницу. Что такое водяная мельница? Описать».
«Описать леса».
«Пара тощих лошадей, о лошадях».
«Описать людей, воздух».
«Описать базар, корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни».
«Описать этот непереносимый дождь».
«Описать „частую перестрелку“».
«Описать раненого».
«Описать невыразимое желание спать».
Не знаю, попала ли я в лагерь ученых из-за аспирантуры, или же я оказалась в аспирантуре из-за того, что в душе уже тогда примкнула к ученым. Как бы то ни было, я перестала считать, будто «теория» способна погубить в человеке литературу или что любимый предмет можно скомпрометировать его исследованием. Разве любовь – настолько поверхностная вещь? Разве главное в любви не то, что она заставляет тебя узнать больше, полностью погрузиться, стать одержимым?
Не могу сказать, что аспирантура далась мне легко, особенно поначалу. Мне посчастливилось сразу подружиться с одногруппницей Любой, русской эмигранткой, выросшей в Ташкенте. Знакомство с таким прекрасным человеком в столь сложный момент моей карьеры было огромной удачей. Между семинарами об одной безвестной эксцентрической школе русского кино двадцатых годов, в чьих фильмах фигурировали цирковые атрибуты и резиновые манекены в человеческий рост, мы подолгу гуляли по жилому комплексу для аспирантов, неизменно теряя дорогу; однажды даже свалились в какую-то канаву. Подобно герою Манна в первые недели на Волшебной горе, я думала: «Это не может длиться долго».
По сути дела – между занятиями, конференциями, преподаванием и бесконечными ланчами – мне стало понятно, что кроме стэнфордских курсовых работ я ничего здесь не получу. В конце года я подала заявление на академический отпуск и уехала в Сан-Франциско, где в перерывах между случайными подработками много писала. Однако то, что получилось в результате, романом назвать было нельзя. Он не имел ни начала, ни конца. Да и особого сюжета там тоже не было. Я удивлялась и не могла понять. О писательском кризисе я уже побеспокоилась загодя, но создание огромного «неромана» не входило в число возможных решений.
13 сентября 2001 года, направляясь на пробежке к мосту Золотые ворота, я как раз обдумывала эту проблему, когда вдруг грохнулась, наткнувшись на какой-то пластиковый барьер, возведенный, как я позднее узнала, для защиты моста от террористов. Другие бегуны помогли мне подняться. Странные ощущения в руке заставили меня обратиться в ближайшую больницу. Несколько часов я провела в приемном покое, телевизор под потолком показывал бесконечные кадры с телами, их вытаскивали из-под Всемирного торгового центра. Наконец я прошла в кабинет, где врачи извлекли из коленей мелкий гравий, сделали рентген руки, сообщили о переломе локтя и экипировали меня гипсом с подвеской. В счете стояло 1700 долларов. Этот опыт заставил меня взглянуть на текущий жизненный путь пристальнее и трезвее. Чем я занимаюсь? Бесцельно суечусь в мире, о котором у меня нет ни малейшего внятного представления, пишу бесконечный роман бог знает о чем, без медстраховки, без настоящей работы? Через неделю позвонил завкафедрой и спросил, не хочу ли я вернуться в Стэнфорд. Я ответила «да».
Тогда-то меня и затянуло – глубже, чем я могла ожидать. Название этой книги позаимствовано у Достоевского: его самый таинственный роман «Бесы» раньше на английский переводился как «The Possessed», «Одержимые». Там повествуется о том, как кружок интеллектуалов в далекой русской провинции постепенно впадает в безумие: ситуация, в некотором смысле аналогичная моему собственному опыту в аспирантуре.
Я вернулась в реальный мир с новым взглядом на многие вещи. Мне больше не казалось, будто романы должны и могут вдохновляться исключительно жизнью, а не другими книгами. Я уже понимала, что сама эта идея порождена литературой, что именно традиция европейского романа после «Дон Кихота» произвела тезис о лживости и бесплодности литературы, ее оторванности от настоящей жизни и настоящего образования.
На самом деле нельзя сказать, чтобы эта идея в «Дон Кихоте» однозначно присутствовала. Вспомним знаменитый эпизод о «книжной инквизиции», где священник и цирюльник пытаются вылечить рыцаря от безумия, очистив его библиотеку. Общепринятая версия этого эпизода – в том, что друзья Дон Кихота сжигают большую часть его книг, и она зеркально отражает идею самого произведения: рыцарские романы глупы и опасны. Но если вы подсчитаете, то увидите, что лишь четырнадцать из тридцати упомянутых книг подверглись сожжению, тогда как другим шестнадцати было даровано официальное помилование. Это равенство показывает баланс между жизнью и литературой в сюжете книги, который – как отмечает Фуко – состоит в «дотошных поисках по всему лику земли тех фигур, которые доказали бы, что книги говорят правду». Приключения Дон Кихота, его дружба с Санчо Пансой, участие в воссоединении влюбленных, веселье, которое он доставляет бесконечным скучающим испанцам, – все это не в меньшей степени, чем причиняемый им ущерб, происходит от решимости испытать жизнь такой, какой она знакома ему из любимых книг, повести книги в бой. «Дон Кихота» мог написать только человек, который по-настоящему любит рыцарские романы, по-настоящему хочет, чтобы их сходство с его жизнью было сильнее, и понимает, в какую цену это может выйти.
Размышляя о «Дон Кихоте», я задумалась о других возможных способах приблизить жизнь к любимым книгам. После Сервантеса типичным романическим приемом стала имитация: персонажи стараются походить на героев книг, которые они считают важными. Но что, если попробовать другой путь, что, если заменить имитацию изучением, а метафору – метонимией? Что, если – вместо того чтобы разъезжать по округе, притворяясь Амадисом Галльским – посвятить свою жизнь тайне авторства этой книги, выучить испанский и португальский, разыскать всех ученых-специалистов, разгадать, что имеется в виду под «Галлией» (большинство исследователей полагают, что это Уэльс или Бретань), что, если проделать все это самому вместо создания вымышленных персонажей? Что, если написать книгу и в ней все будет правдой?
Что, если после чтения «Утраченных иллюзий» – вместо того чтобы уехать в Нью-Йорк, поселиться в мансарде, издавать собственные стихи, писать книжные обозрения и предаваться любовным связям, вместо того чтобы прожить собственную версию «Утраченных иллюзий» ради написания такого же романа, только про Америку XXI века – что, если вместо всего этого вы отправитесь в дом Бальзака и в имение госпожи Ганской, прочтете каждое написанное им слово, раскопаете о нем все что можно, до последней мелочи, и лишь после этого сядете за литературную работу?
Вот в чем идея этой книги.
Бабель в Калифорнии
Когда Российская академия наук издает собрание сочинений того или иного автора, это будет отнюдь не книжка, которую на ходу бросаешь в чемодан. Приуроченное к новому тысячелетию издание Толстого состоит из сотни томов, и весом оно с новорожденного кита. (Я принесла в библиотеку свои напольные весы и взвешивала по десять томов за раз.) Достоевский вышел в тридцати томах, Тургенев – в двадцати восьми, Пушкин – в семнадцати. Даже у Лермонтова, поэта-лирика, убитого на дуэли на двадцать восьмом году жизни, – четыре тома. Во Франции по-другому, там академические издания печатают на тонкой «библейской» бумаге. «Библиотека Плеяды» умудрилась запихнуть всю «Человеческую комедию» в двенадцать томов плюс еще два тома – на остальные работы Бальзака, и весит это всё восемь килограммов.
Собрание сочинений Исаака Бабеля занимает всего два небольших тома. Рядом с Толстым – это как длинная дорога и карманные часы. Самые популярные работы Бабеля напечатаны в первом томе: рассказы об Одессе, детстве и Петербурге, «Конармия» и конармейский дневник 1920 года. Эта компактность ощущается особенно остро, если знать, что до нас дошли далеко не все его работы. Когда в 1939 году к Бабелю на дачу приехали из НКВД, первое, что он сказал: «Не дали закончить». Девять папок изъяли и конфисковали на даче и еще пятнадцать – в его московской квартире. Самого Бабеля тоже изъяли и конфисковали по обвинению в шпионаже в пользу Франции и даже Австрии. Ни его, ни рукописей больше никто не видел.
В последующие годы опубликованные работы Бабеля были изъяты из библиотек, а его имя вычеркнуто из энциклопедий и кинотитров. Ходили слухи, будто его содержат в специальном лагере для литераторов, где он пишет в лагерную газету, но никто не знал наверняка, жив ли он. В 1954 году после смерти Сталина его официально реабилитировали и рассекретили уголовное дело. Внутри был всего один листок – свидетельство о том, что 17 марта 1941 года он умер при неизвестных обстоятельствах. Подобно Шерлоку Холмсу в «Последнем деле», Бабель исчез, оставив после себя лишь листок бумаги.
Никто не знает, за что Бабеля арестовали на самом деле. Опубликовав в начале своего писательского пути «Конармию», которая увековечила бездарную русско-польскую военную кампанию 1920 года, он нажил могущественных врагов. В 1924 году командующий Первой Конной армией Семен Буденный публично обвинил Бабеля в «контрреволюционной лжи» и очернительстве. Позднее, когда Буденный поднялся по партийной лестнице от маршала до замкомиссара обороны и стал Героем Советского Союза, Бабель оказался на тонком льду, особенно после того, как в 1936 году скончался его покровитель Максим Горький. Тем не менее он пережил пик чисток 1937–1938 годов; арестовали его лишь в 1939-м, когда на горизонте уже замаячила Вторая мировая и у Сталина, казалось бы, появились дела поважнее. Что же склонило чашу весов?
Возможно, свою роль сыграл советско-германский пакт: до этого, благодаря тесным связям Бабеля с французскими левыми, его фигура была важна для поддержки советско-французских дипломатических отношений, что потеряло смысл после того, как Сталин встал на сторону Гитлера. По другим сведениям, арест Бабеля был частью подготовки к завершающему показательному суду над всей интеллектуальной элитой – от легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна до ученого-полярника Отто Шмидта, – который передумали устраивать, когда Гитлер в сентябре вошел в Польшу.
Некоторые исследователи связывают арест Бабеля со странными отношениями между ним и бывшим наркомом Николаем Ежовым: у Бабеля в двадцатые годы был роман с будущей женой Ежова Евгенией Гладун-Хаютиной. Говорили, что уже в тридцатые Бабель навещал супругов у них дома, они играли в кегли и слушали жуткие истории Ежова о ГУЛАГе. Когда Лаврентий Берия («мясник Сталина», как его называли) получил в 1938 году власть, он поставил своей целью уничтожить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к Ежову.
Другие считают, что Бабеля арестовали «вообще без всяких причин» и что полагать обратное – впадать в грех приписывания логики тоталитарной машине.
Когда в девяностые годы КГБ рассекретил дело Бабеля, стало известно, что ордер на его арест выписали постфактум через тридцать пять дней. После семидесяти двух часов допросов и, скорее всего, пыток Бабель подписал признание, что в шпионскую сеть его завербовал в 1927 году Илья Эренбург и что он годами снабжал Андре Мальро секретами советской авиации – эта деталь была, наверное, позаимствована из его киносценария «Старая площадь, 4» (1939), где описываются византийские интриги среди ученых на производстве советских дирижаблей.
«Я невиновен. И никогда не был шпионом, – говорит Бабель в стенограмме двадцатиминутного „суда“ в застенках Берии. – Я оговорил себя. Меня заставили дать ложные показания против себя и других… Прошу об одном: позвольте мне завершить работу». Бабеля расстреляли в подвале Лубянки 26 января 1940 года, а его тело бросили в общую могилу. 1940-й, а не 1941-й. Даже свидетельство о смерти оказалось ложью.
Впервые я прочла Бабеля в колледже на занятиях по литературному творчеству. Преподавателем был благожелательный еврей-романист с бородкой как у Иисуса, с тягой к русской литературе и с меланхоличным чувством юмора; однажды прямо на уроке он вдруг «осознал» истину о человеческой смертности. Он показывал на каждого из нас, сидящих за круглым столом, и говорил: «Вы умрете. И вы умрете. И вы». До сих пор помню выражение лица одного из моих однокашников, добродушного отпрыска семейства Кеннеди, который все время писал одну и ту же историю – о вечно занятом корпоративном юристе, забросившем свою жену. Лицо было обалделым.
На том занятии нам задали прочесть «Моего первого гуся», рассказ о первой ночи еврейского интеллигента в расположении Красной армии во время кампании 1920 года. Он приходит на постой, и новые товарищи, безграмотные казаки, первым делом вместо приветствия выбрасывают за ворота его сундучок. Заметив шатающегося по двору гуся, интеллигент наступает ногой ему на шею, пронзает саблей и приказывает хозяйке приготовить на ужин. Тогда казаки признают в нем своего и дают ему место у костра, где он им вслух читает ленинскую речь из «Правды».
Прочтя этот рассказ впервые, я абсолютно ничего не поняла. Зачем надо было убивать гуся? Что такого замечательного в чтении Ленина у костра? Из рассказов, которые мы проходили на тех занятиях, меня куда глубже взволновала чеховская «Дама с собачкой». Особенно запомнился пассаж, что человек ведет две жизни: одну – открытую и видимую, заполненную работой, условностями, обязанностями, шутками, и другую – «протекающую тайно», и насколько легко могут обстоятельства сделать все существенное, интересное, необходимое частью именно второй, тайной жизни. На самом деле тема тайной жизни для Бабеля тоже чрезвычайно важна, но я поняла это лишь позднее.
Второй раз я читала Бабеля в аспирантуре перед семинаром по литературным биографиям. Это были дневники 1920 года и «Конармия»; я прочла их в один присест, пока в февральскую дождливую субботу пекла торт «Черный лес». Для потомков Бабель увековечил военный позор бездарной русско-польской кампании, а для меня – кулинарный позор этого торта, который на выходе из печки напоминал старую шляпу: после того как я оптимистично вылила на торт половину двухдолларовой бутылки киршвассера, органы чувств опознали в нем старую шляпу, замоченную в сиропе от кашля.
Есть книги, которые запоминаются вместе с материальными условиями чтения: сколько чтение заняло, время года, цвет обложки. Зачастую книга запоминается именно благодаря этим материальным условиям, но иногда – наоборот. Я уверена, что мои воспоминания о том дне – запах дождя и печеного шоколада, унылая квартира с ее надувной кроватью, раздвижная стеклянная дверь, через которую видны мокрые пальмы и парковка у супермаркета «Сэйфвэй», – обусловлены дневником Бабеля, драгоценным и полуутраченным.
Дневник начинается с пятьдесят пятой страницы – предыдущие пятьдесят четыре Бабель потерял. Через три дня отсутствует еще двадцать одна страница, а это целый месяц. «Спал плохо, думаю о рукописях, – пишет Бабель. – Тоска, упадок энергии; знаю, что превозмогу, когда это будет?» В следующие несколько дней, несмотря на усилия, все вокруг напоминает ему об утерянных страницах: «Крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи…»
Этот дневник – не о войне, а о писателе на войне, о писателе, взахлеб вкушающем войну как источник материала. Виктор Шкловский, который изобрел теорию о том, что литературный материал всегда вторичен по отношению к литературной форме, был большим поклонником Бабеля. «У него не было отчуждения от жизни. Но мне казалось, что Бабель, ложась спать, подписывает прожитый им день, как рассказ». У Бабеля не было отчуждения от жизни – напротив, он к ней стремился, – но он был неспособен воспринимать ее иначе как материал для литературы.
Эпиграфом к дневнику могла бы послужить знаменитая фраза из «Дон Кихота»: «…читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице»[7 - М. де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Пер. Н. Любимова (примеч. пер.).]. В Бродах, после погрома, в поисках овса для лошади, Бабель набредает на немецкую книжную лавку: «Великолепные неразрезанные книги, альбомы… хрестоматия, история всех Болеславов… Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники. Я роюсь как сумасшедший…» В разграбленном польском поместье, в гостиной, где лошади стоят прямо на коврах, он находит сундук с «драгоценнейшими книгами»: «Конституция, утвержденная сеймом в начале XVIII века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты XVI века, записки монахов, старинные французские романы… Французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молодожены?» В покинутом польском замке он обнаруживает «французские письма 1820 года, notre petit hеros ach?ve 7 semaines [нашему маленькому герою исполняется семь недель]. Боже мой, кто писал, когда писали…»
Эти материалы дополнены подробностями и влиты в «Конармию» – например, в новелле «Берестечко» рассказчик тоже находит в польском замке французское письмо: «Paul, mon bien aime, on dit que l'empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont еtе faciles, notre petit hеros ach?ve sept semaines…» [Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель]. Из фразы «notre petit hеros ach?ve 7 semaines» Бабель магически воссоздает время с его всеобъемлющей ненадежностью, с аккуратно вписанными в человеческую историю фрагментами – как семинедельный младенец или ложные слухи о смерти Наполеона.
Прочитав после дневника всю «Конармию», я поняла «Моего первого гуся». Поняла важность той детали, что в сундучке, выброшенном казаками за ворота, лежали рукописи и газеты. Поняла, что это значило для Бабеля – читать Ленина казакам вслух. Это было первое агрессивное столкновение писательства с самой жизнью. Как и большая часть «Конармии», «Мой первый гусь» рассказывает о цене, которую заплатил Бабель за свой литературный материал. Осип Мандельштам однажды спросил у Бабеля, почему того тянет к чекистам, к людям вроде Ежова: «„Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты?“ – „Нет, – ответил Бабель, – пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?“» Но, разумеется, потрогать ему пришлось. Пришлось своими руками проливать кровь – пусть даже и просто гуся. Без этой крови он никогда бы не написал «Конармию». «Бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, – говорит один из рассказчиков у Бабеля, – мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть».
Императив понять жизнь и описать ее становится в дневнике 1920 года настоятельным, эмоциональным рефреном.
«Описать ординарцев – наштадива и прочих – Черкашин, Тарасов».
«Описать Матяжа, Мишу. Мужики, в них хочется вникать».
Когда бы и с кем бы Бабель ни познакомился, ему нужно было выяснить, что это за человек. Всегда «что», а не «кто».
«Что такое Михаил Карлович?» «Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства?»
«Что такое бойцы?» «Что такое наш казак?» «Что такое большевизм?»
«Что такое Киперман?.. Описать его штаны».
«Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?» (Когда Бабель писал это предложение, он, строго говоря, уже сам был военным корреспондентом.)
Порой в вопросе уже содержится ответ – когда, например, он спрашивает у Винокурова: «Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом?»
«Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает».
«Иду на мельницу. Что такое водяная мельница? Описать».
«Описать леса».
«Пара тощих лошадей, о лошадях».
«Описать людей, воздух».
«Описать базар, корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни».
«Описать этот непереносимый дождь».
«Описать „частую перестрелку“».
«Описать раненого».
«Описать невыразимое желание спать».
Другие электронные книги автора Элиф Батуман
Идиот




 0
0