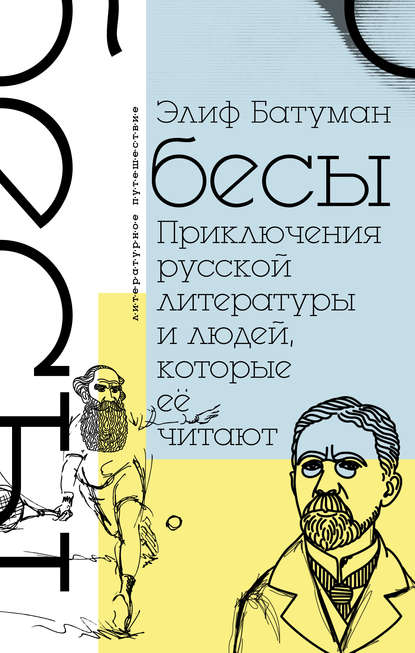По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка».
«Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро».
«Замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару».
Бабелевское «описать» напоминает меланхолию, с какой Ватсон говорит о делах Шерлока Холмса, не попавших в его анналы: «дарлингтоновский скандал с подменой», «необыкновенное дело об алюминиевом костыле», «тайна гигантской крысы с Суматры, к которой мир еще не готов». Все эти истории, которые останутся нерассказанными, все эти писатели, которым не дали закончить! Куда утешительнее думать, что обещания уже по-своему выполнены, что Бабель, наверное, уже и так достаточно описал прихрамывающего Губанова, грозу полка, и что тайна гигантской крысы с Суматры в конце концов сводится к тайне гигантской крысы с Суматры. Да, в «Конармии» Бабель возвращается к Рациборовским: «В замке жила девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и – мужики рассказывали мне – графиня била сына кучерским кнутом». Но, несмотря на упоминание, в духе Золя, о нарушении потомственности, или на извращенческий, в духе Тургенева, «кучерский кнут», или на проглядывающую советскую риторику о рыцарской Польше, которая теперь «обезумела» (как выразился сам Бабель в одной из пропагандистских работ), «описание» все равно состоит лишь из двух предложений.
* * *
Одна из самых леденящих душу реликвий в досье КГБ на Бабеля – двойное фото, сделанное в 1939 году после ареста.
На фото в профиль Бабель глядит вдаль, подбородок поднят, на лице – мученическая решимость. На фото же анфас видно, что он смотрит на нечто, расположенное рядом. Кажется, что взгляд устремлен на человека, который вот-вот должен совершить чудовищный поступок. Один немецкий историк однажды написал об этих снимках: «На обоих писатель снят без очков и с синяком – monocle haematoma, выражаясь по-медицински, – доказательством примененного насилия».
Мне было жаль этого историка. Я поняла, что неадекватность слов «без очков и с синяком» позволила ему написать и такую абсурдную фразу, как «monocle haematoma, выражаясь по-медицински». Само отсутствие очков – уже признак неописуемого насилия. Тут для описания потребовались бы длинные латинские слова. Бабель никогда не фотографировался без очков. И никогда без них не писал. У его рассказчика – как гласит популярная строчка из одесского цикла – всегда «на носу очки, а в душе осень». Другая известная строчка – часть реплики, которую бабелевский рассказчик адресует близорукому товарищу на финском зимнем курорте: «Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас!»
В «Моем первом гусе» казачий комдив кричит на еврея-интеллигента: «Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживёшь с нами, што ль?» Очки как раз и олицетворяют намерение Бабеля «пожить» с ними, наблюдая за каждым их движением – внимательно, почти с любовью, – смотреть и записывать. Надежда Мандельштам писала, что в Бабеле все создавало впечатление «необычайного любопытства». «Весь поворот головы, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и людей». Вот что у него отняли, оставив вместо очков monocle haematoma.
На семинары по литбиографиям меня уговорил записаться мой однокашник Матей, который знал профессора.
– Это классический еврей-интеллектуал из Нью-Йорка, – взахлеб говорил Матей, словно описывая диковинную лесную зверушку. (Матей был классический католик-интеллектуал из Загреба.) – Когда он рассказывает о Бабеле, то от возбуждения заикается. Но это не раздражает, не мешает. Его заикание обаятельно, оно вызывает расположение и симпатию.
В конце семестра мы с Матеем договорились сделать совместную презентацию о Бабеле. В один из холодных пасмурных дней мы встретились за грязным металлическим столом у библиотеки и, попивая кофе, стали сравнивать свои записи, прикончив почти целую Матееву пачку «Уинстон Лайт»: как выяснилось, Матей заказывал их оптом в индейской резервации. Общий угол зрения мы выработали сразу, но, когда дело дошло до деталей, наши мнения разделились по всем вопросам. Битый час мы проспорили об одном-единственном предложении из «Учения о тачанке», рассказа о том, как тачанка – бричка с пулеметом сзади – изменила войну. Если у украинского села есть тачанки, пишет Бабель, оно все равно не воспринимается как военный объект, поскольку пулеметы можно спрятать под сеном брички.
Когда пошел дождь, мы с Матеем решили зайти внутрь и посмотреть в библиотеке, как в оригинале выглядит предложение, ставшее предметом нашего спора: «Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но неощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села – свирепого, мятежного, корыстолюбивого». Даже с русским текстом перед глазами мы все равно не смогли сойтись по поводу того, что такое «схоронившиеся точки». Перечитывая этот рассказ сегодня, я не могу понять, о чем мы так долго спорили, но помню, как Матей раздраженно сказал:
– В твоей версии все выглядит, будто он занимается подгонкой, как в двойной бухгалтерии.
– Именно! – отрезала я. – Именно двойной бухгалтерией он и занимался.
Мы пришли к выводу, что никогда не достигнем взаимопонимания, поскольку я материалист, а Матей придерживается фундаментально религиозных взглядов на историю. В итоге мы решили разделить задачи: Матей будет писать о том, как Бабель заменил старых богов новой мифологией, а я – о Бабеле как бухгалтере.
«Как хорошо, – писал Мандельштам, – что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной злости!» Не знаю, работал ли Матей над своей презентацией при свете жреческой лампады, но лично меня именно литературная злость подвигла к желанию доказать, что Бабель на самом деле был бухгалтером. К моему изумлению, это оказалось правдой: мало того что в его рассказах непрерывно появляются бухгалтеры и клерки, но и сам Бабель тоже окончил Киевский коммерческий институт, где получал высшие оценки по общему бухучету. Особенно мне запомнился рассказ «Пан Аполек», где поляк Аполек обращается к рассказчику «пан писарь». «Пан» – по-польски значит «мистер», «господин», а одно из значений слова «писарь» – «клерк». Однако в польском «pisarz» – это не «клерк», а «писатель». Пан Аполек хотел назвать рассказчика «господин писатель», но писатель в Красной конной армии превратился в клерка.
В итоге я написала о «двойных» отношениях в текстах Бабеля между литературой и прожитым опытом, строя свою работу вокруг рассказа «Пан Аполек» (истории деревенского иконописца, наделявшего библейские фигуры лицами односельчан: «двойная бухгалтерия» между предсуществующей художественной формой и наблюдениями из жизни). Презентация на семинаре прошла хорошо, и через несколько месяцев я представила ее в расширенном виде на коллоквиуме по славянским языкам, где она привлекла внимание университетского специалиста по Бабелю Гриши Фрейдина. Фрейдин сказал, что поможет мне доработать ее для публикации.
– Зачем изучать Евангелие с кем-то еще, если под рукой есть святой Петр? – настаивал он и потом предложил работу – сделать исследование для его новой критической биографии Бабеля.
Название книги на той стадии постоянно смещалось то к «Еврею на коне», то к «Другому Бабелю». Лично меня захватывала идея «другого Бабеля», то есть что Бабель – это не тот человек, которого мы себе представляем или которого знаем с его слов, что он – это некто совсем иной. В его «Автобиографии», где и полутора страниц не наберется, полно неправды: он, например, заявляет, что служил в ЧК с октября 1917 года, в то время как ЧК появилось на свет лишь два месяца спустя, или что он воевал на «румынском фронте». «Сегодня можно решить, что „румынский фронт“ – такой анекдот, – сказал Фрейдин. – Но это не так, фронт существовал на самом деле. Только Бабеля там никогда не было».
Недокументированная жизнь Бабеля тоже полна загадок, главная из которых – почему он в 1933 году вернулся из Парижа в Москву, при том что чуть не весь предыдущий год потратил, сражаясь за разрешение выехать за границу? И не менее странно – почему в 1935 году, как раз когда начинались чистки, Бабель вдруг собрался перевозить мать, жену и дочь из Брюсселя и Парижа назад в Советский Союз?
Это и стало моим первым заданием: я отправилась в архив Гуверовского института просмотреть русскую эмигрантскую парижскую прессу за 1934 и 1935 годы – с момента убийства Кирова, – чтобы понять, насколько семья Бабеля могла быть осведомлена о чистках. Эти газеты еще не перенесли на микропленку, а хрупкость бумаги оригиналов, переплетенных в громадные тома размером с могильную плиту, не позволяла сделать ксерокопии. Сидя в углу, я набирала на своем лэптопе списки людей, расстрелянных или отправленных в Сибирь, газетные заголовки о Кирове и не только: «Кто поджег Рейхстаг?», «Бонни и Клайд застрелены» и другие в этом роде. Часы летели незаметно, и я опомнилась, лишь когда погас свет. Поднявшись на ноги, я увидела, что вся библиотека не только обесточена, но к тому же безлюдна и заперта. Удары в двери не помогли, и я вслепую сквозь темноту направилась к коридору со служебными кабинетами, где мне посчастливилось обнаружить миниатюрную русскую женщину за чтением микрофильма под лазанью из пластиковой коробочки. Удивление, которое она испытала, увидев меня, сделалось еще сильнее, когда я обратилась за инструкциями о том, как выбраться из здания.
– Выбраться? – эхом повторила она, словно речь шла об экзотическом обычае неведомого народа. – Не знаю.
– Угу, – сказала я. – Но вы-то сами как отсюда будете выбираться?
– Я? Ну, э-э… – она уклончиво отвела взгляд. – Но я вам кое-что покажу. – Она встала, взяла из ящика стола фонарик и пошла назад в коридор, знаками показывая следовать за ней. Мы подошли к аварийному выходу с огромной табличкой СРАБОТАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ.
– Она не заперта, – сказала она. – Но за вами замок закроется.
Сигнализация не сработала. Я спустилась на несколько пролетов, прошла через еще одну пожарную дверь и оказалась в залитом желтым предвечерним солнцем бетонном колодце заметно ниже уровня земли. Прямо за углом у главного входа в Башню Гувера в дверь колотили две китаянки в громадных соломенных шляпах. Я отстегнула велосипед и неторопливо поехала домой. Так и не узнав, почему Бабелю захотелось в 1935 году вернуть семью в Советский Союз.
В тот месяц Фрейдин занялся организацией международной Бабелевской конференции в Стэнфорде, и я стала готовить сопровождающую выставку литературных материалов из архива Гуверовского института.
Содержимое сотни с лишним ящиков по Бабелю оказалось чрезвычайно разнообразным, почти как в разграбленном польском имении: экземпляры «Конармии» на испанском и иврите; «оригинальные акварели» польского конфликта, созданные примерно в 1970 году; «Большая книга еврейского юмора» ок. 1990; номер авангардистского журнала «ЛЕФ» под редакцией Маяковского; «Какими они были», книга детских фотографий известных людей в алфавитном порядке с закладкой на странице, где четырнадцатилетний Бабель в матросском костюме стоит лицом к девочке с лицом юной Джоан Баэз. Там была оформленная Александром Родченко книга о Конной армии с фотографией матери командарма Буденного Мелании Никитичны на пороге хаты – она косится на камеру и держит в руках гусенка. («Первый гусь Буденного, – заметил Фрейдин, – и его штаны». Штаны сушились на заднем плане.)
Еще меня попросили найти два пропагандистских плаката 1920 года – один польский, а другой советский. Координатор выставок привела меня в лабиринтоподобный подвал, где проходила инвентаризацию новая коллекция. Сверху на архивных шкафах лежали разные плакаты 1920 года, где Россия изображалась то вавилонской блудницей, то четырьмя всадниками Апокалипсиса с головами Ленина и Троцкого у лошадей; на одном плакате было нарисовано тело Христа на постапокалиптических руинах – «Вот какой станет Польша, если ее захватят большевики», – и мне вспомнился фрагмент из дневника Бабеля о разграблении старого костела: «…сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, Рембрандт… Это так ясно, разрушаются старые боги».
– Мне жаль, но у нас нет русских пропагандистских плакатов, – сказала координатор. – Боюсь, тут все несколько односторонне.
– Смотрите-ка, – произнесла я, заметив среди этой груды какие-то кириллические буквы. – Вон тот – русский. – Я вытащила громадный плакат со слюнявым бульдогом в королевской короне: «Державная Польша – последний пес Антанты».
– Да, конечно, – сказала координатор, – здесь есть плакаты на русском, но они не большевистские. Это всё польские плакаты.
Я разглядывала плакат и задавалась вопросом: с чего вдруг поляки решили изобразить «Державную Польшу» в виде ужасной дикоглазой собаки? Тут я приметила еще один плакат на русском: маленький круглый капиталист с усами и в котелке, похожий на человечка с эмблемы игры «Монополия», но с кнутом в руке.
– «Польские хозяева хотят превратить русских крестьян в рабов», – прочла я вслух и предположила, что интерпретировать этот плакат в пропольском свете довольно затруднительно.
Координатор воодушевленно закивала:
– Да, на этих плакатах полно двусмысленных образов.
Поднявшись опять в читальный зал, я надела перчатки – в архиве все должны носить белые хлопковые перчатки, как на безумном чаепитии в «Алисе», – и обратилась к ящику с польскими военными реликвиями. Мое внимание привлек пожелтевший лист бумаги с польским текстом за подписью главнокомандующего Йозефа Пилсудского; он был датирован 3 июля 1920 года и начинался словами: «Оbуwatele Rczeczpospolitej!» Я узнала фразу из дневника Бабеля от 15 июля. Он нашел эту самую прокламацию в Белеве: «„Мы помним о вас, всё для вас, солдаты Речи Посполитой!“ Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов, нет посулов и слова – порядок, идеалы, свободная жизнь».
В «Конармии» рассказчик обнаруживает эту же саму прокламацию, случайно помочившись в темноте на труп:
«Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетради поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в Краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла».
Только подумать, я держу в руке тот самый документ! Я стала размышлять, было ли это таким уж невероятным совпадением. Напечатали, наверное, тысячи копий, так почему бы одной из них не оказаться в этом архиве, ведь это же не именно та бумага с мочой Бабеля, хоть Фрейдин и стал шутить об экспонировании этой прокламации «рядом с баночкой мочи». Шутка была направлена в адрес работников архива, которые постоянно намекали, что выставка станет доступнее для публики, если все эти книги и бумаги разбавить «более трехмерными объектами». Кто-то предложил нам создать диораму по мотивам «Сына Рабби» с портретами Ленина и Маймонида и с филактерией. Фрейдин утверждал, что если там будет филактерия, то придется искать и «исчахшие гениталии престарелого семита», которые тоже фигурируют в рассказе. Идея с диорамой была отвергнута.
Найдя прокламацию Пилсудского, я стала думать, что пусть исчахшие гениталии и утеряны для потомства, но относящиеся к Бабелю текстуальные объекты все еще можно обнаружить. Я решила поискать материалы о моем любимом персонаже из дневника, пленном американском летчике Фрэнке Мошере, которого Бабель допрашивал 14 июля: «Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро – в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны… Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет – судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление».
Я любила этот пассаж – за упоминание Конан-Дойля, кафе, некоего «майора Фонт-Ле-Ро», за фразу «грустное и сладостное впечатление». Более того, под именем «Фрэнк Мошер» скрывался капитан Мэриан Колдуэлл Купер, будущий создатель и продюсер «Кинг-Конга». И ведь это было на самом деле: Галиция, июль 1920 года, будущего создателя «Кинг-Конга» допрашивает будущий создатель «Конармии». Я проверила Мэриана Купера в библиотечном каталоге, и – словно в волшебной сказке – оказалось, что в гуверовском архиве хранится основная часть его бумаг.
Выяснилось, что Купер родился в 1894 году, как и Бабель. В Первую мировую служил летчиком, командовал эскадрильей в битве при Сен-Мийеле, был сбит во время Мез-Аргоннского наступления и провел несколько месяцев в немецком плену, где много сталкивался с русскими, приобретя пожизненное отвращение к большевизму. В 1918 году был награжден медалью «Пурпурное сердце». В 1919-м вместе с девятью другими американскими летчиками поступил в эскадрилью имени Костюшко, подразделение польских воздушных сил, для борьбы с «красной угрозой» под командованием майора Седрика Фонт-Ле-Ро. Взял псевдоним «капрал Фрэнк Р. Мошер», увидев это имя на поясе в ношеном нательном белье, полученном от Красного креста.
13 июля 1920 года агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что Купера в расположении противника в Галиции «сбили казаки». По словам местных крестьян, на Купера «набросились всадники из кавалерии Буденного», и его убили бы на месте, если бы за него не заступился неизвестный большевик, знавший английский. На следующий день, 14 июля, в дневнике Бабеля появляется запись о Фрэнке Мошере.
От Купера у Бабеля осталось «грустное и сладостное впечатление», а вот Бабель на Купера, похоже, никакого впечатления не произвел, и в его записях нет ничего о «нескончаемом разговоре». Вспоминая о Красной конармии, он упомянул лишь допрос у Буденного, который приглашал его «в большевистскую армию в качестве инструктора по авиации». (Кстати, Бабель был прав: Мошер действительно лукавил, когда спрашивал, не совершил ли он «преступление, воюя с советской Россией».) Отказавшись стать инструктором, он пять дней прожил «в гостях» у большевистской эскадрильи. «Я сбежал, но через два дня меня снова арестовали и под усиленной охраной отправили в Москву». Всю зиму он убирал снег с железнодорожных путей, а весной бежал из тюрьмы «Владыкино» вместе с двумя польскими лейтенантами и на товарных поездах добрался до латвийской границы («Мы адаптировали методы американских бродяг к нашим обстоятельствам»). На границе потребовалось подкупить солдат. Купер отдал свои сапоги и в Ригу вошел опять босиком.
Один из коллег Купера, летчик Кеннет Шрюсбери, вел фотоальбом, который, по невероятно счастливой случайности, тоже оказался в Стэнфорде. Своей камерой с сухими пластинками он снял всю польскую кампанию и еще Париж, где была промежуточная остановка. (Среди снимков – групповой портрет всей эскадрильи имени Костюшко у входа в «Риц», общий план Елисейских полей, зловеще пустых, если не считать одинокой повозки и двух автомобилей, крупный план лебедя – видимо, в Тюильри.) В те недели я разглядывала много фотографий Галиции и Волыни двадцатых годов, но эти были первыми, где все очень походило на описания Бабеля. Все на месте: скученная у подножья средневекового замка деревушка, разрушенный большевиками храм, аэропланы, симпатичный майор Фонт-Ле-Ро, ровняющие поле евреи, польские механики, всадники, проезжающие мимо подольской аптеки, и сам Купер, такой же, каким его описывает Бабель, – американец, большой, шея словно колонна. На одном из снимков он слегка улыбается и держит трубку, как Артур Конан-Дойль.
Купер обратился к кинематографу в 1923 году, начав работать вместе с таким же, как он, ветераном российско-польской кампании капитаном Эрнестом Б. Шудсаком. В поисках «опасностей, приключений и природной красоты» они отправились в Турцию и сняли фильм о ежегодной миграции персидского племени бахтиаров («Трава: битва народа за выживание»); потом в Таиланде они сделали картину «Чанг: драма в глуши» о находчивом лаосском семействе, которое вырыло у своего дома яму, чтобы заманивать туда диких зверей. Кто только не оказывался в этой яме: леопарды, тигры, белый гиббон, – а однажды туда попало таинственное существо, которое назвали чангом и которое в итоге оказалось слоненком. Купер утверждал, что во время съемок «Чанга» он мог предсказать поведение персонажей на площадке по фазам луны. Страстный аэронавт, Купер нередко обращался за ответами к небу: среди его бумаг я нашла письмо пятидесятых годов, где вкратце излагался план колонизации Солнечной системы, чтобы загнать в угол Советы и предотвратить надвигающийся кризис людской и автомобильной перенаселенности в Калифорнии.
В 1931 году (Бабель в тот год опубликовал «Пробуждение») у Купера появился замысел «Кинг-Конга»: один кинодокументалист и его съемочная группа обнаруживают на далеком острове «наивысшего представителя доисторической животной жизни». Документалист замышлялся как собирательный образ, совмещающий Купера и Шудсака: «Вставьте туда нас, – инструктировал Купер сценаристов. – Пусть там будет дух подлинной экспедиции Купера-Шудсака». Киношники из фильма должны привести доисторического монстра в Нью-Йорк для «противостояния нашей материалистической, механистической цивилизации».
На той же неделе я в библиотеке взяла «Кинг-Конга». Глядя, как гигантская обезьяна висит на Эмпайр-стейт-билдинг и лупит по бипланам, я поняла, что Бабель описал аналогичную сцену в «Эскадронном Трунове». В конце рассказа Трунов с пулеметом на бугре обстреливает четыре бомбардировщика из эскадрильи имени Костюшко – «машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины… Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги…» Как и у Кинг-Конга, у Трунова нет аэроплана. Подобно Кинг-Конгу, он терпит поражение. Из надписей на коробке с диском я узнала, что летчики на крупных планах в сцене с Эмпайр-стейт-билдинг – это не кто иные, как Купер и Шудсак: «Мы должны сами убить этого сукина сына». Иными словами, и Кинг-Конг, и эскадронный Трунов были оба убиты летчиками эскадрильи имени Костюшко.
«Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро».
«Замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару».
Бабелевское «описать» напоминает меланхолию, с какой Ватсон говорит о делах Шерлока Холмса, не попавших в его анналы: «дарлингтоновский скандал с подменой», «необыкновенное дело об алюминиевом костыле», «тайна гигантской крысы с Суматры, к которой мир еще не готов». Все эти истории, которые останутся нерассказанными, все эти писатели, которым не дали закончить! Куда утешительнее думать, что обещания уже по-своему выполнены, что Бабель, наверное, уже и так достаточно описал прихрамывающего Губанова, грозу полка, и что тайна гигантской крысы с Суматры в конце концов сводится к тайне гигантской крысы с Суматры. Да, в «Конармии» Бабель возвращается к Рациборовским: «В замке жила девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и – мужики рассказывали мне – графиня била сына кучерским кнутом». Но, несмотря на упоминание, в духе Золя, о нарушении потомственности, или на извращенческий, в духе Тургенева, «кучерский кнут», или на проглядывающую советскую риторику о рыцарской Польше, которая теперь «обезумела» (как выразился сам Бабель в одной из пропагандистских работ), «описание» все равно состоит лишь из двух предложений.
* * *
Одна из самых леденящих душу реликвий в досье КГБ на Бабеля – двойное фото, сделанное в 1939 году после ареста.
На фото в профиль Бабель глядит вдаль, подбородок поднят, на лице – мученическая решимость. На фото же анфас видно, что он смотрит на нечто, расположенное рядом. Кажется, что взгляд устремлен на человека, который вот-вот должен совершить чудовищный поступок. Один немецкий историк однажды написал об этих снимках: «На обоих писатель снят без очков и с синяком – monocle haematoma, выражаясь по-медицински, – доказательством примененного насилия».
Мне было жаль этого историка. Я поняла, что неадекватность слов «без очков и с синяком» позволила ему написать и такую абсурдную фразу, как «monocle haematoma, выражаясь по-медицински». Само отсутствие очков – уже признак неописуемого насилия. Тут для описания потребовались бы длинные латинские слова. Бабель никогда не фотографировался без очков. И никогда без них не писал. У его рассказчика – как гласит популярная строчка из одесского цикла – всегда «на носу очки, а в душе осень». Другая известная строчка – часть реплики, которую бабелевский рассказчик адресует близорукому товарищу на финском зимнем курорте: «Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас!»
В «Моем первом гусе» казачий комдив кричит на еврея-интеллигента: «Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживёшь с нами, што ль?» Очки как раз и олицетворяют намерение Бабеля «пожить» с ними, наблюдая за каждым их движением – внимательно, почти с любовью, – смотреть и записывать. Надежда Мандельштам писала, что в Бабеле все создавало впечатление «необычайного любопытства». «Весь поворот головы, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и людей». Вот что у него отняли, оставив вместо очков monocle haematoma.
На семинары по литбиографиям меня уговорил записаться мой однокашник Матей, который знал профессора.
– Это классический еврей-интеллектуал из Нью-Йорка, – взахлеб говорил Матей, словно описывая диковинную лесную зверушку. (Матей был классический католик-интеллектуал из Загреба.) – Когда он рассказывает о Бабеле, то от возбуждения заикается. Но это не раздражает, не мешает. Его заикание обаятельно, оно вызывает расположение и симпатию.
В конце семестра мы с Матеем договорились сделать совместную презентацию о Бабеле. В один из холодных пасмурных дней мы встретились за грязным металлическим столом у библиотеки и, попивая кофе, стали сравнивать свои записи, прикончив почти целую Матееву пачку «Уинстон Лайт»: как выяснилось, Матей заказывал их оптом в индейской резервации. Общий угол зрения мы выработали сразу, но, когда дело дошло до деталей, наши мнения разделились по всем вопросам. Битый час мы проспорили об одном-единственном предложении из «Учения о тачанке», рассказа о том, как тачанка – бричка с пулеметом сзади – изменила войну. Если у украинского села есть тачанки, пишет Бабель, оно все равно не воспринимается как военный объект, поскольку пулеметы можно спрятать под сеном брички.
Когда пошел дождь, мы с Матеем решили зайти внутрь и посмотреть в библиотеке, как в оригинале выглядит предложение, ставшее предметом нашего спора: «Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но неощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села – свирепого, мятежного, корыстолюбивого». Даже с русским текстом перед глазами мы все равно не смогли сойтись по поводу того, что такое «схоронившиеся точки». Перечитывая этот рассказ сегодня, я не могу понять, о чем мы так долго спорили, но помню, как Матей раздраженно сказал:
– В твоей версии все выглядит, будто он занимается подгонкой, как в двойной бухгалтерии.
– Именно! – отрезала я. – Именно двойной бухгалтерией он и занимался.
Мы пришли к выводу, что никогда не достигнем взаимопонимания, поскольку я материалист, а Матей придерживается фундаментально религиозных взглядов на историю. В итоге мы решили разделить задачи: Матей будет писать о том, как Бабель заменил старых богов новой мифологией, а я – о Бабеле как бухгалтере.
«Как хорошо, – писал Мандельштам, – что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной злости!» Не знаю, работал ли Матей над своей презентацией при свете жреческой лампады, но лично меня именно литературная злость подвигла к желанию доказать, что Бабель на самом деле был бухгалтером. К моему изумлению, это оказалось правдой: мало того что в его рассказах непрерывно появляются бухгалтеры и клерки, но и сам Бабель тоже окончил Киевский коммерческий институт, где получал высшие оценки по общему бухучету. Особенно мне запомнился рассказ «Пан Аполек», где поляк Аполек обращается к рассказчику «пан писарь». «Пан» – по-польски значит «мистер», «господин», а одно из значений слова «писарь» – «клерк». Однако в польском «pisarz» – это не «клерк», а «писатель». Пан Аполек хотел назвать рассказчика «господин писатель», но писатель в Красной конной армии превратился в клерка.
В итоге я написала о «двойных» отношениях в текстах Бабеля между литературой и прожитым опытом, строя свою работу вокруг рассказа «Пан Аполек» (истории деревенского иконописца, наделявшего библейские фигуры лицами односельчан: «двойная бухгалтерия» между предсуществующей художественной формой и наблюдениями из жизни). Презентация на семинаре прошла хорошо, и через несколько месяцев я представила ее в расширенном виде на коллоквиуме по славянским языкам, где она привлекла внимание университетского специалиста по Бабелю Гриши Фрейдина. Фрейдин сказал, что поможет мне доработать ее для публикации.
– Зачем изучать Евангелие с кем-то еще, если под рукой есть святой Петр? – настаивал он и потом предложил работу – сделать исследование для его новой критической биографии Бабеля.
Название книги на той стадии постоянно смещалось то к «Еврею на коне», то к «Другому Бабелю». Лично меня захватывала идея «другого Бабеля», то есть что Бабель – это не тот человек, которого мы себе представляем или которого знаем с его слов, что он – это некто совсем иной. В его «Автобиографии», где и полутора страниц не наберется, полно неправды: он, например, заявляет, что служил в ЧК с октября 1917 года, в то время как ЧК появилось на свет лишь два месяца спустя, или что он воевал на «румынском фронте». «Сегодня можно решить, что „румынский фронт“ – такой анекдот, – сказал Фрейдин. – Но это не так, фронт существовал на самом деле. Только Бабеля там никогда не было».
Недокументированная жизнь Бабеля тоже полна загадок, главная из которых – почему он в 1933 году вернулся из Парижа в Москву, при том что чуть не весь предыдущий год потратил, сражаясь за разрешение выехать за границу? И не менее странно – почему в 1935 году, как раз когда начинались чистки, Бабель вдруг собрался перевозить мать, жену и дочь из Брюсселя и Парижа назад в Советский Союз?
Это и стало моим первым заданием: я отправилась в архив Гуверовского института просмотреть русскую эмигрантскую парижскую прессу за 1934 и 1935 годы – с момента убийства Кирова, – чтобы понять, насколько семья Бабеля могла быть осведомлена о чистках. Эти газеты еще не перенесли на микропленку, а хрупкость бумаги оригиналов, переплетенных в громадные тома размером с могильную плиту, не позволяла сделать ксерокопии. Сидя в углу, я набирала на своем лэптопе списки людей, расстрелянных или отправленных в Сибирь, газетные заголовки о Кирове и не только: «Кто поджег Рейхстаг?», «Бонни и Клайд застрелены» и другие в этом роде. Часы летели незаметно, и я опомнилась, лишь когда погас свет. Поднявшись на ноги, я увидела, что вся библиотека не только обесточена, но к тому же безлюдна и заперта. Удары в двери не помогли, и я вслепую сквозь темноту направилась к коридору со служебными кабинетами, где мне посчастливилось обнаружить миниатюрную русскую женщину за чтением микрофильма под лазанью из пластиковой коробочки. Удивление, которое она испытала, увидев меня, сделалось еще сильнее, когда я обратилась за инструкциями о том, как выбраться из здания.
– Выбраться? – эхом повторила она, словно речь шла об экзотическом обычае неведомого народа. – Не знаю.
– Угу, – сказала я. – Но вы-то сами как отсюда будете выбираться?
– Я? Ну, э-э… – она уклончиво отвела взгляд. – Но я вам кое-что покажу. – Она встала, взяла из ящика стола фонарик и пошла назад в коридор, знаками показывая следовать за ней. Мы подошли к аварийному выходу с огромной табличкой СРАБОТАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ.
– Она не заперта, – сказала она. – Но за вами замок закроется.
Сигнализация не сработала. Я спустилась на несколько пролетов, прошла через еще одну пожарную дверь и оказалась в залитом желтым предвечерним солнцем бетонном колодце заметно ниже уровня земли. Прямо за углом у главного входа в Башню Гувера в дверь колотили две китаянки в громадных соломенных шляпах. Я отстегнула велосипед и неторопливо поехала домой. Так и не узнав, почему Бабелю захотелось в 1935 году вернуть семью в Советский Союз.
В тот месяц Фрейдин занялся организацией международной Бабелевской конференции в Стэнфорде, и я стала готовить сопровождающую выставку литературных материалов из архива Гуверовского института.
Содержимое сотни с лишним ящиков по Бабелю оказалось чрезвычайно разнообразным, почти как в разграбленном польском имении: экземпляры «Конармии» на испанском и иврите; «оригинальные акварели» польского конфликта, созданные примерно в 1970 году; «Большая книга еврейского юмора» ок. 1990; номер авангардистского журнала «ЛЕФ» под редакцией Маяковского; «Какими они были», книга детских фотографий известных людей в алфавитном порядке с закладкой на странице, где четырнадцатилетний Бабель в матросском костюме стоит лицом к девочке с лицом юной Джоан Баэз. Там была оформленная Александром Родченко книга о Конной армии с фотографией матери командарма Буденного Мелании Никитичны на пороге хаты – она косится на камеру и держит в руках гусенка. («Первый гусь Буденного, – заметил Фрейдин, – и его штаны». Штаны сушились на заднем плане.)
Еще меня попросили найти два пропагандистских плаката 1920 года – один польский, а другой советский. Координатор выставок привела меня в лабиринтоподобный подвал, где проходила инвентаризацию новая коллекция. Сверху на архивных шкафах лежали разные плакаты 1920 года, где Россия изображалась то вавилонской блудницей, то четырьмя всадниками Апокалипсиса с головами Ленина и Троцкого у лошадей; на одном плакате было нарисовано тело Христа на постапокалиптических руинах – «Вот какой станет Польша, если ее захватят большевики», – и мне вспомнился фрагмент из дневника Бабеля о разграблении старого костела: «…сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, Рембрандт… Это так ясно, разрушаются старые боги».
– Мне жаль, но у нас нет русских пропагандистских плакатов, – сказала координатор. – Боюсь, тут все несколько односторонне.
– Смотрите-ка, – произнесла я, заметив среди этой груды какие-то кириллические буквы. – Вон тот – русский. – Я вытащила громадный плакат со слюнявым бульдогом в королевской короне: «Державная Польша – последний пес Антанты».
– Да, конечно, – сказала координатор, – здесь есть плакаты на русском, но они не большевистские. Это всё польские плакаты.
Я разглядывала плакат и задавалась вопросом: с чего вдруг поляки решили изобразить «Державную Польшу» в виде ужасной дикоглазой собаки? Тут я приметила еще один плакат на русском: маленький круглый капиталист с усами и в котелке, похожий на человечка с эмблемы игры «Монополия», но с кнутом в руке.
– «Польские хозяева хотят превратить русских крестьян в рабов», – прочла я вслух и предположила, что интерпретировать этот плакат в пропольском свете довольно затруднительно.
Координатор воодушевленно закивала:
– Да, на этих плакатах полно двусмысленных образов.
Поднявшись опять в читальный зал, я надела перчатки – в архиве все должны носить белые хлопковые перчатки, как на безумном чаепитии в «Алисе», – и обратилась к ящику с польскими военными реликвиями. Мое внимание привлек пожелтевший лист бумаги с польским текстом за подписью главнокомандующего Йозефа Пилсудского; он был датирован 3 июля 1920 года и начинался словами: «Оbуwatele Rczeczpospolitej!» Я узнала фразу из дневника Бабеля от 15 июля. Он нашел эту самую прокламацию в Белеве: «„Мы помним о вас, всё для вас, солдаты Речи Посполитой!“ Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов, нет посулов и слова – порядок, идеалы, свободная жизнь».
В «Конармии» рассказчик обнаруживает эту же саму прокламацию, случайно помочившись в темноте на труп:
«Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетради поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в Краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла».
Только подумать, я держу в руке тот самый документ! Я стала размышлять, было ли это таким уж невероятным совпадением. Напечатали, наверное, тысячи копий, так почему бы одной из них не оказаться в этом архиве, ведь это же не именно та бумага с мочой Бабеля, хоть Фрейдин и стал шутить об экспонировании этой прокламации «рядом с баночкой мочи». Шутка была направлена в адрес работников архива, которые постоянно намекали, что выставка станет доступнее для публики, если все эти книги и бумаги разбавить «более трехмерными объектами». Кто-то предложил нам создать диораму по мотивам «Сына Рабби» с портретами Ленина и Маймонида и с филактерией. Фрейдин утверждал, что если там будет филактерия, то придется искать и «исчахшие гениталии престарелого семита», которые тоже фигурируют в рассказе. Идея с диорамой была отвергнута.
Найдя прокламацию Пилсудского, я стала думать, что пусть исчахшие гениталии и утеряны для потомства, но относящиеся к Бабелю текстуальные объекты все еще можно обнаружить. Я решила поискать материалы о моем любимом персонаже из дневника, пленном американском летчике Фрэнке Мошере, которого Бабель допрашивал 14 июля: «Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро – в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны… Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет – судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление».
Я любила этот пассаж – за упоминание Конан-Дойля, кафе, некоего «майора Фонт-Ле-Ро», за фразу «грустное и сладостное впечатление». Более того, под именем «Фрэнк Мошер» скрывался капитан Мэриан Колдуэлл Купер, будущий создатель и продюсер «Кинг-Конга». И ведь это было на самом деле: Галиция, июль 1920 года, будущего создателя «Кинг-Конга» допрашивает будущий создатель «Конармии». Я проверила Мэриана Купера в библиотечном каталоге, и – словно в волшебной сказке – оказалось, что в гуверовском архиве хранится основная часть его бумаг.
Выяснилось, что Купер родился в 1894 году, как и Бабель. В Первую мировую служил летчиком, командовал эскадрильей в битве при Сен-Мийеле, был сбит во время Мез-Аргоннского наступления и провел несколько месяцев в немецком плену, где много сталкивался с русскими, приобретя пожизненное отвращение к большевизму. В 1918 году был награжден медалью «Пурпурное сердце». В 1919-м вместе с девятью другими американскими летчиками поступил в эскадрилью имени Костюшко, подразделение польских воздушных сил, для борьбы с «красной угрозой» под командованием майора Седрика Фонт-Ле-Ро. Взял псевдоним «капрал Фрэнк Р. Мошер», увидев это имя на поясе в ношеном нательном белье, полученном от Красного креста.
13 июля 1920 года агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что Купера в расположении противника в Галиции «сбили казаки». По словам местных крестьян, на Купера «набросились всадники из кавалерии Буденного», и его убили бы на месте, если бы за него не заступился неизвестный большевик, знавший английский. На следующий день, 14 июля, в дневнике Бабеля появляется запись о Фрэнке Мошере.
От Купера у Бабеля осталось «грустное и сладостное впечатление», а вот Бабель на Купера, похоже, никакого впечатления не произвел, и в его записях нет ничего о «нескончаемом разговоре». Вспоминая о Красной конармии, он упомянул лишь допрос у Буденного, который приглашал его «в большевистскую армию в качестве инструктора по авиации». (Кстати, Бабель был прав: Мошер действительно лукавил, когда спрашивал, не совершил ли он «преступление, воюя с советской Россией».) Отказавшись стать инструктором, он пять дней прожил «в гостях» у большевистской эскадрильи. «Я сбежал, но через два дня меня снова арестовали и под усиленной охраной отправили в Москву». Всю зиму он убирал снег с железнодорожных путей, а весной бежал из тюрьмы «Владыкино» вместе с двумя польскими лейтенантами и на товарных поездах добрался до латвийской границы («Мы адаптировали методы американских бродяг к нашим обстоятельствам»). На границе потребовалось подкупить солдат. Купер отдал свои сапоги и в Ригу вошел опять босиком.
Один из коллег Купера, летчик Кеннет Шрюсбери, вел фотоальбом, который, по невероятно счастливой случайности, тоже оказался в Стэнфорде. Своей камерой с сухими пластинками он снял всю польскую кампанию и еще Париж, где была промежуточная остановка. (Среди снимков – групповой портрет всей эскадрильи имени Костюшко у входа в «Риц», общий план Елисейских полей, зловеще пустых, если не считать одинокой повозки и двух автомобилей, крупный план лебедя – видимо, в Тюильри.) В те недели я разглядывала много фотографий Галиции и Волыни двадцатых годов, но эти были первыми, где все очень походило на описания Бабеля. Все на месте: скученная у подножья средневекового замка деревушка, разрушенный большевиками храм, аэропланы, симпатичный майор Фонт-Ле-Ро, ровняющие поле евреи, польские механики, всадники, проезжающие мимо подольской аптеки, и сам Купер, такой же, каким его описывает Бабель, – американец, большой, шея словно колонна. На одном из снимков он слегка улыбается и держит трубку, как Артур Конан-Дойль.
Купер обратился к кинематографу в 1923 году, начав работать вместе с таким же, как он, ветераном российско-польской кампании капитаном Эрнестом Б. Шудсаком. В поисках «опасностей, приключений и природной красоты» они отправились в Турцию и сняли фильм о ежегодной миграции персидского племени бахтиаров («Трава: битва народа за выживание»); потом в Таиланде они сделали картину «Чанг: драма в глуши» о находчивом лаосском семействе, которое вырыло у своего дома яму, чтобы заманивать туда диких зверей. Кто только не оказывался в этой яме: леопарды, тигры, белый гиббон, – а однажды туда попало таинственное существо, которое назвали чангом и которое в итоге оказалось слоненком. Купер утверждал, что во время съемок «Чанга» он мог предсказать поведение персонажей на площадке по фазам луны. Страстный аэронавт, Купер нередко обращался за ответами к небу: среди его бумаг я нашла письмо пятидесятых годов, где вкратце излагался план колонизации Солнечной системы, чтобы загнать в угол Советы и предотвратить надвигающийся кризис людской и автомобильной перенаселенности в Калифорнии.
В 1931 году (Бабель в тот год опубликовал «Пробуждение») у Купера появился замысел «Кинг-Конга»: один кинодокументалист и его съемочная группа обнаруживают на далеком острове «наивысшего представителя доисторической животной жизни». Документалист замышлялся как собирательный образ, совмещающий Купера и Шудсака: «Вставьте туда нас, – инструктировал Купер сценаристов. – Пусть там будет дух подлинной экспедиции Купера-Шудсака». Киношники из фильма должны привести доисторического монстра в Нью-Йорк для «противостояния нашей материалистической, механистической цивилизации».
На той же неделе я в библиотеке взяла «Кинг-Конга». Глядя, как гигантская обезьяна висит на Эмпайр-стейт-билдинг и лупит по бипланам, я поняла, что Бабель описал аналогичную сцену в «Эскадронном Трунове». В конце рассказа Трунов с пулеметом на бугре обстреливает четыре бомбардировщика из эскадрильи имени Костюшко – «машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины… Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги…» Как и у Кинг-Конга, у Трунова нет аэроплана. Подобно Кинг-Конгу, он терпит поражение. Из надписей на коробке с диском я узнала, что летчики на крупных планах в сцене с Эмпайр-стейт-билдинг – это не кто иные, как Купер и Шудсак: «Мы должны сами убить этого сукина сына». Иными словами, и Кинг-Конг, и эскадронный Трунов были оба убиты летчиками эскадрильи имени Костюшко.
Другие электронные книги автора Элиф Батуман
Идиот




 0
0