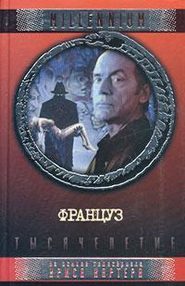По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бренная любовь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще раз хочу напомнить тебе о вреде, каковой фантазии оперы подчас наносят женской душе! Судя по бессвязным речам Марты, она попеременно видела во мне то своего мужа, то любовника, а то и пленителя, что нередко случается с такими женщинами in extremis[3 - В чрезвычайных обстоятельствах, в трудную минуту, при смерти (лат.).]. На четвертый день она так разбушевалась в душевой, что мне пришлось вколоть ей снотворное.
Лермонт спешно открыл последнюю страницу письма.
…продолжал вводить ей успокаивающее. Это останавливало припадки, но с каждым днем она все больше сникала и слабела.
Я уже начал составлять черновик этого письма, Томас, в надежде узнать твое мненье по данному вопросу и, возможно, просить твоей помощи, однако вчера утром меня разбудила сестра-хозяйка, прибежавшая ко мне домой с криками и известием, будто больница объята огнем. Я поспешил туда и обнаружил, что, слава богу, объята огнем не вся больница, а лишь одна палата. Палата Марты.
В этом огне она, увы, погибла, притом не одна. Когда пожар удалось потушить, я обнаружил на месте обугленные останки другого пациента. Дежурная медсестра заверила меня, что ни свечей, ни ламп в палате не оставляли: должно быть, он принес свечу с собой.
Много часов я просеивал останки и все же не нашел среди них никаких следов девушки, если не считать ее туфель. Мне еще предстоит выяснить, украл ли тот пациент ключ от ее палаты, или же она впустила его сама. Юноша он был безобидный, писал на досуге затейные сказочки, которые были мне по душе. Увы, все свои сочиненья он, похоже, унес с собой на тот свет, поскольку никаких бумаг в его палате я не нашел.
Судьба Марты – наглядный образчик пагубного воздействия низменных страстей на молодую женщину, чей норов еще не смягчен материнством и не усмирен остепеняющими объятьями мужа. Раймерих Киндерлиб, пожалуй, усмотрел бы некую зловещую иронию в ее судьбе, я же этого делать не стану. Когда я сообщил другу печальную весть, горе его было изрядно сдобрено муками совести. Мне нечего было отдать ему, кроме туфель той девушки и ее праха, который он обязался предать речным водам.
Итак, добрый мой друг, я глубоко сожалею, что по моей вине вы упустили возможность расширить свои познанья о женских одержимостях и, быть может, найти средство для их излечения. Надеюсь, моя оплошность не помешает вам и впредь считать меня другом, каковым я являюсь вот уже тридцать лет невзирая на разделяющее нас внушительное расстоянье. Я продолжаю с большим интересом читать любезно присланные вами статьи Лондонского фольклорного общества, хотя перевожу их медленно и, уверен, не без курьезных ошибок. Молю Господа о вашем здравии и уповаю, что мы еще не раз посмеемся вместе, как много лет тому назад, прежде чем Он заберет к себе наши души.
Всегда искренне ваш,
Генрих Гофман.
Лермонт отложил страницы и дрожащей рукой вытер уголок глаза.
Пропала. Опять.
Когда он был еще ребенком, отец, уходя на охоту с друзьями, позволил ему выгулять в лесу их гончую. Пес был еще молод, не обучен командам и так ретиво влек за собой юного Томаса сквозь заросли ольхи и утесника, будто задумал удавиться кожаным поводком. Томас давно умолял отца взять его с собой на охоту и столь же настойчиво выпрашивал собаку.
Однако минуло несколько часов – и он возненавидел зверя. Ненависть его мешалась с жалостью к глупому и беспомощному созданию, чья жизнь целиком зависела от неловкого, выбившегося из сил мальчишки. Лермонт помнил, как стоял на вершине холма – пес рвался с поводка, хрипел, что-то ужасно клокотало у него в горле, – а летнее солнце уже катилось к мерцающей внизу реке. Когда он наконец разжал пальцы и выпустил поводок, пес с радостным взвизгом скрылся в чаще. Лермонт испытал гадкое блаженство. Он понимал, что именно он обрек пса и на страшные муки, и на долгожданное избавление, и что отец, возвратившись с охоты, накажет его – ведь поводок обязательно зацепится за низкую ветвь или корень и задушит пса.
Он побежал вниз, чтобы догнать гончую, однако было поздно. Тявканье потонуло в сумеречных звуках – плеске реки, криках лесных горлиц и далекой музыке охоты. Томас нашел на берегу дуб, рухнул на мох у его подножья и стал дожидаться возвращения отца.
Сегодня, на постоялом дворе, Лермонтом вновь овладела та горячка, он ощутил то же бурление крови в жилах. Он представил, как бедный Гофман растерянно глядит на дымящиеся в его руках туфли, расхохотался и нащупал в заднем кармане брюк ножницы.
«Ты так юн», – сказала ему женщина у реки. Он заснул и в первые мгновения подумал, что это его мать, а потом вспомнил, что мать умерла. «Совсем юн», – удивленно повторила женщина, опустилась на колени и положила голову на колени Томасу, длинными тонкими пальцами расстегивая ему брюки.
Сгинула, нет ее, подумал он и принялся исступленно кромсать ножницами письмо Гофмана. У него под рукой в жестяном подсвечнике оплывала салом свеча; когда стол усыпали бумажные обрезки, он начал скармливать их пламени, по две-три полоски зараз.
В Уоллингем он приехал, надеясь повидать другого своего приятеля, поэта Суинберна, однако тот, как выяснилось, сам уехал в Лондон. Пепел ложился на стол; Лермонт резко провел рукой по столу, взметнув его в воздух. Потом занес руку над свечой и медленно опустил к самому пламени, так что оно опалило кожу, и продержал так несколько секунд. Запах горелой плоти наполнил комнату. Наконец Лермонт охнул и уронил руку на стол. Пламя дрогнуло, но не погасло: капля прозрачного жира стекла по свече на стол. Лермонт стал крутить рукой, осторожно поднимая рукав сорочки и обнажая сетку из прежних шрамов – красных, голубоватых, белоснежных. Одни были в форме лепестков, как тот, что сейчас расцвел на ладони, другие расходились веером, образовывая отпечаток руки.
Он найдет ее. Отправится в Лондон и продолжит поиски: опросит всех членов Фольклорного общества и городской Комиссии по делам душевнобольных.
Стоило этой мысли прийти ему в голову, как он понял, что она тоже туда отправится, пусть и будет держаться подальше от Бедлама. Она отыщет Суинберна или какого-нибудь бедолагу вроде него, набросится, как сова на полевку, а после вновь расправит крылья в поисках следующей жертвы. Она окажется там быстрее него и будет путешествовать инкогнито: медлить нельзя, надо выезжать сейчас же!
Лермонт опустил голову и лизнул ладонь: кожа под языком так и горела. Затем он вернул ножницы с длинными ручками в карман брюк, собрал немногочисленные вещи и отправился искать экипаж.
Минуло несколько недель. Наступил декабрь, ночи казались бесконечными, особенно на севере Лондона. В узком переулке стоял, пьяно покачиваясь, поэт Суинберн.
– Ала, ала кровь! – пропел он вслух и засмеялся.
Вечером он побывал на встрече Клуба каннибалов в «Бартолини», где пили за сосланного в Триест Ричарда Бертона, и Суинберну пришлось зажать нос, чтобы не задохнуться от смеха над грубой шуткой, которую они сыграли с официантом. После ужина ему вздумалось прогуляться одному – он любил гулять, – и спустя несколько часов блужданий по лабиринту улиц, отделявших ислингтонскую армию конторских служащих в черных сюртуках от контор в Сити, он очутился здесь.
Поэт шагал и твердил себе под нос:
– Нет гаже ничего кругом, / Чем то, что пишем и чем срем. / На вонь плевать: свою елду / Суем что в жопу, что в манду. В любой…
Конторские служащие с наступлением темноты разбежались по тесным безотрадным улочкам, оглашаемым криками младенцев и неумолчным надсадным кашлем лондонской бедноты. Желто-зеленая ночная дымка несла склепную вонь великой реки, пролегавшей в двух милях к югу. С Хайбери-филдс долетали детские визги и музыка паровой ярмарочной карусели. Суинберн бубнил стихи и шагал, неистово размахивая руками, и порой с веселым или смятенным криком выписывал причудливые пируэты в попытке разминуться со встречными. Время от времени он извлекал из-за пазухи серебряную флягу с бренди – доставшуюся ему, кстати, от Бертона, – и отвинтив крышку, сперва помахивал ею перед носом, словно букетиком цветов, аромат которых мог бы перебить вездесущую вонь жареной рыбы, затем делал глоток и продолжал свой нетвердый путь сквозь зимний сумрак.
Он был невелик ростом, а рыжие волосы уже начали седеть от пьянства. Из-за малого роста и мелких черт лица его можно было легко принять за рядовую солдатку легиона женщин – прачек, проституток, девиц, – перепутавших понедельник с воскресеньем и предававшихся по этому случаю такому безудержному пьянству, что ему не раз приходилось перешагивать через их распростертые на дороге тела, вывалянные в грязи, с вывернутыми наружу нижними юбками, провонявшими рвотой и спермой.
– …в любой грязи, в любом дерьме / Найдется нам, что отыме…
Он визгливо хихикнул, увидев впереди болтающуюся на ветру вывеску кабака. На доске были изображены две руки, в каждой по стакану, над фонтаном белой пены.
МЫШЦЫ ВЕЧНЫЕ[4 - «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках; прибежище твое – Бог древний, и ты под мышцами вечными». (Втор.33: 26–27).]
Кладезь Св. Друстана
– В бога и богородицу! – напевно выругался Суинберн, затем умолк.
Под вывеской стояла женщина. На ней была тяжелая шерстяная накидка поверх строгого черного платья, потрепанного, но из хорошей материи, – платья экономки. На голове ни шляпки, ни косынки; волосы собраны в тугой пучок над высоким гладким лбом. Когда Суинберн подошел ближе, незнакомка не отвернулась, а, напротив, подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза.
– Медуза! – возопил Суинберн, прижав ладони к щекам. – Свинолебедь! Ах, чтоб меня! Бедняжка!
Женщине полностью разъело нижнюю челюсть, а на месте подбородка торчала шпора из оголенной, черной, мягкой с виду кости, похожая на обугленную деревяшку. Однако взгляд льдисто-голубых глаз незнакомки в тусклом свете кабацких окон казался лукавым и насмешливым, а говорила она ласково и подобострастно.
– Меня за вами прислала госпожа, сэр.
– Госпожа? Хороша! – Суинберн потуже запахнул плащ и уставился на женщину. – Фосфорный некроз? Ах, фу-ты ну-ты! Бедняжка Фосси!
Он потянулся было за монетой – человек он был добрый, особенно в подпитии, – однако незнакомка покачала головой и схватила его за запястье. Поэт тотчас отдернул руку. Женщина засмеялась.
– Не надо денег, сэр… Ступайте за мной!
Руки она спрятала под плащ; он заметил, что она без перчаток, зато от его внимания ускользнуло, что ее ногти светятся голубым, как язычки газового пламени.
– За вами? – переспросил он.
– Да.
Она склонила голову набок, показывая ему свое изувеченное лицо. Суинберн сглотнул ком в горле, подумав, какую чудовищную боль ей приходится терпеть, ощутил мимолетный проблеск влечения и молча кивнул. Женщина вышла на улицу. Быстро оглянувшись, она поспешила в проулок – такой узкий, что выступавшие с обеих сторон свесы крыш встречались и полностью загораживали сумеречное небо.
Суинберн пошел следом, слыша впереди эхо ее шагов. Проулок петлял, с каждым изгибом становясь все темнее и уже. Булыжники мостовой сменились гравием, затем утрамбованной землей и, наконец, кашей из грязи и жухлой травы, от которой несло выгребной ямой. Суинберн очутился в тоннеле, по которому некогда бежал закованный в деревянные трубы канал Нью-Ривер; теперь от акведука остался лишь деревянный остов-скелет да истлевшие пучки водорослей. Незнакомка, шагавшая чуть впереди, вдруг остановилась.
– Я доложу ей, что вы пришли, – сказала она, развернулась и исчезла в темном проходе.
– Т-твою мать! – Поэт всплеснул руками, чертыхаясь и смеясь. – Фосси меня околпачила! Вернись, родная…
Он уже потянулся за флягой, как вдруг различил впереди шаги.
– Я покажу вам дорогу, – раздался тихий голос.
Поэт поднял голову. В проходе стоял человек с фонарем.
Лермонт спешно открыл последнюю страницу письма.
…продолжал вводить ей успокаивающее. Это останавливало припадки, но с каждым днем она все больше сникала и слабела.
Я уже начал составлять черновик этого письма, Томас, в надежде узнать твое мненье по данному вопросу и, возможно, просить твоей помощи, однако вчера утром меня разбудила сестра-хозяйка, прибежавшая ко мне домой с криками и известием, будто больница объята огнем. Я поспешил туда и обнаружил, что, слава богу, объята огнем не вся больница, а лишь одна палата. Палата Марты.
В этом огне она, увы, погибла, притом не одна. Когда пожар удалось потушить, я обнаружил на месте обугленные останки другого пациента. Дежурная медсестра заверила меня, что ни свечей, ни ламп в палате не оставляли: должно быть, он принес свечу с собой.
Много часов я просеивал останки и все же не нашел среди них никаких следов девушки, если не считать ее туфель. Мне еще предстоит выяснить, украл ли тот пациент ключ от ее палаты, или же она впустила его сама. Юноша он был безобидный, писал на досуге затейные сказочки, которые были мне по душе. Увы, все свои сочиненья он, похоже, унес с собой на тот свет, поскольку никаких бумаг в его палате я не нашел.
Судьба Марты – наглядный образчик пагубного воздействия низменных страстей на молодую женщину, чей норов еще не смягчен материнством и не усмирен остепеняющими объятьями мужа. Раймерих Киндерлиб, пожалуй, усмотрел бы некую зловещую иронию в ее судьбе, я же этого делать не стану. Когда я сообщил другу печальную весть, горе его было изрядно сдобрено муками совести. Мне нечего было отдать ему, кроме туфель той девушки и ее праха, который он обязался предать речным водам.
Итак, добрый мой друг, я глубоко сожалею, что по моей вине вы упустили возможность расширить свои познанья о женских одержимостях и, быть может, найти средство для их излечения. Надеюсь, моя оплошность не помешает вам и впредь считать меня другом, каковым я являюсь вот уже тридцать лет невзирая на разделяющее нас внушительное расстоянье. Я продолжаю с большим интересом читать любезно присланные вами статьи Лондонского фольклорного общества, хотя перевожу их медленно и, уверен, не без курьезных ошибок. Молю Господа о вашем здравии и уповаю, что мы еще не раз посмеемся вместе, как много лет тому назад, прежде чем Он заберет к себе наши души.
Всегда искренне ваш,
Генрих Гофман.
Лермонт отложил страницы и дрожащей рукой вытер уголок глаза.
Пропала. Опять.
Когда он был еще ребенком, отец, уходя на охоту с друзьями, позволил ему выгулять в лесу их гончую. Пес был еще молод, не обучен командам и так ретиво влек за собой юного Томаса сквозь заросли ольхи и утесника, будто задумал удавиться кожаным поводком. Томас давно умолял отца взять его с собой на охоту и столь же настойчиво выпрашивал собаку.
Однако минуло несколько часов – и он возненавидел зверя. Ненависть его мешалась с жалостью к глупому и беспомощному созданию, чья жизнь целиком зависела от неловкого, выбившегося из сил мальчишки. Лермонт помнил, как стоял на вершине холма – пес рвался с поводка, хрипел, что-то ужасно клокотало у него в горле, – а летнее солнце уже катилось к мерцающей внизу реке. Когда он наконец разжал пальцы и выпустил поводок, пес с радостным взвизгом скрылся в чаще. Лермонт испытал гадкое блаженство. Он понимал, что именно он обрек пса и на страшные муки, и на долгожданное избавление, и что отец, возвратившись с охоты, накажет его – ведь поводок обязательно зацепится за низкую ветвь или корень и задушит пса.
Он побежал вниз, чтобы догнать гончую, однако было поздно. Тявканье потонуло в сумеречных звуках – плеске реки, криках лесных горлиц и далекой музыке охоты. Томас нашел на берегу дуб, рухнул на мох у его подножья и стал дожидаться возвращения отца.
Сегодня, на постоялом дворе, Лермонтом вновь овладела та горячка, он ощутил то же бурление крови в жилах. Он представил, как бедный Гофман растерянно глядит на дымящиеся в его руках туфли, расхохотался и нащупал в заднем кармане брюк ножницы.
«Ты так юн», – сказала ему женщина у реки. Он заснул и в первые мгновения подумал, что это его мать, а потом вспомнил, что мать умерла. «Совсем юн», – удивленно повторила женщина, опустилась на колени и положила голову на колени Томасу, длинными тонкими пальцами расстегивая ему брюки.
Сгинула, нет ее, подумал он и принялся исступленно кромсать ножницами письмо Гофмана. У него под рукой в жестяном подсвечнике оплывала салом свеча; когда стол усыпали бумажные обрезки, он начал скармливать их пламени, по две-три полоски зараз.
В Уоллингем он приехал, надеясь повидать другого своего приятеля, поэта Суинберна, однако тот, как выяснилось, сам уехал в Лондон. Пепел ложился на стол; Лермонт резко провел рукой по столу, взметнув его в воздух. Потом занес руку над свечой и медленно опустил к самому пламени, так что оно опалило кожу, и продержал так несколько секунд. Запах горелой плоти наполнил комнату. Наконец Лермонт охнул и уронил руку на стол. Пламя дрогнуло, но не погасло: капля прозрачного жира стекла по свече на стол. Лермонт стал крутить рукой, осторожно поднимая рукав сорочки и обнажая сетку из прежних шрамов – красных, голубоватых, белоснежных. Одни были в форме лепестков, как тот, что сейчас расцвел на ладони, другие расходились веером, образовывая отпечаток руки.
Он найдет ее. Отправится в Лондон и продолжит поиски: опросит всех членов Фольклорного общества и городской Комиссии по делам душевнобольных.
Стоило этой мысли прийти ему в голову, как он понял, что она тоже туда отправится, пусть и будет держаться подальше от Бедлама. Она отыщет Суинберна или какого-нибудь бедолагу вроде него, набросится, как сова на полевку, а после вновь расправит крылья в поисках следующей жертвы. Она окажется там быстрее него и будет путешествовать инкогнито: медлить нельзя, надо выезжать сейчас же!
Лермонт опустил голову и лизнул ладонь: кожа под языком так и горела. Затем он вернул ножницы с длинными ручками в карман брюк, собрал немногочисленные вещи и отправился искать экипаж.
Минуло несколько недель. Наступил декабрь, ночи казались бесконечными, особенно на севере Лондона. В узком переулке стоял, пьяно покачиваясь, поэт Суинберн.
– Ала, ала кровь! – пропел он вслух и засмеялся.
Вечером он побывал на встрече Клуба каннибалов в «Бартолини», где пили за сосланного в Триест Ричарда Бертона, и Суинберну пришлось зажать нос, чтобы не задохнуться от смеха над грубой шуткой, которую они сыграли с официантом. После ужина ему вздумалось прогуляться одному – он любил гулять, – и спустя несколько часов блужданий по лабиринту улиц, отделявших ислингтонскую армию конторских служащих в черных сюртуках от контор в Сити, он очутился здесь.
Поэт шагал и твердил себе под нос:
– Нет гаже ничего кругом, / Чем то, что пишем и чем срем. / На вонь плевать: свою елду / Суем что в жопу, что в манду. В любой…
Конторские служащие с наступлением темноты разбежались по тесным безотрадным улочкам, оглашаемым криками младенцев и неумолчным надсадным кашлем лондонской бедноты. Желто-зеленая ночная дымка несла склепную вонь великой реки, пролегавшей в двух милях к югу. С Хайбери-филдс долетали детские визги и музыка паровой ярмарочной карусели. Суинберн бубнил стихи и шагал, неистово размахивая руками, и порой с веселым или смятенным криком выписывал причудливые пируэты в попытке разминуться со встречными. Время от времени он извлекал из-за пазухи серебряную флягу с бренди – доставшуюся ему, кстати, от Бертона, – и отвинтив крышку, сперва помахивал ею перед носом, словно букетиком цветов, аромат которых мог бы перебить вездесущую вонь жареной рыбы, затем делал глоток и продолжал свой нетвердый путь сквозь зимний сумрак.
Он был невелик ростом, а рыжие волосы уже начали седеть от пьянства. Из-за малого роста и мелких черт лица его можно было легко принять за рядовую солдатку легиона женщин – прачек, проституток, девиц, – перепутавших понедельник с воскресеньем и предававшихся по этому случаю такому безудержному пьянству, что ему не раз приходилось перешагивать через их распростертые на дороге тела, вывалянные в грязи, с вывернутыми наружу нижними юбками, провонявшими рвотой и спермой.
– …в любой грязи, в любом дерьме / Найдется нам, что отыме…
Он визгливо хихикнул, увидев впереди болтающуюся на ветру вывеску кабака. На доске были изображены две руки, в каждой по стакану, над фонтаном белой пены.
МЫШЦЫ ВЕЧНЫЕ[4 - «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках; прибежище твое – Бог древний, и ты под мышцами вечными». (Втор.33: 26–27).]
Кладезь Св. Друстана
– В бога и богородицу! – напевно выругался Суинберн, затем умолк.
Под вывеской стояла женщина. На ней была тяжелая шерстяная накидка поверх строгого черного платья, потрепанного, но из хорошей материи, – платья экономки. На голове ни шляпки, ни косынки; волосы собраны в тугой пучок над высоким гладким лбом. Когда Суинберн подошел ближе, незнакомка не отвернулась, а, напротив, подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза.
– Медуза! – возопил Суинберн, прижав ладони к щекам. – Свинолебедь! Ах, чтоб меня! Бедняжка!
Женщине полностью разъело нижнюю челюсть, а на месте подбородка торчала шпора из оголенной, черной, мягкой с виду кости, похожая на обугленную деревяшку. Однако взгляд льдисто-голубых глаз незнакомки в тусклом свете кабацких окон казался лукавым и насмешливым, а говорила она ласково и подобострастно.
– Меня за вами прислала госпожа, сэр.
– Госпожа? Хороша! – Суинберн потуже запахнул плащ и уставился на женщину. – Фосфорный некроз? Ах, фу-ты ну-ты! Бедняжка Фосси!
Он потянулся было за монетой – человек он был добрый, особенно в подпитии, – однако незнакомка покачала головой и схватила его за запястье. Поэт тотчас отдернул руку. Женщина засмеялась.
– Не надо денег, сэр… Ступайте за мной!
Руки она спрятала под плащ; он заметил, что она без перчаток, зато от его внимания ускользнуло, что ее ногти светятся голубым, как язычки газового пламени.
– За вами? – переспросил он.
– Да.
Она склонила голову набок, показывая ему свое изувеченное лицо. Суинберн сглотнул ком в горле, подумав, какую чудовищную боль ей приходится терпеть, ощутил мимолетный проблеск влечения и молча кивнул. Женщина вышла на улицу. Быстро оглянувшись, она поспешила в проулок – такой узкий, что выступавшие с обеих сторон свесы крыш встречались и полностью загораживали сумеречное небо.
Суинберн пошел следом, слыша впереди эхо ее шагов. Проулок петлял, с каждым изгибом становясь все темнее и уже. Булыжники мостовой сменились гравием, затем утрамбованной землей и, наконец, кашей из грязи и жухлой травы, от которой несло выгребной ямой. Суинберн очутился в тоннеле, по которому некогда бежал закованный в деревянные трубы канал Нью-Ривер; теперь от акведука остался лишь деревянный остов-скелет да истлевшие пучки водорослей. Незнакомка, шагавшая чуть впереди, вдруг остановилась.
– Я доложу ей, что вы пришли, – сказала она, развернулась и исчезла в темном проходе.
– Т-твою мать! – Поэт всплеснул руками, чертыхаясь и смеясь. – Фосси меня околпачила! Вернись, родная…
Он уже потянулся за флягой, как вдруг различил впереди шаги.
– Я покажу вам дорогу, – раздался тихий голос.
Поэт поднял голову. В проходе стоял человек с фонарем.