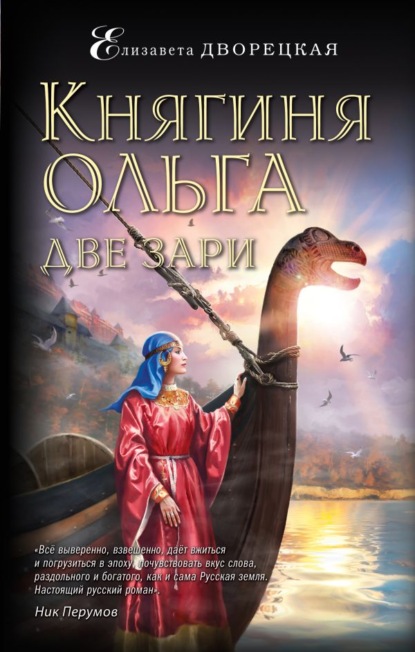По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Княгиня Ольга. Две зари
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рану промыли – тот старший заварил каких-то трав из своих запасов, перевязали снова. Тем временем подошли еще несколько русов – судя по тому, как живо расступались перед ними прочие, это тоже были бояре. От простых их отличала более уверенная повадка, мечи с серебряными рукоятями, висевшие на плечевых ремнях, пояса в серебряных бляшках. У одного из-под свиты виднелся светло-синий кафтан с нашитой полосой узорного красно-розового шелка, остальные были одеты в некрашеную вотолу, как и их отроки.
– Чего с ним? – со смесью беспокойства и любопытства заговорил один и тут же схватился за собственные глаза: – Ой, йо-о-тунова рать…
– Это кто же его? – заговорили другие.
Им стали рассказывать о битве в Драговиже, они подходили посмотреть, обращались к раненому с какими-то словами, но он не отвечал. Потом отошли ближе к двери, встали тесным кружком – с ними был и светловолосый, – стали что-то обсуждать. Отроки несколько раз обращались к нему по имени, но оно было какое-то варяжское, непонятное, и Обещана его не могла ни расслышать толком, ни запомнить.
Бояре ушли, и светловолосый удалился с ними, велев перед этим:
– Следите, не будет ли огневицы.
Несколько отроков остались в избе. Про Обещану, похоже, забыли, и она села на лавку, стараясь поменьше шевелиться. Отроки принесли откуда-то со двора кашу в мисках, один съел половину, потом отдал миску Обещане: обтер ложку о подол сорочки и вручил с ловким поклоном, дескать, вежеству учены. Обещана чуть слышно поблагодарила. Сперва ей казалось диким делить с ними пищу, да еще и есть невесть с каким парнем из одной миски и одной ложкой – совсем недавно она так ела с Домушкой, за их свадебным столом… Вспомнив мужа, она едва не заплакала.
– Да ешь, не бойся! – подбодрил ее тот парень, что дал ложку. – Не отравим, я же сам ел.
– А он хоть и страшный, да не ядовитый! – засмеялся тот молодой верзила.
Веселье прервал стон с лавки.
– Тише вы! – крикнул третий отрок, самый старший. Его звали Озорь. – Растявкались…
Те и сами мигом унялись и вскочили; верзила подошел к Унераду и склонился над ним.
Обещана тоже подошла. С повязкой, закрывавшей оба глаза, раненый казался ей страшным, как мертвец – ведь мертвецы среди живых слепы. Лицо его раскраснелось, лоб блестел от пота.
– Дай чего-нибудь… – Верзила оглянулся.
Обещана намочила в кадке ветошку и подала, тот вытер лежащему лоб.
– Боярин, ты как сам? – боязливо спросил верзила.
Но Унерад не ответил. Чуть позже издал глухой стон.
– Без памяти, – шепнул другой отрок, хотя чего было шептать: Унерад их не слышал.
– Пойду Стенара поищу, – верзила взял с лавки свою шапку.
Обещана взяла ветошку и еще раз обтерла раненому лоб. Неприязнь в ней соперничала с состраданием. Не сразу она решилась к нему прикоснуться: киевский боярин-рус казался ей существом иной породы. Но теперь, когда с него был снят железный доспех и яркая одежда, в простой белой сорочке он ничем не отличался от обычных молодцев. Всего года на три-четыре постарше Домушки, отметила Обещана, украдкой его разглядывая. Судя по имени, отец его – варяг, а мать – славянка, думала она, не знавшая киевских родов. Но спросить не решалась.
Вскоре отрок вернулся и привел с собой того светловолосого, который теперь остался за главного. При его появлении Обещана вскочила и отодвинулась подальше от лучины, в темноту. Светловолосый встал перед лавкой, засунув пальцы за пояс, и воззрился на раненого. Обещана тайком разглядывала его. Внешность у него была более чем примечательная: не красавец и не урод, он не внушал ни восхищения, ни отвращения, но каждая мелочь его облика казалась Обещане настолько яркой и притом чуждой, что пробирала дрожь. Лет тридцати, чуть выше среднего роста, с очень широкими и мускулистыми покатыми плечами, он производил впечатление человека сильного и очень хорошо владеющего своим телом. Этому впечатлению не мешало даже то, что у него не сгибалась левая нога – Обещана заметила это, когда увидела его не в седле. Благодаря этому казалось, что все бесчисленные оставшиеся за спиной битвы до сих пор с ним – волочатся сзади, держась за покалеченную ногу. Он имел продолговатое лицо с крупными чертами, нижняя часть которого была укрыта в густую светлую бороду. Длинный, не раз сломанный нос с горбинкой очертаниями напоминал горный хребет и тоже наводил на мысль о множестве схваток. Русые брови неодинаковые – у левой излом круче, видно, из-за давнего шрама, но сам шрам нельзя было разглядеть в полутьме. Глаза небольшие, узкие, глубоко посаженные. Весь облик русина был летописью жизни, состоящей из одних походов, размеченной ими, как у простых людей течение жизни размечают сев и жатва. Смотрел он всякому в лицо прямо, но как бы исподлобья, взгляд был твердый и притом невыразительный, как у зверя.
– Так и я думал… – пробурчал светловолосый. – Будишка! – Он перевел взгляд на верзилу, своего оружничего. – Найди в коробе брусничный лист, завари ему, и давайте пить. Сидите с ним по очереди, а прочие, – он оторвал взгляд от лежащего и обвел притихших отроков, – спать.
Обещана глянула на совершенно темное оконце и осознала: да ведь уже глубокая ночь!
Варяг вышел, вслед за ним убрался и Будишка. Вскоре отрок вернулся, волоча большой потрепанный короб. Поставил под лучинами, откинул плетенную из бересты крышку, и в избе повеяло пряным запахом от смеси сухих трав. У Обещаны сердце затрепетало – таким родным показался этот запах. Невольно она встала – так и потянуло, будто мать, или бабка Поздына, или Медвяна, отцова сестра и лучшая в волости зелейница, заглянули в эту мрачную избу.
– Ты же в зельях понимаешь? – Будишка поднял к ней лицо, держа в каждой руке по холщовому мешку. – Сыщи, где тут лист брусничный!
Обещана опустилась на пол возле короба и принялась разбирать мешки. Будиша бросился к печи, но там уже грелась вода в горшке: Обещана поставила ее, как только услышала про брусничный лист. Иные мешочки она развязывала, иные только встряхивала и по резкому запаху с ходу определяла, где что. Уж сколько раз, чуть ли не с тех пор как она научилась ходить, Медвяна водила ее с собой в лес – и весной, едва оживут в стволах соки, и летом, на Купалии, когда все зелья входят в волшебную силу, и осенью, когда зеленые дети матери-земли накапливают свои незримые сокровища, готовясь к зиме. Учила, на какой луне что брать, как сушить, как хранить, как заваривать. От этих чужих мешков, сшитых чужим, непривычным швом, на Обещану веяло домом.
– Это гусиная трава, тоже пригодится, – бормотала она, откладывая мешок. – Она раны заживляет, жар унимает, боль прогоняет. Ивы кора… – Она помяла ее через ткань, развязала мешок, повертела в руках полоски сухой коры. – Негодная она, высушена плохо. Да ее настаивать долго, до свету не будет готово. Грушанка… тоже от огневицы полезно.
При помощи Будиши Обещана заварила зелье и поставила близ устья печи настаиваться. Отроки тем временем устроили себе лежанки: кто на лавках, кто на полу, на мешках.
– Ты давай, вот здесь ложись. – Стрёма, второй отрок, что угостил ее кашей, положил на пол возле лавки два-три мешка со шкурками, привезенные из Драговижа. – Чтобы возле него… – он кивнул на боярина, – если чего…
Третий отрок, Озорь, молча бросил на мешки свернутый плащ из толстой бурой вотолы. Он был заметно старше двух других: средних лет, зрелый мужчина, но сколько ему, тридцать или все сорок, определить не удавалось. Лицо у него было худое, костистое, а складка рта, изгиб бровей, но особенно взгляд, напряженный и притом рассеянный, наводили на мысль, что он полоумный. Будто Озорь когда-то был неприятно изумлен, да так и не сумел опомниться.
При помощи Будиши Обещана кое-как напоила Унерада отваром, снова умыла, укрыла. Но жар у него поднимался, он горел и ничего не осознавал.
– Ты спи. Я посижу, – сказал Будиша и сел на край лавки, возле головы Унерада.
Обещана огляделась: не раздеваться же здесь, в чужом доме, среди чужих отроков! Так и легла в запаске[12 - Запаска – еще один вид архаичной набедренной одежды, которая состоит из двух полотнищ, надеваемых одно спереди, другое сзади.] и вершнике, только намитку размотала и сняла украшения молодухи с головы, оставшись в повое. Накрылась чужой вотолой, с чужим запахом. Глубоко вздохнула. Как ни мало у нее было надежд на мирный отдых, а все же она ощутила облегчение: слишком она устала, измучилась, и возможность преклонить голову уже была благом.
Несмотря на усталость, спала Обещана плохо. Ей казалось, что она вовсе не спит, а постоянно видит огонь лучин, движение теней, слышит шепот, разговоры по-славянски и по-варяжски. Ни одна еще зимняя ночь не тянулась так долго. В неведомом месте, среди незнакомых недружелюбных мужчин, рядом со стонущим раненым, Обещана чувствовала себя так близко к гибели, что, мерещилось, она может растаять в полутьме сама собой. От мрака, тревоги, бесприютности и неизвестности душила смертная тоска. Все кругом было чужое – люди, стены, каждая мелочь, и эта чуждость резала душу холодным ножом. Наверное, так себя чувствуешь, когда умираешь и сорок дней идешь через неведомые дали до обиталища дедов – не видя вокруг ничего привычного и зная, что все изменилось безвозвратно, навсегда.
Но даже заплакать не получалось: кто увидит ее слезы, кто прислушается к жалобам? Впервые в жизни Обещана чувствовала такое безнадежное одиночество – никого своих вокруг, никого, кто был бы с нею связан! Даже беднягу Миляту увели куда-то в другое место, и уже казалось, что расстались они год назад.
Пришел светловолосый – теперь она вдруг вспомнила его имя, Стенар, и ее что-то толкнуло встать, но на нее никто не обращал внимания, и она притворилась спящей. Стенар осмотрел Унерада, поговорил со Стрёмой – был его черед сидеть с раненым, – потом лег на Стрёмино место, как на свое, и мигом заснул. Тогда и Обещана, прислушиваясь к его тихому сопению, наконец заснула как следует…
И сразу увидела сон – такой удивительно уместный, что уж верно боги для нее припасли. Как будто стоит она в лесу, кругом снег, а перед нею – та самая избушка на курьих ножках, небольшая, будто ларь для дров. И Обещане нужно в нее лезть. А лаз маленький, как для собаки, полезешь – застрянешь. Но делать нечего – надо. И прямо там, во сне, Обещана точно знала, что происходит: ей нужно преодолеть границу между этим светом и тем, которая через эту самую избушку проходит. Но где она и куда ей надо попасть? Она жива, но ей черед умирать? Или она уже умерла и пришло время родиться заново?
И вот суется она в лаз и начинает протискиваться. Еле-еле идет, изо всех сил упирается. Потом опять видит свет и лесенку. Идет на лесенку – а ее там ждет огромный пес, как говорится, с теленка, серо-бурый и лохматый. И будто бы обнимает она этого пса обеими руками, потом смотрит – а у нее в руках уже человек, парень вроде молодой. Она поднимает голову, хочет лицо увидеть…
Вокруг нее тьма с огнями лучин и движение. Внезапно очнувшись, Обещана не сразу поняла, что это уже не сон. Потом вспомнила: она в Горинце, а вокруг – киевская дружина. Показалось, что проспала она лишь несколько ударов сердца. Но все здешние уже были на ногах: Стенар был одет, Будиша помогал ему натянуть кольчугу, еще какой-то отрок, незнакомый, держал шлем и щит.
Русы уехали – невесть куда. Обещана, вдвоем с Озорем оставшись на хозяйстве, чувствовала себя, как та девушка из сказки, что попала в лесную избу к Железной Бабе: та сама в ступе своей уносится на раздобытки, а гостье оставляет разные наказы. За полдень Обещана решилась поменять раненому повязку – от ветошки на глазу уже пованивало. Сделала свежий отвар брусничного листа и змеиного корня. Озорь привел еще какого-то руса, и те вдвоем держали раненого, чтобы не мешал Обещане снимать повязку и промывать рану. Из раны с кровью вытекал гной, Обещана кусала губы, но старалась не морщиться.
– Помрет… – шепнул второй русин. – Воспалилась рана – карачун боярину.
Обещана не оглянулась, но от волнения сильнее прикусила губу. Смерть Унерада не обещала гориничам ничего хорошего. А что, если русы затеют разбираться, кто выпустил ту стрелу? И что, если обнаружат вину Домушки? Но если и не обнаружат – это же убийство киевского боярина, и убили в Драговиже… Если всему Драговижу придется держать ответ, тоже хорошего мало.
* * *
Дружина вернулась почти еще засветло. Услышав шум движения во дворе, Обещана вышла, накинув кожух на плечи; она и боялась возможных новостей, и жаждала узнать хоть что-нибудь. Но еще пока она вглядывалась в толпу, выискивая кого-то знакомого, ее вдруг схватили за руки. Она ахнула, обернулась… и пошатнулась от нового изумления.
Перед ней стоял ее отец, Воюн. Никогда Обещана не видела родного батюшку таким потрясенным, потерянным – лица не было на нем.
– Деточка моя! – хрипло выдохнул Воюн, торопливо обнимая ее. – Ты жива!
– Батюшка! Ты ли это?
Обещана прижалась к нему, вдохнула от плеча отцовой свиты запах родной избы… И будто проснулась: поняла, что это не сон, не морок, не баснь и не сказание. Все ужасы случились взаправду, а что впереди – еще того хуже. И тут она заплакала навзрыд – изумление и растерянность сменились отчетливым страхом перед грозным будущим. Отец сжимал ее в объятиях, но не властен был удержать – воля чужаков, хозяев этого места, могла каждый миг расшвырять их по разным концам света.
– Бедняжечка ты моя горькая… – Воюн гладил Обещану по вздрагивающим плечам. – Вот выпала тебе судьба-недолюшка! Видно, худо мы с матерью богов молили, чуров славили – недолго тебе дали посидеть в золотом витом гнездушке! Темной ноченькой такого горюшка не приснилося, середи бела дня не привиделося!
Под это привычное бормотание знакомого доброго голоса, ощущая ласковое поглаживание знакомой руки и родной с детства запах, Обещана лила слезы, будто река в половодье. Но со слезами выходили горе и страх, на сердце делалось легче: отцовский приговор снимал с нее чужие чары, возвращал в свое гнездо.
– Чего с ним? – со смесью беспокойства и любопытства заговорил один и тут же схватился за собственные глаза: – Ой, йо-о-тунова рать…
– Это кто же его? – заговорили другие.
Им стали рассказывать о битве в Драговиже, они подходили посмотреть, обращались к раненому с какими-то словами, но он не отвечал. Потом отошли ближе к двери, встали тесным кружком – с ними был и светловолосый, – стали что-то обсуждать. Отроки несколько раз обращались к нему по имени, но оно было какое-то варяжское, непонятное, и Обещана его не могла ни расслышать толком, ни запомнить.
Бояре ушли, и светловолосый удалился с ними, велев перед этим:
– Следите, не будет ли огневицы.
Несколько отроков остались в избе. Про Обещану, похоже, забыли, и она села на лавку, стараясь поменьше шевелиться. Отроки принесли откуда-то со двора кашу в мисках, один съел половину, потом отдал миску Обещане: обтер ложку о подол сорочки и вручил с ловким поклоном, дескать, вежеству учены. Обещана чуть слышно поблагодарила. Сперва ей казалось диким делить с ними пищу, да еще и есть невесть с каким парнем из одной миски и одной ложкой – совсем недавно она так ела с Домушкой, за их свадебным столом… Вспомнив мужа, она едва не заплакала.
– Да ешь, не бойся! – подбодрил ее тот парень, что дал ложку. – Не отравим, я же сам ел.
– А он хоть и страшный, да не ядовитый! – засмеялся тот молодой верзила.
Веселье прервал стон с лавки.
– Тише вы! – крикнул третий отрок, самый старший. Его звали Озорь. – Растявкались…
Те и сами мигом унялись и вскочили; верзила подошел к Унераду и склонился над ним.
Обещана тоже подошла. С повязкой, закрывавшей оба глаза, раненый казался ей страшным, как мертвец – ведь мертвецы среди живых слепы. Лицо его раскраснелось, лоб блестел от пота.
– Дай чего-нибудь… – Верзила оглянулся.
Обещана намочила в кадке ветошку и подала, тот вытер лежащему лоб.
– Боярин, ты как сам? – боязливо спросил верзила.
Но Унерад не ответил. Чуть позже издал глухой стон.
– Без памяти, – шепнул другой отрок, хотя чего было шептать: Унерад их не слышал.
– Пойду Стенара поищу, – верзила взял с лавки свою шапку.
Обещана взяла ветошку и еще раз обтерла раненому лоб. Неприязнь в ней соперничала с состраданием. Не сразу она решилась к нему прикоснуться: киевский боярин-рус казался ей существом иной породы. Но теперь, когда с него был снят железный доспех и яркая одежда, в простой белой сорочке он ничем не отличался от обычных молодцев. Всего года на три-четыре постарше Домушки, отметила Обещана, украдкой его разглядывая. Судя по имени, отец его – варяг, а мать – славянка, думала она, не знавшая киевских родов. Но спросить не решалась.
Вскоре отрок вернулся и привел с собой того светловолосого, который теперь остался за главного. При его появлении Обещана вскочила и отодвинулась подальше от лучины, в темноту. Светловолосый встал перед лавкой, засунув пальцы за пояс, и воззрился на раненого. Обещана тайком разглядывала его. Внешность у него была более чем примечательная: не красавец и не урод, он не внушал ни восхищения, ни отвращения, но каждая мелочь его облика казалась Обещане настолько яркой и притом чуждой, что пробирала дрожь. Лет тридцати, чуть выше среднего роста, с очень широкими и мускулистыми покатыми плечами, он производил впечатление человека сильного и очень хорошо владеющего своим телом. Этому впечатлению не мешало даже то, что у него не сгибалась левая нога – Обещана заметила это, когда увидела его не в седле. Благодаря этому казалось, что все бесчисленные оставшиеся за спиной битвы до сих пор с ним – волочатся сзади, держась за покалеченную ногу. Он имел продолговатое лицо с крупными чертами, нижняя часть которого была укрыта в густую светлую бороду. Длинный, не раз сломанный нос с горбинкой очертаниями напоминал горный хребет и тоже наводил на мысль о множестве схваток. Русые брови неодинаковые – у левой излом круче, видно, из-за давнего шрама, но сам шрам нельзя было разглядеть в полутьме. Глаза небольшие, узкие, глубоко посаженные. Весь облик русина был летописью жизни, состоящей из одних походов, размеченной ими, как у простых людей течение жизни размечают сев и жатва. Смотрел он всякому в лицо прямо, но как бы исподлобья, взгляд был твердый и притом невыразительный, как у зверя.
– Так и я думал… – пробурчал светловолосый. – Будишка! – Он перевел взгляд на верзилу, своего оружничего. – Найди в коробе брусничный лист, завари ему, и давайте пить. Сидите с ним по очереди, а прочие, – он оторвал взгляд от лежащего и обвел притихших отроков, – спать.
Обещана глянула на совершенно темное оконце и осознала: да ведь уже глубокая ночь!
Варяг вышел, вслед за ним убрался и Будишка. Вскоре отрок вернулся, волоча большой потрепанный короб. Поставил под лучинами, откинул плетенную из бересты крышку, и в избе повеяло пряным запахом от смеси сухих трав. У Обещаны сердце затрепетало – таким родным показался этот запах. Невольно она встала – так и потянуло, будто мать, или бабка Поздына, или Медвяна, отцова сестра и лучшая в волости зелейница, заглянули в эту мрачную избу.
– Ты же в зельях понимаешь? – Будишка поднял к ней лицо, держа в каждой руке по холщовому мешку. – Сыщи, где тут лист брусничный!
Обещана опустилась на пол возле короба и принялась разбирать мешки. Будиша бросился к печи, но там уже грелась вода в горшке: Обещана поставила ее, как только услышала про брусничный лист. Иные мешочки она развязывала, иные только встряхивала и по резкому запаху с ходу определяла, где что. Уж сколько раз, чуть ли не с тех пор как она научилась ходить, Медвяна водила ее с собой в лес – и весной, едва оживут в стволах соки, и летом, на Купалии, когда все зелья входят в волшебную силу, и осенью, когда зеленые дети матери-земли накапливают свои незримые сокровища, готовясь к зиме. Учила, на какой луне что брать, как сушить, как хранить, как заваривать. От этих чужих мешков, сшитых чужим, непривычным швом, на Обещану веяло домом.
– Это гусиная трава, тоже пригодится, – бормотала она, откладывая мешок. – Она раны заживляет, жар унимает, боль прогоняет. Ивы кора… – Она помяла ее через ткань, развязала мешок, повертела в руках полоски сухой коры. – Негодная она, высушена плохо. Да ее настаивать долго, до свету не будет готово. Грушанка… тоже от огневицы полезно.
При помощи Будиши Обещана заварила зелье и поставила близ устья печи настаиваться. Отроки тем временем устроили себе лежанки: кто на лавках, кто на полу, на мешках.
– Ты давай, вот здесь ложись. – Стрёма, второй отрок, что угостил ее кашей, положил на пол возле лавки два-три мешка со шкурками, привезенные из Драговижа. – Чтобы возле него… – он кивнул на боярина, – если чего…
Третий отрок, Озорь, молча бросил на мешки свернутый плащ из толстой бурой вотолы. Он был заметно старше двух других: средних лет, зрелый мужчина, но сколько ему, тридцать или все сорок, определить не удавалось. Лицо у него было худое, костистое, а складка рта, изгиб бровей, но особенно взгляд, напряженный и притом рассеянный, наводили на мысль, что он полоумный. Будто Озорь когда-то был неприятно изумлен, да так и не сумел опомниться.
При помощи Будиши Обещана кое-как напоила Унерада отваром, снова умыла, укрыла. Но жар у него поднимался, он горел и ничего не осознавал.
– Ты спи. Я посижу, – сказал Будиша и сел на край лавки, возле головы Унерада.
Обещана огляделась: не раздеваться же здесь, в чужом доме, среди чужих отроков! Так и легла в запаске[12 - Запаска – еще один вид архаичной набедренной одежды, которая состоит из двух полотнищ, надеваемых одно спереди, другое сзади.] и вершнике, только намитку размотала и сняла украшения молодухи с головы, оставшись в повое. Накрылась чужой вотолой, с чужим запахом. Глубоко вздохнула. Как ни мало у нее было надежд на мирный отдых, а все же она ощутила облегчение: слишком она устала, измучилась, и возможность преклонить голову уже была благом.
Несмотря на усталость, спала Обещана плохо. Ей казалось, что она вовсе не спит, а постоянно видит огонь лучин, движение теней, слышит шепот, разговоры по-славянски и по-варяжски. Ни одна еще зимняя ночь не тянулась так долго. В неведомом месте, среди незнакомых недружелюбных мужчин, рядом со стонущим раненым, Обещана чувствовала себя так близко к гибели, что, мерещилось, она может растаять в полутьме сама собой. От мрака, тревоги, бесприютности и неизвестности душила смертная тоска. Все кругом было чужое – люди, стены, каждая мелочь, и эта чуждость резала душу холодным ножом. Наверное, так себя чувствуешь, когда умираешь и сорок дней идешь через неведомые дали до обиталища дедов – не видя вокруг ничего привычного и зная, что все изменилось безвозвратно, навсегда.
Но даже заплакать не получалось: кто увидит ее слезы, кто прислушается к жалобам? Впервые в жизни Обещана чувствовала такое безнадежное одиночество – никого своих вокруг, никого, кто был бы с нею связан! Даже беднягу Миляту увели куда-то в другое место, и уже казалось, что расстались они год назад.
Пришел светловолосый – теперь она вдруг вспомнила его имя, Стенар, и ее что-то толкнуло встать, но на нее никто не обращал внимания, и она притворилась спящей. Стенар осмотрел Унерада, поговорил со Стрёмой – был его черед сидеть с раненым, – потом лег на Стрёмино место, как на свое, и мигом заснул. Тогда и Обещана, прислушиваясь к его тихому сопению, наконец заснула как следует…
И сразу увидела сон – такой удивительно уместный, что уж верно боги для нее припасли. Как будто стоит она в лесу, кругом снег, а перед нею – та самая избушка на курьих ножках, небольшая, будто ларь для дров. И Обещане нужно в нее лезть. А лаз маленький, как для собаки, полезешь – застрянешь. Но делать нечего – надо. И прямо там, во сне, Обещана точно знала, что происходит: ей нужно преодолеть границу между этим светом и тем, которая через эту самую избушку проходит. Но где она и куда ей надо попасть? Она жива, но ей черед умирать? Или она уже умерла и пришло время родиться заново?
И вот суется она в лаз и начинает протискиваться. Еле-еле идет, изо всех сил упирается. Потом опять видит свет и лесенку. Идет на лесенку – а ее там ждет огромный пес, как говорится, с теленка, серо-бурый и лохматый. И будто бы обнимает она этого пса обеими руками, потом смотрит – а у нее в руках уже человек, парень вроде молодой. Она поднимает голову, хочет лицо увидеть…
Вокруг нее тьма с огнями лучин и движение. Внезапно очнувшись, Обещана не сразу поняла, что это уже не сон. Потом вспомнила: она в Горинце, а вокруг – киевская дружина. Показалось, что проспала она лишь несколько ударов сердца. Но все здешние уже были на ногах: Стенар был одет, Будиша помогал ему натянуть кольчугу, еще какой-то отрок, незнакомый, держал шлем и щит.
Русы уехали – невесть куда. Обещана, вдвоем с Озорем оставшись на хозяйстве, чувствовала себя, как та девушка из сказки, что попала в лесную избу к Железной Бабе: та сама в ступе своей уносится на раздобытки, а гостье оставляет разные наказы. За полдень Обещана решилась поменять раненому повязку – от ветошки на глазу уже пованивало. Сделала свежий отвар брусничного листа и змеиного корня. Озорь привел еще какого-то руса, и те вдвоем держали раненого, чтобы не мешал Обещане снимать повязку и промывать рану. Из раны с кровью вытекал гной, Обещана кусала губы, но старалась не морщиться.
– Помрет… – шепнул второй русин. – Воспалилась рана – карачун боярину.
Обещана не оглянулась, но от волнения сильнее прикусила губу. Смерть Унерада не обещала гориничам ничего хорошего. А что, если русы затеют разбираться, кто выпустил ту стрелу? И что, если обнаружат вину Домушки? Но если и не обнаружат – это же убийство киевского боярина, и убили в Драговиже… Если всему Драговижу придется держать ответ, тоже хорошего мало.
* * *
Дружина вернулась почти еще засветло. Услышав шум движения во дворе, Обещана вышла, накинув кожух на плечи; она и боялась возможных новостей, и жаждала узнать хоть что-нибудь. Но еще пока она вглядывалась в толпу, выискивая кого-то знакомого, ее вдруг схватили за руки. Она ахнула, обернулась… и пошатнулась от нового изумления.
Перед ней стоял ее отец, Воюн. Никогда Обещана не видела родного батюшку таким потрясенным, потерянным – лица не было на нем.
– Деточка моя! – хрипло выдохнул Воюн, торопливо обнимая ее. – Ты жива!
– Батюшка! Ты ли это?
Обещана прижалась к нему, вдохнула от плеча отцовой свиты запах родной избы… И будто проснулась: поняла, что это не сон, не морок, не баснь и не сказание. Все ужасы случились взаправду, а что впереди – еще того хуже. И тут она заплакала навзрыд – изумление и растерянность сменились отчетливым страхом перед грозным будущим. Отец сжимал ее в объятиях, но не властен был удержать – воля чужаков, хозяев этого места, могла каждый миг расшвырять их по разным концам света.
– Бедняжечка ты моя горькая… – Воюн гладил Обещану по вздрагивающим плечам. – Вот выпала тебе судьба-недолюшка! Видно, худо мы с матерью богов молили, чуров славили – недолго тебе дали посидеть в золотом витом гнездушке! Темной ноченькой такого горюшка не приснилося, середи бела дня не привиделося!
Под это привычное бормотание знакомого доброго голоса, ощущая ласковое поглаживание знакомой руки и родной с детства запах, Обещана лила слезы, будто река в половодье. Но со слезами выходили горе и страх, на сердце делалось легче: отцовский приговор снимал с нее чужие чары, возвращал в свое гнездо.