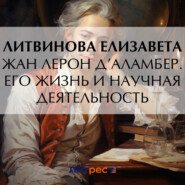По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Н. И. Лобачевский. Его жизнь и научная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из первых учителей Лобачевского в гимназии и университете особого внимания заслуживает Карташевский. Этот человек страстно любил свой предмет. Он с таким жаром отдался университетскому преподаванию, что отказался от деятельности учителя гимназии, чего, желая сохранить лишний оклад, не сделали его товарищи.
Карташевский отличался многосторонним общим образованием и прекрасно развитым эстетическим вкусом. В то же время это был человек смелый и независимый. Его влиянием и знаниями воспользовался Лобачевский как нельзя лучше еще в гимназии. Аксаков говорит, что Карташевский принадлежал к числу людей, вся жизнь которых есть строгое проявление редкой нравственной высоты.
Университетский курс был в то время самым неопределенным. По ведомостям, ежемесячно представлявшимся профессорами и адъюнктами в совет гимназии, можно видеть, с одной стороны, что университетский курс мало чем отличался от гимназического и представлял как бы повторение этого последнего; но, с другой стороны, там читались и такие предметы, о которых в гимназии не могло быть и речи, только все это в очень сокращенном виде. Так, в 1805 году профессор Яковкин, с марта до июня, прочел всю русскую историю и часть статистики; адъюнкт Карташевский со студентами, назначенными слушать чистую математику, в августе повторял алгебру, лонгиметрию и окончил планиметрию; адъюнкт Запольский только в июне прочел теорию оптических инструментов, а потом и практику, да сверх того преподавал физическую астрономию, электричество и магнетизм. Вообще же этот курс был действительно дополнением и повторением гимназического курса, и это замечание более всего относится к математическому факультету. Этим объясняется то, по-видимому, странное обстоятельство, что мы не находим имени Лобачевского между студентами, записавшимися на слушание математики. Лобачевский, поступив в университет в 1807 году, сначала с большим успехом занимался в то время другими предметами не потому, что его призвание тогда еще не определилось, а по той простой причине, что математический курс в то время не представлял для него ничего нового. Яковкин замечал, что Лобачевский «приметно приготовлял» себя к занятиям медициной. Влечение к математике явилось у будущего геометра только после приезда иностранных профессоров.
Румовский по своей старости и слабости не мог вообще многого сделать для Казанского университета, но он был хорошим математиком и позаботился об устройстве физико-математического факультета; вскоре учителей Казанской гимназии сменили профессора, пользовавшиеся известностью в Европе: Бартельс – профессор чистой математики, Реннер – прикладной математики, Литтров – профессор астрономии и Броннер – физики. Такой состав профессоров можно назвать блестящим. Всем этим счастливым обстоятельствам Лобачевский обязан полным развитием своих способностей. Бартельс, Литтров и Броннер обратили на него свое особенное внимание. Помимо официальных лекций в аудитории, Бартельс занимался на дому с Лобачевским теорией чисел Гаусса; Литтров – объяснением первого тома «Небесной механики» Лапласа; Броннер же много содействовал установлению общих философских взглядов Лобачевского и развитию его педагогических способностей. Под руководством этих профессоров Лобачевский делал быстрые успехи, о которых они постоянно заявляли в педагогических советах.
Лобачевский в молодости отличался чрезвычайно живым и веселым характером; он всегда участвовал в студенческих пирушках, всегда готов был помогать товарищам в какой-нибудь задуманной шалости; одним словом, он всегда был душой студенческого кружка. Сам характер этих шалостей характеризует тогдашних студентов. Лобачевский, как и многие из его товарищей казенных студентов, любил заниматься пиротехникой. Однажды Лобачевский сделал ракету и вместе с другими пустил ее в одиннадцать часов вечера на университетском дворе. За это и за то, «что учинил непризнание, упорствуя в нем, подверг наказанию многих совершенно сему непричастных», – был посажен в карцер по распоряжению совета. В другой раз, будучи уже камерным студентом, или помощником инспектора казенных студентов, Лобачевский был замечен в соучастии и потачке грубости и ослушанию студентов. За это он получил публичный выговор от инспектора, был лишен звания камерного студента и шестидесяти рублей, которые были ему только что назначены за успехи в науках на книги и учебные пособия. Все это происходило на святках 1810 года. В январе Лобачевский оказался самого худого поведения; несмотря на приказание начальства не отлучаться из университета, он в Новый год, а потом еще раз ходил в маскарад и в гости – за что опять был наказан: имя его было записано на черной доске, выставленной на неделю в студенческих комнатах. Проступки Лобачевского считали достопримечательными, характер – упрямым, нераскаянным; его назвали «много думающим о себе».
Не знаем, таковы ли и другие «шалости» Лобачевского, но за эти он, как видим, был строго наказан. Можно предположить, что и остальные проступки принадлежат к разряду тех, о которых принято говорить: то кровь кипит, то сил избыток. Сын Лобачевского говорит, что отец не любил вспоминать об этом времени своей жизни и он только от матери узнал, что отец его, бывши студентом, проехался верхом на корове и в таком виде попался на глаза ректору.
Помощник инспектора студентов Кондырев в своих рапортах о поведении студентов сначала отзывался о Н.И. Лобачевском весьма хорошо, но в 1810 году, вследствие частых шалостей и насмешек над ним Лобачевского, переменил о нем свое мнение. Кондырев в то время был, что называется, креатурой Яковкина. Совсем молодой студент, по настоянию Яковкина он был раньше времени произведен в кандидаты, а потом вскоре назначен помощником инспектора студентов. Разумеется, Кондырев не мог заставить студентов себя слушаться, и ему поневоле приходилось принимать на себя слишком строгий вид, который иногда смешил, а чаще возмущал студентов.
Рапорты Кондырева о поведении Лобачевского в конце 1810 и начале 1811 года едва не имели весьма дурных последствий: вследствие этих рапортов Лобачевскому не хотели дать степени кандидата. В протоколе одного относящегося к этому времени заседания совета сказано: «некоторыми из господ членов замечено, что Николай Лобачевский по отличным успехам своим и дарованиям в науках математических мог бы быть удостоен звания студента-кандидата, если бы худое его поведение не препятствовало сему, почему он и не одобрен; причем особенно профессор инспектор студентов и кавалер и некоторые другие из членов подтвердили, что сделать сего в настоящее время невозможно, согласно со справедливостью и узаконениями».
«Лобачевский, – говорил в то же время Бартельс, – и во всяком немецком университете считался бы отличным студентом. Об искусстве его расскажу следующее. Лекции свои я располагаю так, что студенты мои в одно и то же время бывают слушателями и преподавателями. Я поручил перед окончанием курса Лобачевскому предложить под моим руководством пространную и трудную задачу о вращении, которую я обработал по Лагранжу. Лекция эта была записана Симоновым. Но Лобачевский не воспользовался всем этим, при окончании же последней лекции подал свое собственное решение, написанное на нескольких листочках. Это решение я показал академику Вишневскому, который пришел от него в восторг».
Яковкин не был расположен к Лобачевскому, но в то же время он как умный и, в сущности, незлой человек видел в этом студенте будущую славу России и иногда боялся слишком строго поступить с ним, чтобы не озлобить его – не убить его душу.
Яковкин часто ошибался, но всегда, когда мог, исправлял свои ошибки, или, по крайней мере, не упорствовал в них, как это делают многие. По настоянию Бартельса и других профессоров Лобачевский получил степень кандидата. Лобачевский был тронут оказанным ему снисхождением и искренне, слезно обещал Яковкину исправиться. Как мы увидим, он вполне сдержал свое обещание и со всей страстью отдался науке.
Несмотря на это, вскоре Яковкин послал Румовскому рапорт о поведении Лобачевского. Русские профессора должны были молча подписаться под обвинениями, боясь всесильного Яковкина; иностранные же профессора пропустили это просто по незнанию русского языка. Румовский написал совету: «А студенту Лобачевскому, занимающему первое место по своему худому поведению, объявить мое сожаление о том, что он отличные свои способности помрачает несоответственным поведением, и для того, чтобы он постарался переменить и исправить оное; в противном случае, если он советом моим не захочет воспользоваться и опять будет принесена жалоба на то, тогда я принужден буду довести о том до сведения министра просвещения». Однако на следующем же заседании профессора Бартельс, Литтров, Броннер и Герман настояли, чтобы и Николай Лобачевский, за его чрезвычайные успехи в науках физических и математических, был удостоен степени магистра. Яковкин должен был пойти опять на эту уступку, чтобы провести своих любимцев Булыгина и Юнакова, и Лобачевский, удостоенный степени кандидата на одном заседании, на следующем был удостоен степени магистра. И Румовский, по представлении совета от 3 августа, в числе прочих утвердил Лобачевского магистром, прибавив, чтобы магистрам производилось жалованье по кандидатскому окладу впредь до отпуска особой на это суммы. Что же касается такого способа представления и производства в ученые степени, то он объясняется тем, что до 1819 года в Казанском университете не было никаких относящихся к этому правил; в одном случае довольствовались одним заявлением профессоров, в другом требовали словесного экзамена или научного сочинения.
Получив утверждение первых своих магистров, совет университета установил правила, которыми определялись обязанности кандидатов и магистров. Согласно этим правилам, магистры должны были, за болезнью профессоров и адъюнктов, читать лекции, повторять со слушателями пройденное, принимать участие в издании «Казанских ведомостей» и, сверх того, заниматься усовершенствованием в избранных науках, находясь в ближайших и непосредственных отношениях с профессорами и адъюнктами. Об успехах кандидатов и магистров профессора должны были доносить совету каждое полугодие. Казенные кандидаты и магистры, занятия которых были таким образом определены, составляли педагогический институт при университете и вверены были особому надзору и наблюдению директора этого института, профессора Броннера. Брат Н. Лобачевского, Алексей, избрал предметом своим химию и был также удостоен звания магистра химии. О сочинениях его профессор Никольский говорит, что он обнаружил в них склонность к «глубокому вниканию в природу физических вещей и склонность к умозрениям».
Итак, дело насаждения просвещения в Казани совершалось совместными усилиями русских передовых людей и немцев; и тем, и другим приходилось бороться с невежеством – делом веков.
Несмотря на заботы Яковкина и прочих инспекторов студентов о наполнении аудиторий слушателями, то есть об отыскании для вновь прибывающих профессоров студентов, аудитории были по большей части пустыми.
Один, от силы два слушателя – вот то число студентов, перед которым профессору приходилось излагать свою науку. Студентов привлекали к слушанию хитростями и увещаниями. Профессор Литтров доносил, что ему часто по целым часам приходилось ожидать двух своих слушателей. Весной казенные студенты весьма часто прятались, чтобы не ходить на лекции, в беседках сада или в кустах. Перед началом лекций инспектора собирали их по саду. Инспектора часто доносили, что при утреннем посещении студенческих комнат, во время лекций, заставали студентов спящими, играющими в карты или в шашки. Дикость нравов доходила до того, что даже во время слушания лекций происходили драки между студентами. Нечего говорить о том, что между студентами же было сильно развито пьянство. В то же время многие из них, по словам Аксакова, занимались не только днем, но и ночью, чтобы познаниями своими быть достойными звания студентов. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням и тушил свечи. Учителя занимались со своими учениками не только в классах, но и по праздникам. Карташевский читал у себя на дому прикладную математику для лучших учеников. Вот та нравственная атмосфера, среди которой рос и развивался гений Лобачевского. С одной стороны, – новые веяния, идеальные стремления, с другой стороны, – необузданность и разгул страстей. Эта механическая смесь, а иногда химическое соединение нового со старым проявлялись во всем и во всех.
Воплощением же этого соединения и раздвоения разнородных течений был сам Яковкин, который являлся неограниченным властелином университета в первые годы его существования. Это был человек умный, начитанный, краснобай и себе на уме, но с душой нараспашку, умел расположить к себе всех и каждого, не знал предела своим желаниям и не стеснялся никакими средствами для достижения своих целей. Как человек увлекающийся, он мог делать много добра, но не мог быть беспристрастным и справедливым. Мы видели, что Лобачевский не пользовался его благоволением, и на первых порах защитниками будущего геометра явились немцы. Справедливость требует сказать, что не все иностранцы, прибывшие в Казань, представляли собой честных людей и принесли пользу университету. Между ними было много людей ничтожных, явившихся в Казань с единственной целью загребать деньги: таким людям представлялся здесь полный простор. Яковкин, сам не стеснявшийся в этом отношении, давал волю и другим. Все источники частных доходов были открыты для профессоров, но зато они не имели фактически никакой власти в университетском совете, все заседания которого проходили в спорах и препирательствах, носивших личный характер.
Не возводя на пьедестал поголовно всех иностранных профессоров, бывших в то время в Казани, мы имеем основание утверждать, что между ними находились замечательные люди и по уму, и по характеру, искренне желавшие привить просвещение молодому русскому народу; к числу их, бесспорно, принадлежали Бартельс, Броннер, Литтров и Реннер, о которых, ввиду их влияния на жизнь и деятельность Лобачевского, мы считаем нужным сказать особо.
Начнем с Бартельса. Иоганн-Мартин-Христиан Бартельс (род. в 1769 году) занимает очень почетное место в истории математики XIX столетия. Ему выпало на долю быть учителем Гаусса и Лобачевского. Из-за куска хлеба шестнадцатилетний Бартельс взял место помощника учителя в частной школе города Брауншвейга; он чинил перья и помогал ученикам в чистописании. В числе учеников этой школы находился тогда восьмилетний Гаусс; математические способности гениального ребенка обратили на себя внимание талантливого и умного юноши Бартельса, и между ними завязалась тесная дружба. Бартельс доставал книги и задачи и изучал их вместе с Гауссом. Энергичный юноша в то время сам готовился к должности бухгалтера и занимался еще посторонними заработками; у него был какой-нибудь час для отдыха, но и это время употреблял он на удовлетворение своей любознательности: он занимался математикой и древними языками. Благодаря своей энергии Бартельс пробил себе дорогу и получил возможность оказывать услуги своему молодому другу Гауссу. Эта дружба продолжалась всю жизнь. Бартельс и сам был прекрасным математиком. В мире ученых существует предание, что на вопрос, кто первый математик в Германии, Лаплас отвечал: «Бартельс, потому что Гаусс – первый математик в целом мире».
Румовский, любивший и знавший математику, конечно, не мог не заметить Бартельса; ему известны были также обстоятельства жизни последнего, и, зная, что вследствие бедственного положения Германии в то время ученым жилось плохо, он предложил Бартельсу кафедру в Казани. Бартельс не сразу решился принять предложение Румовского. Однако обстоятельства все же принудили его оставить родину, верных друзей и без знания языка и русских обычаев пуститься в такое дальнее путешествие. Он ехал долго и беспрестанно платился за незнание языка и местных условий; несколько раз рисковал он жизнью жены, детей и своей собственной. Разумеется, в Казань Бартельса загнали внешние обстоятельства, но нельзя сказать, чтобы ко всему этому не примешивалось идеальное стремление сделаться миссионером науки и распространить пределы цивилизации на далеком Востоке. Бартельс обладал в значительной степени тем энтузиазмом, которым отличались лучшие люди в Германии в то время, в эпоху умственного подъема. До отъезда в Казань в 1807 году Бартельс почти постоянно жил вместе с Гауссом в Брауншвейге, и оба они получали стипендию от герцога Брауншвейгского, мечтавшего построить обсерваторию, директором которой был бы Гаусс, и основать высшую математическую школу, сделав профессорами Гаусса и Бартельса. Эти два имени были до такой степени связаны, что они одновременно получили письма от секретаря Петербургской Академии наук Фуса с предложениями: Гауссу – место директора Санкт-Петербургской обсерватории, а Бартельсу – место профессора в Казани. Но Гаусс предпочел взять должность директора обсерватории в Геттингене. Тесные отношения с Гауссом, конечно, должны были обогатить Баргельса плодотворными идеями в области математики, для разработки которых нужны были талантливые люди. И, собираясь в далекий путь, Бартельс не раз задавал себе вопрос: найдутся ли такие даровитые ученики в России? Впоследствии Гаусс выучился русскому языку, познакомился с русской литературой и очень высоко ее ценил. Нет сомнения, что интерес этот вызван был рассказами Бартельса о России. Мы говорим все это, желая доказать, что не одни только деньги притягивали тогда лучших людей в Россию.
Бартельс первое время чувствовал себя прекрасно в Казани; приветливо встреченный Яковкиным, он с удобством расположился со своим семейством в огромной отведенной ему казенной квартире. Он сразу поставил преподавание чистой математики в Казанском университете на один уровень с лучшими в то время университетами Германии, познакомил своих немногочисленных, но избранных слушателей со всеми классическими математическими сочинениями того времени: с дифференциальным и интегральным исчислениями Эйлера, с аналитической механикой Лагранжа, с геометрией Монжа и с сочинениями Гаусса. Сверх того, он читал историю математики по собственным запискам, широкой кистью рисуя величественную картину успехов человеческого ума в этой области. Можно себе представить, какой энтузиазм он должен был возбуждать в тех немногих студентах, которым знание иностранных языков и математики давало возможность понимать его лекции. Бартельс хорошо отзывался о математических познаниях своих слушателей вообще, и внимание его, конечно, вскоре остановилось на Лобачевском. Лобачевский, отдавая дань молодости и окружающей среде, все же четыре часа в неделю занимался у Бартельса на дому.
Результатом этих занятий явилось сочинение Лобачевского «Теория эллиптического движения небесных тел», за которое он, по настоянию Бартельса, удостоен был степени магистра. В 1813 году Лобачевский представил новый труд под заглавием «О разрешении алгебраического уравнения Хn – 1=0», которое явилось следствием глубокого понимания сочинений Гаусса. Итак, Бартельс приобщил Лобачевского к европейской науке, но этим одним не исчерпываются все услуги, оказанные им развитию нашего геометра. Сочинения Бартельса «Лекции о математическом анализе», изданные впоследствии в Дерпте, отличаются строгостью и ясностью изложения, которые и в настоящее время считаются образцовыми. Обязанность Лобачевского как магистра состояла, между прочим, в разъяснении слушателям Бартельса того, чего они не понимали на лекциях; это должно было приводить Бартельса и Лобачевского к частым беседам о принципах математики и служить их тесному сближению. Под влиянием этих отношений развивался в Лобачевском дух требовательности и критики, которым отличается вся его научная деятельность.
От Бартельса мы перейдем к Броннеру, личность которого также оставила, как увидим далее, глубокие следы в умственном и нравственном развитии Лобачевского. Мы уже говорили, что Броннер был сделан директором Казанского педагогического института.
В лице Броннера Казанский университет приобрел удивительно талантливого, разностороннего и пылкого человека. В молодости своей он был монахом-католиком, потом принадлежал к ордену иллюминатов; он то писал поэтические идиллии, то занимался механикой и физикой, то историей и статистикой. Его увлечение никогда не ограничивалось словами, а всегда переходило в дело. Например, увлечение некоторыми лучшими идеями французской революции дошло у него до того, что он отправился пешком во Францию, питаясь кореньями, ягодами и грибами. Он пришел в такой восторг на французской границе, что французская стража приняла его сперва за сумасшедшего, но потом обошлась с ним очень милостиво; вскоре, однако, он разочаровался, увидев, что во Франции не было терпимости и уважения к старым верованиям народа; ему не понравились эти храмы разума, в которых сообщали только военные известия и не давали ничего душе и сердцу. Он ушел в Швейцарию и целовал землю мирной страны, уважающей права человека. Броннер явился в Казань в те годы, когда успел очень много пережить, передумать и приобрести широкое философское образование. Он уже не бросался из стороны в сторону, как в молодости, но бодро шел своим путем; тогда он уже не принадлежал к ордену иллюминатов, но сохранил самое лучшее от его сущности, которая заключалась в стремлении бороться с иезуитами, содействуя всеми мерами просвещению народа и усовершенствованию людей. К полезнейшим действиям иллюминатского ордена принадлежали воспитательные институты. Эти рассадники просвещения пробуждали и развивали любовь к науке, внушали восприимчивость ко всему хорошему и благородному. Члены общества ставили себе задачей мешать осуществлению каких бы то ни было злостных намерений, помогать угнетенной добродетели, давать ход достойным людям, облегчать возможность приобретения знаний. Вместе со всем этим орден преследовал цель бороться против всего, что мешает счастью людей. Нам известно, что профессор Броннер при вступлении своем в орден должен был написать два сочинения на темы: «О средствах заставить молодого человека с особенным уважением относиться к изучению морали» и о том, «Как пробуждать в молодом человеке любовь к самостоятельному мышлению». Под влиянием этого ордена развились удивительные педагогические способности Броннера.
Должность директора учительской семинарии сблизила Броннера с университетской молодежью, среди которой видное место занимал Лобачевский. Мы видели, что Бартельс приобщил Лобачевского к европейской науке; Броннер же раскрыл перед ним ту практическую философию, которой увлекались в то время в Германии. Лобачевский, никогда не выезжавший из России, конечно, заимствовал из этого учения только то, что ему самому было по душе. Мы не входим в оценку взглядов иллюминатов с теоретической точки зрения, но главное достоинство практической философии – те последствия, которые она имеет для жизни и деятельности. Может быть, этой философии Лобачевский обязан смелым энтузиазмом, который он проявил в своей научной деятельности; наверное, он обязан ей тем уважением к человеческой личности, которым, как мы увидим дальше, отличалась его педагогическая деятельность.
После Бартельса и Броннера приехали в Казань Реннер и Литтров. Реннер, бывший доцент Геттингенского университета, прекрасно знал математику и латынь, по характеру же своему рисуется нам личностью в высшей степени чистой, светлой и в то же время мягкой. Такие личности обыкновенно производят самое благотворное влияние на молодежь. Наконец, Литтров был известным в то время астрономом, отличавшимся высоким образованием, и в то же время философом и человеком, увлекавшимся идеями. Ему мы обязаны тем, что астрономия в Казанском университете процветала, не уступая в этом чистой математике. Под руководством Литтрова Лобачевский производил наблюдения над кометой в 1811 году, и сообщение Литтрова, напечатанное в «Казанских известиях» в том же году, было первым печатным словом о научных трудах Лобачевского. Мы видим, что годы развития Лобачевского протекли, можно сказать, при самых благоприятных условиях, несмотря на то, что в университете в правление Яковкина царствовал большой беспорядок и профессора, как мы видели, были стеснены в своей деятельности. Теперь мы приступим к описанию деятельности Лобачевского, в которой отразилось благотворное влияние хороших сторон первоначального гимназического и университетского образования.
Глава III
Деятельность Лобачевского во время эпохи «обновления» Казанского университета: Лобачевский исполняет завет Румовского. – Беспорядки в университетских делах; их причины и следствия. – Ревизия и донесение Магницкого. – Магницкий – попечитель Казанского учебного округа. – Отношение Лобачевского к эпохе «обновления» как профессора и члена совета.
Сближение с иностранцами и сильно развившийся интерес к науке имели самое благотворное влияние на характер Лобачевского. Он старался обуздывать проявления своей пылкости, сдерживал свою природную насмешливость, наблюдал за своими отношениями к людям и, под влиянием нескончаемых бесед с Броннером, глубоко задумывался над чувством долга и исполнением обязанностей. Одним словом, он отдавался той внутренней работе, которая создает человека. Даже в его внешности произошли перемены: в ней проявилась некоторая суровость, какой подвержены все пылкие люди, стремящиеся подавить свой темперамент. Лобачевский стал вести более правильный образ жизни для того, чтобы иметь больше времени заниматься наукой. Одним словом, он преобразился и отдался математике, как бы исполнив завет Румовского, переданный студентам в 1808 году в такой форме: «Желал бы я, чтобы между студентами больше находилось таких, которые приготовляли себя к наукам математическим, физическим и философским, чем к историческим, потому что первые требуют напряжения разума, а вторые – памяти».
Свою педагогическую деятельность Лобачевский начал рано: он впервые выступил на поприще преподавателя в 1812 году; в это время ему было поручено чтение публичного курса арифметики и геометрии для чиновников. Еще в 1809 году по Высочайшему повелению при Казанском университете учрежден был экзаменационный комитет для чиновников при производстве в восьмиклассный чин и открыты публичные летние курсы для того, чтобы чиновники, не имевшие возможности приготовляться дома, могли бесплатно слушать курс тех наук, из которых они должны были экзаменоваться. Замечательно, что первыми явившимися на экзамен в Казанский комитет были будущие попечители – Мусин-Пушкин и Молоствов.
Заслуживает внимания, что Лобачевский явился преемником своего младшего брата Алексея, который уезжал в то время по делам в Москву и в Нижний Новгород.
Полнота, отчетливость и необыкновенная ясность изложения в преподавании Н. Лобачевского тогда же обратили на него особое внимание, и в следующем году он официально был назначен, вместо брата, преподавателем публичных курсов арифметики и геометрии, а через год, 26 марта 1814 года, утвержден был адъюнктом.
История Казанского университета служит наглядным примером того, какое огромное влияние имеют у нас личности. Мы видели светлые и темные стороны влияния личности Румовского на Казанский университет. Посмотрим теперь, какие следы наложили на его жизнь попечители Казанского учебного округа Магницкий и Мусин-Пушкин.
Время начала педагогической деятельности Лобачевского совпало с неблагоприятными для Казанского университета веяниями. В Казанском университете начались беспорядки благодаря безграничному самовластию Яковкина, и слухи о них доходили в Петербург до министерства; из министерства следовали запросы; Яковкин и К° все сваливали на иностранцев, вследствие чего уже с 1815 года министерство народного просвещения стало неблагоприятно относиться к профессорам-иностранцам. Знавший жизнь и людей, Броннер почувствовал приближавшуюся реакцию и, взяв шестимесячный отпуск, навсегда уехал в Швейцарию. Итак, его деятельность в Казанском университете продолжалась около пяти лет. А ехал он с тем, чтобы посвятить всю жизнь делу просвещения России, сожалел, что не был хорошо знаком с русским языком, и, когда умирал кто-нибудь из русских знакомых, то говорил: «Ах, зачем он мне не оставил в наследство знание русского языка!»
И другие лучшие иностранцы-профессора спешили оставить Казанский университет. Ректором университета стал Браун, и в университете установлено было правильное разделение на факультеты, но беспорядки продолжались и после того, как был удален Яковкин как корень всех беспорядков. И так как ссоры не прекращались, то получено было, наконец, предписание университетскому совету, что государю угодно было повелеть Магницкому отправиться в Казань для обзора университета и училищ. Вскоре после того явился и Магницкий: он начал с осмотра университетских зданий и посещения лекций профессоров, а кончил донесением, имевшим важные последствия для Казанского университета. Магницкий нашел, что студенты не имеют должного понятия о заповедях Божьих, и писал, что время вникнуть в цель правительства, которое хочет, и хочет непреоборимо, положить единым основанием народного просвещения благочестие. В «благочестии» Магницкий видел единственное спасение от распущенности, созданной Яковкиным.
Лобачевский и Симонов были назначены экстраординарными профессорами, благодаря свидетельству г-на попечителя об отличных их познаниях и способностях, и утверждены министром.
В то время у университетского совета, вследствие постоянных раздоров между его членами, было отнято право выбирать профессоров. Даже протоколы совета, относящиеся к этому времени, переполнены множеством дел по таким жалобам, где были выведены на сцену жены, дочери, кухарки профессоров и явились в разоблачении самые сокровенные семейные дела.
Все университетские дела были запущены, библиотека находилась в крайнем беспорядке, кабинеты не имели ни описей, ни каталогов даже того немногого, что заключали в себе.
Лобачевский в то время мало принимал участия в совете; его здоровье настолько было тогда расстроено, что он для поправления его сначала ездил на свою родину, в Макарьев, а потом на Сергиевские серные воды. Ссоры профессоров действовали на него удручающим образом; сам же он как адъюнкт имел в совете право голоса только в делах, прямо относящихся к учебной части. Итак, деятельность его в то время в университете ограничивалась одним преподаванием, и в этом деле он до 1816 года считался помощником Бартельса.
Влияние личности Магницкого на судьбу Казанского университета было так велико, что нам придется сказать об этом особо. Он думал, что весь беспорядок в университетах наших произошел от образования, книг и людей, перешедших к нам из Германии. Там, по его мнению, зараза возмутительных начал, возникшая в Англии и усиленная во Франции, сделалась классической. Он говорил: «Науки и литература северной Германии так заражены, что пользоваться ими надо с величайшей осторожностью».
Итак, по взглядам своим Магницкий представлял нечто совсем противоположное Румовскому.
Магницкому мерещилось, что от этой «заразы и язвы» страдает и Казанский университет, что и беспорядки в совете, и распущенность студентов – все зависит от «разрушительных» начал. Он стремился искоренять эти начала со всей страстностью фанатика.
Сверх того, у него была своя излюбленная идея: он хотел соединить веру с просвещением. Под влиянием этой идеи в голове его созрел целый план преобразований, который он изложил министерству; он утверждал, что необходимо все взять в свои руки и с этой целью наблюдать за нравственностью не только студентов, но и преподавателей, которым надо предписывать не только действия, но и мысли.
Из всего этого видно, что сулила ревизия Магницкого Казанскому университету. И действительно, общий характер донесения Магницкого был таков, что в Петербурге возникла мысль о закрытии Казанского университета, но она была отвергнута государем Александром Благословенным. Однако Магницкий за свое усердие назначен был попечителем Казанского учебного округа. И тогда для Казанского университета настала так называемая эпоха «обновления». В 1819 году началось вместе с нею господство педагогических взглядов, противоположных прежним. В 1820 году не осталось никого из бывших учителей Лобачевского в Казани. Бартельс в этом году взял профессуру в Дерпте.
Лобачевский, получивший в 1814 году звание адъюнкта чистой математики, в 1816 году был сделан профессором. В это время Лобачевский главным образом занимался наукой; но в 1818 году он был избран членом училищного комитета, который должен был, по уставу, управлять всеми делами, касавшимися гимназий и училищ округа, подведомственных тогда не непосредственно попечителю, но университету. С 1819 года Лобачевский преподавал астрономию, заменяя отправившегося в кругосветное плавание Симонова. И Лобачевский, и Симонов чувствовали себя одинокими, проводив своих истинных наставников, и профессора с грустью расстались со своими учениками. Бартельс вспоминал в Дерпте своих даровитых казанских учеников. Литтров перешел в Пражский университет, но увез с собой много хороших воспоминаний о России. В своем сочинении «Картины из русской жизни» он говорит, что после той шири и того простора, к которым привыкаешь в России, дома чувствуешь себя, точно в клетке. Он высказывает также мысль, что этот простор должен наложить свою печать на духовную деятельность русского народа. И с таким высоким мнением о России Литтров поспешил убраться восвояси еще в 1816 году. Он, как и Броннер, взял отпуск, простился на время, а потом из-за границы написал, что оставляет Россию навсегда. Очевидно, настоящих ученых, приехавших в Россию не ради одних денег, смущали неопределенность положения, перемена различных веяний, зависимость от личностей и их произвола.
И они были правы. Вскоре Казанский университет так опустел, что профессора принуждены были занимать по нескольку кафедр, и Лобачевскому иногда приходилось, как говорится, растягиваться, воплощая в себе весь учительский персонал математического факультета.
В правление Магницкого для Казанского университета как бы наступила жестокая зима. Своим вмешательством в преподавание он совершенно лишил его жизни; лекции профессоров напоминали в то время «плохие песни соловья в когтях у кошки».
Магницкий принялся также исправлять студентов. Он составил для них правила самого строгого аскетизма, которые могли быть применены только к отшельникам и монахам. Провинившихся студентов называли грешниками, карцер носил название «комнаты уединения», на стенах которой можно было видеть изображение страшного суда. Об этих «грешниках» молились в церкви и им посылался духовник для увещаний. Чтобы уничтожить в студентах дух самонадеянности, высокомерия и развить в них дух смирения, заведено было по торжественным праздникам приготовлять на университетских дворах обеденные столы для нищей и убогой братии, и за столами этими должны были прислуживать студенты.
Награды и медали давались студентам не за успехи в науках, а за благочестие. От преподавателей Магницкий требовал повиновения. Он давал профессорам кафедры и назначал оклады по произволу. Все права университета были им нарушены.
Магницкий писал в то же время: «Промысел Божий чудесно возвел университет Казанский из расстройств, уничижения и стыда – в порядок, в славу, в пример всем прочим».
Карташевский отличался многосторонним общим образованием и прекрасно развитым эстетическим вкусом. В то же время это был человек смелый и независимый. Его влиянием и знаниями воспользовался Лобачевский как нельзя лучше еще в гимназии. Аксаков говорит, что Карташевский принадлежал к числу людей, вся жизнь которых есть строгое проявление редкой нравственной высоты.
Университетский курс был в то время самым неопределенным. По ведомостям, ежемесячно представлявшимся профессорами и адъюнктами в совет гимназии, можно видеть, с одной стороны, что университетский курс мало чем отличался от гимназического и представлял как бы повторение этого последнего; но, с другой стороны, там читались и такие предметы, о которых в гимназии не могло быть и речи, только все это в очень сокращенном виде. Так, в 1805 году профессор Яковкин, с марта до июня, прочел всю русскую историю и часть статистики; адъюнкт Карташевский со студентами, назначенными слушать чистую математику, в августе повторял алгебру, лонгиметрию и окончил планиметрию; адъюнкт Запольский только в июне прочел теорию оптических инструментов, а потом и практику, да сверх того преподавал физическую астрономию, электричество и магнетизм. Вообще же этот курс был действительно дополнением и повторением гимназического курса, и это замечание более всего относится к математическому факультету. Этим объясняется то, по-видимому, странное обстоятельство, что мы не находим имени Лобачевского между студентами, записавшимися на слушание математики. Лобачевский, поступив в университет в 1807 году, сначала с большим успехом занимался в то время другими предметами не потому, что его призвание тогда еще не определилось, а по той простой причине, что математический курс в то время не представлял для него ничего нового. Яковкин замечал, что Лобачевский «приметно приготовлял» себя к занятиям медициной. Влечение к математике явилось у будущего геометра только после приезда иностранных профессоров.
Румовский по своей старости и слабости не мог вообще многого сделать для Казанского университета, но он был хорошим математиком и позаботился об устройстве физико-математического факультета; вскоре учителей Казанской гимназии сменили профессора, пользовавшиеся известностью в Европе: Бартельс – профессор чистой математики, Реннер – прикладной математики, Литтров – профессор астрономии и Броннер – физики. Такой состав профессоров можно назвать блестящим. Всем этим счастливым обстоятельствам Лобачевский обязан полным развитием своих способностей. Бартельс, Литтров и Броннер обратили на него свое особенное внимание. Помимо официальных лекций в аудитории, Бартельс занимался на дому с Лобачевским теорией чисел Гаусса; Литтров – объяснением первого тома «Небесной механики» Лапласа; Броннер же много содействовал установлению общих философских взглядов Лобачевского и развитию его педагогических способностей. Под руководством этих профессоров Лобачевский делал быстрые успехи, о которых они постоянно заявляли в педагогических советах.
Лобачевский в молодости отличался чрезвычайно живым и веселым характером; он всегда участвовал в студенческих пирушках, всегда готов был помогать товарищам в какой-нибудь задуманной шалости; одним словом, он всегда был душой студенческого кружка. Сам характер этих шалостей характеризует тогдашних студентов. Лобачевский, как и многие из его товарищей казенных студентов, любил заниматься пиротехникой. Однажды Лобачевский сделал ракету и вместе с другими пустил ее в одиннадцать часов вечера на университетском дворе. За это и за то, «что учинил непризнание, упорствуя в нем, подверг наказанию многих совершенно сему непричастных», – был посажен в карцер по распоряжению совета. В другой раз, будучи уже камерным студентом, или помощником инспектора казенных студентов, Лобачевский был замечен в соучастии и потачке грубости и ослушанию студентов. За это он получил публичный выговор от инспектора, был лишен звания камерного студента и шестидесяти рублей, которые были ему только что назначены за успехи в науках на книги и учебные пособия. Все это происходило на святках 1810 года. В январе Лобачевский оказался самого худого поведения; несмотря на приказание начальства не отлучаться из университета, он в Новый год, а потом еще раз ходил в маскарад и в гости – за что опять был наказан: имя его было записано на черной доске, выставленной на неделю в студенческих комнатах. Проступки Лобачевского считали достопримечательными, характер – упрямым, нераскаянным; его назвали «много думающим о себе».
Не знаем, таковы ли и другие «шалости» Лобачевского, но за эти он, как видим, был строго наказан. Можно предположить, что и остальные проступки принадлежат к разряду тех, о которых принято говорить: то кровь кипит, то сил избыток. Сын Лобачевского говорит, что отец не любил вспоминать об этом времени своей жизни и он только от матери узнал, что отец его, бывши студентом, проехался верхом на корове и в таком виде попался на глаза ректору.
Помощник инспектора студентов Кондырев в своих рапортах о поведении студентов сначала отзывался о Н.И. Лобачевском весьма хорошо, но в 1810 году, вследствие частых шалостей и насмешек над ним Лобачевского, переменил о нем свое мнение. Кондырев в то время был, что называется, креатурой Яковкина. Совсем молодой студент, по настоянию Яковкина он был раньше времени произведен в кандидаты, а потом вскоре назначен помощником инспектора студентов. Разумеется, Кондырев не мог заставить студентов себя слушаться, и ему поневоле приходилось принимать на себя слишком строгий вид, который иногда смешил, а чаще возмущал студентов.
Рапорты Кондырева о поведении Лобачевского в конце 1810 и начале 1811 года едва не имели весьма дурных последствий: вследствие этих рапортов Лобачевскому не хотели дать степени кандидата. В протоколе одного относящегося к этому времени заседания совета сказано: «некоторыми из господ членов замечено, что Николай Лобачевский по отличным успехам своим и дарованиям в науках математических мог бы быть удостоен звания студента-кандидата, если бы худое его поведение не препятствовало сему, почему он и не одобрен; причем особенно профессор инспектор студентов и кавалер и некоторые другие из членов подтвердили, что сделать сего в настоящее время невозможно, согласно со справедливостью и узаконениями».
«Лобачевский, – говорил в то же время Бартельс, – и во всяком немецком университете считался бы отличным студентом. Об искусстве его расскажу следующее. Лекции свои я располагаю так, что студенты мои в одно и то же время бывают слушателями и преподавателями. Я поручил перед окончанием курса Лобачевскому предложить под моим руководством пространную и трудную задачу о вращении, которую я обработал по Лагранжу. Лекция эта была записана Симоновым. Но Лобачевский не воспользовался всем этим, при окончании же последней лекции подал свое собственное решение, написанное на нескольких листочках. Это решение я показал академику Вишневскому, который пришел от него в восторг».
Яковкин не был расположен к Лобачевскому, но в то же время он как умный и, в сущности, незлой человек видел в этом студенте будущую славу России и иногда боялся слишком строго поступить с ним, чтобы не озлобить его – не убить его душу.
Яковкин часто ошибался, но всегда, когда мог, исправлял свои ошибки, или, по крайней мере, не упорствовал в них, как это делают многие. По настоянию Бартельса и других профессоров Лобачевский получил степень кандидата. Лобачевский был тронут оказанным ему снисхождением и искренне, слезно обещал Яковкину исправиться. Как мы увидим, он вполне сдержал свое обещание и со всей страстью отдался науке.
Несмотря на это, вскоре Яковкин послал Румовскому рапорт о поведении Лобачевского. Русские профессора должны были молча подписаться под обвинениями, боясь всесильного Яковкина; иностранные же профессора пропустили это просто по незнанию русского языка. Румовский написал совету: «А студенту Лобачевскому, занимающему первое место по своему худому поведению, объявить мое сожаление о том, что он отличные свои способности помрачает несоответственным поведением, и для того, чтобы он постарался переменить и исправить оное; в противном случае, если он советом моим не захочет воспользоваться и опять будет принесена жалоба на то, тогда я принужден буду довести о том до сведения министра просвещения». Однако на следующем же заседании профессора Бартельс, Литтров, Броннер и Герман настояли, чтобы и Николай Лобачевский, за его чрезвычайные успехи в науках физических и математических, был удостоен степени магистра. Яковкин должен был пойти опять на эту уступку, чтобы провести своих любимцев Булыгина и Юнакова, и Лобачевский, удостоенный степени кандидата на одном заседании, на следующем был удостоен степени магистра. И Румовский, по представлении совета от 3 августа, в числе прочих утвердил Лобачевского магистром, прибавив, чтобы магистрам производилось жалованье по кандидатскому окладу впредь до отпуска особой на это суммы. Что же касается такого способа представления и производства в ученые степени, то он объясняется тем, что до 1819 года в Казанском университете не было никаких относящихся к этому правил; в одном случае довольствовались одним заявлением профессоров, в другом требовали словесного экзамена или научного сочинения.
Получив утверждение первых своих магистров, совет университета установил правила, которыми определялись обязанности кандидатов и магистров. Согласно этим правилам, магистры должны были, за болезнью профессоров и адъюнктов, читать лекции, повторять со слушателями пройденное, принимать участие в издании «Казанских ведомостей» и, сверх того, заниматься усовершенствованием в избранных науках, находясь в ближайших и непосредственных отношениях с профессорами и адъюнктами. Об успехах кандидатов и магистров профессора должны были доносить совету каждое полугодие. Казенные кандидаты и магистры, занятия которых были таким образом определены, составляли педагогический институт при университете и вверены были особому надзору и наблюдению директора этого института, профессора Броннера. Брат Н. Лобачевского, Алексей, избрал предметом своим химию и был также удостоен звания магистра химии. О сочинениях его профессор Никольский говорит, что он обнаружил в них склонность к «глубокому вниканию в природу физических вещей и склонность к умозрениям».
Итак, дело насаждения просвещения в Казани совершалось совместными усилиями русских передовых людей и немцев; и тем, и другим приходилось бороться с невежеством – делом веков.
Несмотря на заботы Яковкина и прочих инспекторов студентов о наполнении аудиторий слушателями, то есть об отыскании для вновь прибывающих профессоров студентов, аудитории были по большей части пустыми.
Один, от силы два слушателя – вот то число студентов, перед которым профессору приходилось излагать свою науку. Студентов привлекали к слушанию хитростями и увещаниями. Профессор Литтров доносил, что ему часто по целым часам приходилось ожидать двух своих слушателей. Весной казенные студенты весьма часто прятались, чтобы не ходить на лекции, в беседках сада или в кустах. Перед началом лекций инспектора собирали их по саду. Инспектора часто доносили, что при утреннем посещении студенческих комнат, во время лекций, заставали студентов спящими, играющими в карты или в шашки. Дикость нравов доходила до того, что даже во время слушания лекций происходили драки между студентами. Нечего говорить о том, что между студентами же было сильно развито пьянство. В то же время многие из них, по словам Аксакова, занимались не только днем, но и ночью, чтобы познаниями своими быть достойными звания студентов. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням и тушил свечи. Учителя занимались со своими учениками не только в классах, но и по праздникам. Карташевский читал у себя на дому прикладную математику для лучших учеников. Вот та нравственная атмосфера, среди которой рос и развивался гений Лобачевского. С одной стороны, – новые веяния, идеальные стремления, с другой стороны, – необузданность и разгул страстей. Эта механическая смесь, а иногда химическое соединение нового со старым проявлялись во всем и во всех.
Воплощением же этого соединения и раздвоения разнородных течений был сам Яковкин, который являлся неограниченным властелином университета в первые годы его существования. Это был человек умный, начитанный, краснобай и себе на уме, но с душой нараспашку, умел расположить к себе всех и каждого, не знал предела своим желаниям и не стеснялся никакими средствами для достижения своих целей. Как человек увлекающийся, он мог делать много добра, но не мог быть беспристрастным и справедливым. Мы видели, что Лобачевский не пользовался его благоволением, и на первых порах защитниками будущего геометра явились немцы. Справедливость требует сказать, что не все иностранцы, прибывшие в Казань, представляли собой честных людей и принесли пользу университету. Между ними было много людей ничтожных, явившихся в Казань с единственной целью загребать деньги: таким людям представлялся здесь полный простор. Яковкин, сам не стеснявшийся в этом отношении, давал волю и другим. Все источники частных доходов были открыты для профессоров, но зато они не имели фактически никакой власти в университетском совете, все заседания которого проходили в спорах и препирательствах, носивших личный характер.
Не возводя на пьедестал поголовно всех иностранных профессоров, бывших в то время в Казани, мы имеем основание утверждать, что между ними находились замечательные люди и по уму, и по характеру, искренне желавшие привить просвещение молодому русскому народу; к числу их, бесспорно, принадлежали Бартельс, Броннер, Литтров и Реннер, о которых, ввиду их влияния на жизнь и деятельность Лобачевского, мы считаем нужным сказать особо.
Начнем с Бартельса. Иоганн-Мартин-Христиан Бартельс (род. в 1769 году) занимает очень почетное место в истории математики XIX столетия. Ему выпало на долю быть учителем Гаусса и Лобачевского. Из-за куска хлеба шестнадцатилетний Бартельс взял место помощника учителя в частной школе города Брауншвейга; он чинил перья и помогал ученикам в чистописании. В числе учеников этой школы находился тогда восьмилетний Гаусс; математические способности гениального ребенка обратили на себя внимание талантливого и умного юноши Бартельса, и между ними завязалась тесная дружба. Бартельс доставал книги и задачи и изучал их вместе с Гауссом. Энергичный юноша в то время сам готовился к должности бухгалтера и занимался еще посторонними заработками; у него был какой-нибудь час для отдыха, но и это время употреблял он на удовлетворение своей любознательности: он занимался математикой и древними языками. Благодаря своей энергии Бартельс пробил себе дорогу и получил возможность оказывать услуги своему молодому другу Гауссу. Эта дружба продолжалась всю жизнь. Бартельс и сам был прекрасным математиком. В мире ученых существует предание, что на вопрос, кто первый математик в Германии, Лаплас отвечал: «Бартельс, потому что Гаусс – первый математик в целом мире».
Румовский, любивший и знавший математику, конечно, не мог не заметить Бартельса; ему известны были также обстоятельства жизни последнего, и, зная, что вследствие бедственного положения Германии в то время ученым жилось плохо, он предложил Бартельсу кафедру в Казани. Бартельс не сразу решился принять предложение Румовского. Однако обстоятельства все же принудили его оставить родину, верных друзей и без знания языка и русских обычаев пуститься в такое дальнее путешествие. Он ехал долго и беспрестанно платился за незнание языка и местных условий; несколько раз рисковал он жизнью жены, детей и своей собственной. Разумеется, в Казань Бартельса загнали внешние обстоятельства, но нельзя сказать, чтобы ко всему этому не примешивалось идеальное стремление сделаться миссионером науки и распространить пределы цивилизации на далеком Востоке. Бартельс обладал в значительной степени тем энтузиазмом, которым отличались лучшие люди в Германии в то время, в эпоху умственного подъема. До отъезда в Казань в 1807 году Бартельс почти постоянно жил вместе с Гауссом в Брауншвейге, и оба они получали стипендию от герцога Брауншвейгского, мечтавшего построить обсерваторию, директором которой был бы Гаусс, и основать высшую математическую школу, сделав профессорами Гаусса и Бартельса. Эти два имени были до такой степени связаны, что они одновременно получили письма от секретаря Петербургской Академии наук Фуса с предложениями: Гауссу – место директора Санкт-Петербургской обсерватории, а Бартельсу – место профессора в Казани. Но Гаусс предпочел взять должность директора обсерватории в Геттингене. Тесные отношения с Гауссом, конечно, должны были обогатить Баргельса плодотворными идеями в области математики, для разработки которых нужны были талантливые люди. И, собираясь в далекий путь, Бартельс не раз задавал себе вопрос: найдутся ли такие даровитые ученики в России? Впоследствии Гаусс выучился русскому языку, познакомился с русской литературой и очень высоко ее ценил. Нет сомнения, что интерес этот вызван был рассказами Бартельса о России. Мы говорим все это, желая доказать, что не одни только деньги притягивали тогда лучших людей в Россию.
Бартельс первое время чувствовал себя прекрасно в Казани; приветливо встреченный Яковкиным, он с удобством расположился со своим семейством в огромной отведенной ему казенной квартире. Он сразу поставил преподавание чистой математики в Казанском университете на один уровень с лучшими в то время университетами Германии, познакомил своих немногочисленных, но избранных слушателей со всеми классическими математическими сочинениями того времени: с дифференциальным и интегральным исчислениями Эйлера, с аналитической механикой Лагранжа, с геометрией Монжа и с сочинениями Гаусса. Сверх того, он читал историю математики по собственным запискам, широкой кистью рисуя величественную картину успехов человеческого ума в этой области. Можно себе представить, какой энтузиазм он должен был возбуждать в тех немногих студентах, которым знание иностранных языков и математики давало возможность понимать его лекции. Бартельс хорошо отзывался о математических познаниях своих слушателей вообще, и внимание его, конечно, вскоре остановилось на Лобачевском. Лобачевский, отдавая дань молодости и окружающей среде, все же четыре часа в неделю занимался у Бартельса на дому.
Результатом этих занятий явилось сочинение Лобачевского «Теория эллиптического движения небесных тел», за которое он, по настоянию Бартельса, удостоен был степени магистра. В 1813 году Лобачевский представил новый труд под заглавием «О разрешении алгебраического уравнения Хn – 1=0», которое явилось следствием глубокого понимания сочинений Гаусса. Итак, Бартельс приобщил Лобачевского к европейской науке, но этим одним не исчерпываются все услуги, оказанные им развитию нашего геометра. Сочинения Бартельса «Лекции о математическом анализе», изданные впоследствии в Дерпте, отличаются строгостью и ясностью изложения, которые и в настоящее время считаются образцовыми. Обязанность Лобачевского как магистра состояла, между прочим, в разъяснении слушателям Бартельса того, чего они не понимали на лекциях; это должно было приводить Бартельса и Лобачевского к частым беседам о принципах математики и служить их тесному сближению. Под влиянием этих отношений развивался в Лобачевском дух требовательности и критики, которым отличается вся его научная деятельность.
От Бартельса мы перейдем к Броннеру, личность которого также оставила, как увидим далее, глубокие следы в умственном и нравственном развитии Лобачевского. Мы уже говорили, что Броннер был сделан директором Казанского педагогического института.
В лице Броннера Казанский университет приобрел удивительно талантливого, разностороннего и пылкого человека. В молодости своей он был монахом-католиком, потом принадлежал к ордену иллюминатов; он то писал поэтические идиллии, то занимался механикой и физикой, то историей и статистикой. Его увлечение никогда не ограничивалось словами, а всегда переходило в дело. Например, увлечение некоторыми лучшими идеями французской революции дошло у него до того, что он отправился пешком во Францию, питаясь кореньями, ягодами и грибами. Он пришел в такой восторг на французской границе, что французская стража приняла его сперва за сумасшедшего, но потом обошлась с ним очень милостиво; вскоре, однако, он разочаровался, увидев, что во Франции не было терпимости и уважения к старым верованиям народа; ему не понравились эти храмы разума, в которых сообщали только военные известия и не давали ничего душе и сердцу. Он ушел в Швейцарию и целовал землю мирной страны, уважающей права человека. Броннер явился в Казань в те годы, когда успел очень много пережить, передумать и приобрести широкое философское образование. Он уже не бросался из стороны в сторону, как в молодости, но бодро шел своим путем; тогда он уже не принадлежал к ордену иллюминатов, но сохранил самое лучшее от его сущности, которая заключалась в стремлении бороться с иезуитами, содействуя всеми мерами просвещению народа и усовершенствованию людей. К полезнейшим действиям иллюминатского ордена принадлежали воспитательные институты. Эти рассадники просвещения пробуждали и развивали любовь к науке, внушали восприимчивость ко всему хорошему и благородному. Члены общества ставили себе задачей мешать осуществлению каких бы то ни было злостных намерений, помогать угнетенной добродетели, давать ход достойным людям, облегчать возможность приобретения знаний. Вместе со всем этим орден преследовал цель бороться против всего, что мешает счастью людей. Нам известно, что профессор Броннер при вступлении своем в орден должен был написать два сочинения на темы: «О средствах заставить молодого человека с особенным уважением относиться к изучению морали» и о том, «Как пробуждать в молодом человеке любовь к самостоятельному мышлению». Под влиянием этого ордена развились удивительные педагогические способности Броннера.
Должность директора учительской семинарии сблизила Броннера с университетской молодежью, среди которой видное место занимал Лобачевский. Мы видели, что Бартельс приобщил Лобачевского к европейской науке; Броннер же раскрыл перед ним ту практическую философию, которой увлекались в то время в Германии. Лобачевский, никогда не выезжавший из России, конечно, заимствовал из этого учения только то, что ему самому было по душе. Мы не входим в оценку взглядов иллюминатов с теоретической точки зрения, но главное достоинство практической философии – те последствия, которые она имеет для жизни и деятельности. Может быть, этой философии Лобачевский обязан смелым энтузиазмом, который он проявил в своей научной деятельности; наверное, он обязан ей тем уважением к человеческой личности, которым, как мы увидим дальше, отличалась его педагогическая деятельность.
После Бартельса и Броннера приехали в Казань Реннер и Литтров. Реннер, бывший доцент Геттингенского университета, прекрасно знал математику и латынь, по характеру же своему рисуется нам личностью в высшей степени чистой, светлой и в то же время мягкой. Такие личности обыкновенно производят самое благотворное влияние на молодежь. Наконец, Литтров был известным в то время астрономом, отличавшимся высоким образованием, и в то же время философом и человеком, увлекавшимся идеями. Ему мы обязаны тем, что астрономия в Казанском университете процветала, не уступая в этом чистой математике. Под руководством Литтрова Лобачевский производил наблюдения над кометой в 1811 году, и сообщение Литтрова, напечатанное в «Казанских известиях» в том же году, было первым печатным словом о научных трудах Лобачевского. Мы видим, что годы развития Лобачевского протекли, можно сказать, при самых благоприятных условиях, несмотря на то, что в университете в правление Яковкина царствовал большой беспорядок и профессора, как мы видели, были стеснены в своей деятельности. Теперь мы приступим к описанию деятельности Лобачевского, в которой отразилось благотворное влияние хороших сторон первоначального гимназического и университетского образования.
Глава III
Деятельность Лобачевского во время эпохи «обновления» Казанского университета: Лобачевский исполняет завет Румовского. – Беспорядки в университетских делах; их причины и следствия. – Ревизия и донесение Магницкого. – Магницкий – попечитель Казанского учебного округа. – Отношение Лобачевского к эпохе «обновления» как профессора и члена совета.
Сближение с иностранцами и сильно развившийся интерес к науке имели самое благотворное влияние на характер Лобачевского. Он старался обуздывать проявления своей пылкости, сдерживал свою природную насмешливость, наблюдал за своими отношениями к людям и, под влиянием нескончаемых бесед с Броннером, глубоко задумывался над чувством долга и исполнением обязанностей. Одним словом, он отдавался той внутренней работе, которая создает человека. Даже в его внешности произошли перемены: в ней проявилась некоторая суровость, какой подвержены все пылкие люди, стремящиеся подавить свой темперамент. Лобачевский стал вести более правильный образ жизни для того, чтобы иметь больше времени заниматься наукой. Одним словом, он преобразился и отдался математике, как бы исполнив завет Румовского, переданный студентам в 1808 году в такой форме: «Желал бы я, чтобы между студентами больше находилось таких, которые приготовляли себя к наукам математическим, физическим и философским, чем к историческим, потому что первые требуют напряжения разума, а вторые – памяти».
Свою педагогическую деятельность Лобачевский начал рано: он впервые выступил на поприще преподавателя в 1812 году; в это время ему было поручено чтение публичного курса арифметики и геометрии для чиновников. Еще в 1809 году по Высочайшему повелению при Казанском университете учрежден был экзаменационный комитет для чиновников при производстве в восьмиклассный чин и открыты публичные летние курсы для того, чтобы чиновники, не имевшие возможности приготовляться дома, могли бесплатно слушать курс тех наук, из которых они должны были экзаменоваться. Замечательно, что первыми явившимися на экзамен в Казанский комитет были будущие попечители – Мусин-Пушкин и Молоствов.
Заслуживает внимания, что Лобачевский явился преемником своего младшего брата Алексея, который уезжал в то время по делам в Москву и в Нижний Новгород.
Полнота, отчетливость и необыкновенная ясность изложения в преподавании Н. Лобачевского тогда же обратили на него особое внимание, и в следующем году он официально был назначен, вместо брата, преподавателем публичных курсов арифметики и геометрии, а через год, 26 марта 1814 года, утвержден был адъюнктом.
История Казанского университета служит наглядным примером того, какое огромное влияние имеют у нас личности. Мы видели светлые и темные стороны влияния личности Румовского на Казанский университет. Посмотрим теперь, какие следы наложили на его жизнь попечители Казанского учебного округа Магницкий и Мусин-Пушкин.
Время начала педагогической деятельности Лобачевского совпало с неблагоприятными для Казанского университета веяниями. В Казанском университете начались беспорядки благодаря безграничному самовластию Яковкина, и слухи о них доходили в Петербург до министерства; из министерства следовали запросы; Яковкин и К° все сваливали на иностранцев, вследствие чего уже с 1815 года министерство народного просвещения стало неблагоприятно относиться к профессорам-иностранцам. Знавший жизнь и людей, Броннер почувствовал приближавшуюся реакцию и, взяв шестимесячный отпуск, навсегда уехал в Швейцарию. Итак, его деятельность в Казанском университете продолжалась около пяти лет. А ехал он с тем, чтобы посвятить всю жизнь делу просвещения России, сожалел, что не был хорошо знаком с русским языком, и, когда умирал кто-нибудь из русских знакомых, то говорил: «Ах, зачем он мне не оставил в наследство знание русского языка!»
И другие лучшие иностранцы-профессора спешили оставить Казанский университет. Ректором университета стал Браун, и в университете установлено было правильное разделение на факультеты, но беспорядки продолжались и после того, как был удален Яковкин как корень всех беспорядков. И так как ссоры не прекращались, то получено было, наконец, предписание университетскому совету, что государю угодно было повелеть Магницкому отправиться в Казань для обзора университета и училищ. Вскоре после того явился и Магницкий: он начал с осмотра университетских зданий и посещения лекций профессоров, а кончил донесением, имевшим важные последствия для Казанского университета. Магницкий нашел, что студенты не имеют должного понятия о заповедях Божьих, и писал, что время вникнуть в цель правительства, которое хочет, и хочет непреоборимо, положить единым основанием народного просвещения благочестие. В «благочестии» Магницкий видел единственное спасение от распущенности, созданной Яковкиным.
Лобачевский и Симонов были назначены экстраординарными профессорами, благодаря свидетельству г-на попечителя об отличных их познаниях и способностях, и утверждены министром.
В то время у университетского совета, вследствие постоянных раздоров между его членами, было отнято право выбирать профессоров. Даже протоколы совета, относящиеся к этому времени, переполнены множеством дел по таким жалобам, где были выведены на сцену жены, дочери, кухарки профессоров и явились в разоблачении самые сокровенные семейные дела.
Все университетские дела были запущены, библиотека находилась в крайнем беспорядке, кабинеты не имели ни описей, ни каталогов даже того немногого, что заключали в себе.
Лобачевский в то время мало принимал участия в совете; его здоровье настолько было тогда расстроено, что он для поправления его сначала ездил на свою родину, в Макарьев, а потом на Сергиевские серные воды. Ссоры профессоров действовали на него удручающим образом; сам же он как адъюнкт имел в совете право голоса только в делах, прямо относящихся к учебной части. Итак, деятельность его в то время в университете ограничивалась одним преподаванием, и в этом деле он до 1816 года считался помощником Бартельса.
Влияние личности Магницкого на судьбу Казанского университета было так велико, что нам придется сказать об этом особо. Он думал, что весь беспорядок в университетах наших произошел от образования, книг и людей, перешедших к нам из Германии. Там, по его мнению, зараза возмутительных начал, возникшая в Англии и усиленная во Франции, сделалась классической. Он говорил: «Науки и литература северной Германии так заражены, что пользоваться ими надо с величайшей осторожностью».
Итак, по взглядам своим Магницкий представлял нечто совсем противоположное Румовскому.
Магницкому мерещилось, что от этой «заразы и язвы» страдает и Казанский университет, что и беспорядки в совете, и распущенность студентов – все зависит от «разрушительных» начал. Он стремился искоренять эти начала со всей страстностью фанатика.
Сверх того, у него была своя излюбленная идея: он хотел соединить веру с просвещением. Под влиянием этой идеи в голове его созрел целый план преобразований, который он изложил министерству; он утверждал, что необходимо все взять в свои руки и с этой целью наблюдать за нравственностью не только студентов, но и преподавателей, которым надо предписывать не только действия, но и мысли.
Из всего этого видно, что сулила ревизия Магницкого Казанскому университету. И действительно, общий характер донесения Магницкого был таков, что в Петербурге возникла мысль о закрытии Казанского университета, но она была отвергнута государем Александром Благословенным. Однако Магницкий за свое усердие назначен был попечителем Казанского учебного округа. И тогда для Казанского университета настала так называемая эпоха «обновления». В 1819 году началось вместе с нею господство педагогических взглядов, противоположных прежним. В 1820 году не осталось никого из бывших учителей Лобачевского в Казани. Бартельс в этом году взял профессуру в Дерпте.
Лобачевский, получивший в 1814 году звание адъюнкта чистой математики, в 1816 году был сделан профессором. В это время Лобачевский главным образом занимался наукой; но в 1818 году он был избран членом училищного комитета, который должен был, по уставу, управлять всеми делами, касавшимися гимназий и училищ округа, подведомственных тогда не непосредственно попечителю, но университету. С 1819 года Лобачевский преподавал астрономию, заменяя отправившегося в кругосветное плавание Симонова. И Лобачевский, и Симонов чувствовали себя одинокими, проводив своих истинных наставников, и профессора с грустью расстались со своими учениками. Бартельс вспоминал в Дерпте своих даровитых казанских учеников. Литтров перешел в Пражский университет, но увез с собой много хороших воспоминаний о России. В своем сочинении «Картины из русской жизни» он говорит, что после той шири и того простора, к которым привыкаешь в России, дома чувствуешь себя, точно в клетке. Он высказывает также мысль, что этот простор должен наложить свою печать на духовную деятельность русского народа. И с таким высоким мнением о России Литтров поспешил убраться восвояси еще в 1816 году. Он, как и Броннер, взял отпуск, простился на время, а потом из-за границы написал, что оставляет Россию навсегда. Очевидно, настоящих ученых, приехавших в Россию не ради одних денег, смущали неопределенность положения, перемена различных веяний, зависимость от личностей и их произвола.
И они были правы. Вскоре Казанский университет так опустел, что профессора принуждены были занимать по нескольку кафедр, и Лобачевскому иногда приходилось, как говорится, растягиваться, воплощая в себе весь учительский персонал математического факультета.
В правление Магницкого для Казанского университета как бы наступила жестокая зима. Своим вмешательством в преподавание он совершенно лишил его жизни; лекции профессоров напоминали в то время «плохие песни соловья в когтях у кошки».
Магницкий принялся также исправлять студентов. Он составил для них правила самого строгого аскетизма, которые могли быть применены только к отшельникам и монахам. Провинившихся студентов называли грешниками, карцер носил название «комнаты уединения», на стенах которой можно было видеть изображение страшного суда. Об этих «грешниках» молились в церкви и им посылался духовник для увещаний. Чтобы уничтожить в студентах дух самонадеянности, высокомерия и развить в них дух смирения, заведено было по торжественным праздникам приготовлять на университетских дворах обеденные столы для нищей и убогой братии, и за столами этими должны были прислуживать студенты.
Награды и медали давались студентам не за успехи в науках, а за благочестие. От преподавателей Магницкий требовал повиновения. Он давал профессорам кафедры и назначал оклады по произволу. Все права университета были им нарушены.
Магницкий писал в то же время: «Промысел Божий чудесно возвел университет Казанский из расстройств, уничижения и стыда – в порядок, в славу, в пример всем прочим».