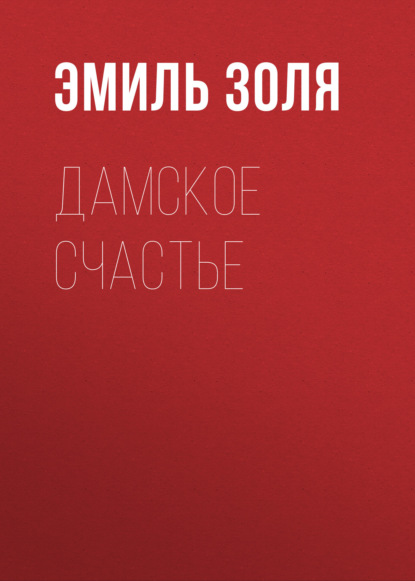По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дамское счастье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вам, кажется, нездоровится, господин Муре? – заметила г-жа де Бов.
– Все дела, – повторил Валаньоск с присущей ему флегматической иронией.
Муре быстро поднялся, раздосадованный тем, что позволил себе настолько забыться. Он поспешил занять обычное место среди дам и снова обрел присущую ему обходительность. Его занимали теперь зимние моды, и он заговорил о прибытии крупной партии кружев. Г-жа де Бов осведомилась у него о цене на алансонские кружева, – быть может, они ей понадобятся. В последнее время она вынуждена была экономить даже тридцать су на извозчика; а если ей случалось остановиться перед витриной магазина, она возвращалась домой совершенно больная. Манто она носила уже третий год, но мысленно примеряла на своих царственных плечах все дорогие ткани, которые попадались на глаза; ей казалось, что с нее содрали их вместе с кожей, когда, очнувшись, она видела на себе одно из своих старых, поношенных платьев и сознавала, что нет никакой надежды когда-либо удовлетворить свою страсть.
– Барон Гартман, – доложил лакей.
Анриетта заметила, как обрадовался Муре появлению гостя. Эльзасец раскланялся с дамами и взглянул на молодого человека с тем лукавством, которое порою озаряло его полную физиономию.
– Все о тряпках, – проворчал он, улыбаясь. И как свой человек в доме, позволил себе добавить: – В передней у вас какая-то премиленькая девушка. Кто это?
– Да так, никто, – со злостью в голосе ответила г-жа Дефорж. – Приказчица из магазина.
Пока лакей накрывал стол к чаю, дверь в переднюю оставалась приотворенной. Он то и дело входил и снова выходил, расставляя на столике китайские чашки и тарелки с сандвичами и печеньем. Яркий свет, несколько смягченный зеленью тропических растений, отражался на бронзовых украшениях просторной гостиной и с ласковым задором переливался на полупарчовой обивке мебели; и всякий раз как открывалась дверь, в просвете виднелся уголок темной передней, освещавшейся через матовые стекла. В этом полумраке можно было различить черную женскую фигуру, неподвижно и терпеливо стоявшую на одном месте. Хотя тут была скамеечка, обитая кожей, Дениза из гордости не желала сесть, предпочитая ждать стоя. Она чувствовала, что ее хотят унизить. Уже целых полчаса стояла она так, не проронив ни слова, не сделав ни одного движения; дамы и барон пристально оглядели ее, когда проходили мимо; теперь голоса из гостиной доносились до Денизы, словно легкие дуновения; вся эта светская роскошь оскорбляла ее своим равнодушием; но девушка все-таки не шевелилась. Неожиданно в распахнувшуюся дверь она увидела Муре; а он наконец догадался, кто это.
– Это одна из ваших приказчиц? – спросил барон Гартман.
Муре удалось скрыть охватившее его смущение, но голос его задрожал:
– Да, но не знаю, кто именно.
– Это молоденькая блондинка из отдела готовых вещей, – поспешила ответить г-жа Марти. – Кажется, она помощница заведующей.
Анриетта тоже смотрела на Муре.
– А! – просто сказал он.
И чтобы переменить разговор, начал рассказывать о празднествах в честь прусского короля, который накануне прибыл в Париж. Но барон не без задней мысли снова завел речь о продавщицах из больших магазинов. Делая вид, будто его это очень интересует, он стал расспрашивать: откуда они в основном набираются? Действительно ли они так распущенны, как говорят? Разгорелся целый спор.
– Вы в самом деле считаете их добродетельными? – допытывался барон.
Муре принялся отстаивать добронравие своих продавщиц с таким пылом, что Валаньоск расхохотался. Тогда, чтобы выручить патрона, в разговор вмешался Бутмон. Право же, среди них бывают всякие: и развратные, и честные. Впрочем, теперь они в целом отличаются более высокими нравственными устоями. В прежнее время в большие магазины шли только подонки торгового мира – девицы сомнительной репутации, без всяких средств; сейчас же многие семьи с улицы Севр воспитывают своих дочерей с расчетом определить их на службу в «Бон-Марше». Во всяком случае, если приказчицы хотят вести честный образ жизни, это зависит только от них самих, потому что им уже не нужно, как простым работницам, искать пропитания и крова на парижских тротуарах; у них имеется готовый стол и квартира, их существование – само по себе, конечно, очень тяжелое – как-никак обеспечено. Всего печальнее, разумеется, неопределенность их общественного положения, ибо это и не лавочницы, и не барышни. Живя в роскоши, но часто не имея даже начального образования, они представляют собой некий обособленный, безыменный класс. Этими обусловливаются их невзгоды и пороки.
– Что касается меня, – сказала графиня де Бов, – я не знаю более неприятных существ… Иной раз так и хочется побить их.
И дамы начали изливать накопившееся раздражение. Ибо за каждым прилавком идет вечная борьба, женщина пожирает женщину, соперничая из-за денег и красоты. Продавщицы всегда полны затаенной зависти по отношению к хорошо одетым покупательницам, к дамам, манеры которых они стараются перенять; а у бедно одетых покупательниц из среды мелкой буржуазии появляется еще более острая зависть по отношению к продавщицам, разодетым в шелк, и, покупая на каких-нибудь десять су, они требуют от продавщицы раболепия горничной.
– Ах, оставьте, все эти «бедняжки» так же продажны, как и их товары, – заключила Анриетта.
Муре принудил себя улыбнуться. Барон наблюдал за ним, восхищенный легкостью, с какою тот сдерживал себя. И барон переменил разговор, вернувшись к обсуждению предстоящих празднеств в честь прусского короля: они будут великолепны, парижский торговый мир изрядно наживется на них. Анриетта молчала и, видимо, соображала что-то: ей хотелось подольше продержать Денизу в передней, и в то же время она опасалась, как бы Муре, который теперь все знает, не ушел. В конце концов она поднялась с кресла.
– Вы извините меня?
– Конечно, дорогая, – сказала г-жа Марти. – Я похозяйничаю вместо вас.
Она встала, взяла чайник и наполнила чашки. Анриетта повернулась к барону Гартману:
– Вы побудете еще немного?
– Да, мне нужно поговорить с господином Муре; мы уединимся в маленькую гостиную.
Анриетта вышла, и ее черное шелковое платье прошелестело в дверях, словно змея, ускользающая в кусты.
Оставив дам на попечение Бутмона и Валаньоска, барон тотчас же поспешил увести Муре. Они стали у окна соседней гостиной и заговорили вполголоса. Имелось в виду новое предприятие. Уже давно Муре лелеял мечту – захватить под «Дамское счастье» весь квартал, от улицы Монсиньи до улицы Мишодьер и от Нев-Сент-Огюстен до улицы Десятого декабря. Среди массива домов на этой улице имелся обширный угловой участок, которым фирма еще не владела, – это-то обстоятельство и препятствовало осуществлению затеи Муре; его мучило желание завершить победу, воздвигнув здесь, как апофеоз, здание с монументальным фасадом. До тех пор пока главный вход в магазин будет с улицы Нев-Сент-Огюстен, с одной из темных улиц старого Парижа, замысел Муре останется незавершенным, не имеющим логического смысла. Муре хотел, чтобы «Дамское счастье» предстало перед лицом нового Парижа на одной из недавно проложенных улиц, где под яркими лучами солнца кипит современная сутолока. Мысленно он уже видел, как этот исполинский дворец торговли господствует над городом и отбрасывает больше тени, чем сам древний Лувр. До сих пор Муре наталкивался на упорство «Ипотечного кредита», руководители которого неизменно держались своей первоначальной мысли: создать на этом угловом участке конкурента Гранд-отелю. Проект был уже готов, и, чтобы приступить к закладке фундамента, ждали только окончательной расчистки улицы Десятого декабря. Но Муре предпринял еще несколько усилий и почти убедил барона Гартмана отказаться от этих планов.
– У нас вчера опять было совещание, – начал барон, – и я пришел сюда в надежде встретить вас и осведомить обо всем… Они все еще упорствуют.
У молодого человека вырвался нетерпеливый жест.
– Как неразумно!.. Что же они говорят?
– Да то же самое, что и я вам говорил и о чем и теперь еще подумываю… Ваш фасад, в сущности, одно украшение: новое здание увеличит площадь магазина не более чем на одну десятую, а это значит бросить весьма крупные суммы просто на рекламу.
Муре вспылил:
– Реклама! Реклама!.. Да ведь эта реклама будет из гранита и всех нас переживет. Поймите, что обороты у нас удесятерятся. В два года мы вернем весь затраченный капитал. Ну что из того, что, как вы выражаетесь, зря пропадет участок земли, если в конечном счете он принесет огромный барыш? Вы увидите, какая тут будет толпа, когда наши покупательницы перестанут душить друг друга в тесноте улицы Нев-Сент-Огюстен, а свободно ринутся по широкой мостовой, где легко может проехать шесть экипажей в ряд.
– Конечно, – сказал смеясь барон. – Но повторяю: вы в своем роде поэт. А наши акционеры считают, что дальнейшее расширение вашего дела просто рискованно. Они хотят быть осторожными ради вас же самих.
– Как! Осторожными? Ничего не понимаю… Ведь цифры у вас перед глазами, и эти цифры свидетельствуют о неуклонном росте нашего дела. Сначала с капиталом в пятьсот тысяч франков я делал оборот на два миллиона. Капитал оборачивался четыре раза. Затем он вырос до четырех миллионов, обернулся десять раз и дал прибыль, как если бы составлял сорок миллионов. Наконец, после ряда новых пополнений капитала, при составлении последнего баланса я установил, что наш оборот в этом году достиг восьмидесяти миллионов; основной капитал, правда, не очень вырос – он составляет всего-навсего шесть миллионов, но он более двенадцати раз обернулся в товарах, которые прошли через магазин.
Муре повысил голос и ударял пальцами правой руки по ладони левой, словно стряхивая миллионы, как скорлупу расколотого ореха.
– Знаю, знаю… – прервал его барон. – Но неужели вы рассчитываете на то, что этот рост будет бесконечен?
– Отчего же нет? – наивно возразил Муре. – Нет никаких оснований думать, что он остановится. Капитал может обернуться и пятнадцать раз, я это давно предсказывал. А в некоторых отделах он обернется и двадцать пять, даже тридцать раз… Потом… Ну что ж? Потом мы найдем какой-нибудь новый способ еще более увеличить обороты.
– Значит, кончится тем; что вы высосете из Парижа все деньги, как выпивают стакан воды?
– Разумеется. Ведь Париж принадлежит женщинам, а женщины принадлежат нам!
Барон положил ему обе руки на плечи и отечески посмотрел на него.
– Право, вы славный малый, вы мне нравитесь… Перечить вам невозможно. Мы еще раз серьезно изучим этот вопрос, и, надеюсь, мне удастся их переубедить. До сих пор мы могли только хвалиться вами. Своими дивидендами вы изумляете биржу… Видимо, вы правы, и, пожалуй, лучше вложить еще денег в вашу машину, чем рисковать, затевая конкуренцию с Гранд-отелем, которая как-никак еще весьма сомнительна.
Возбуждение Муре улеглось; он стал благодарить барона, но без присущего ему пыла, и тот заметил, что Муре бросил взгляд на дверь в соседнюю комнату, вновь охваченный глухим беспокойством, которое все время старался скрыть. Тут, поняв, что они перестали говорить о делах, к ним подошел Валаньоск. В эту минуту барон шепнул Муре с игривым видом старого прожигателя жизни:
– Скажите: они, кажется, мстят?
– Кто? – спросил в замешательстве Муре.
– Да женщины… Им надоедает быть в вашей власти, дорогой мой, теперь вы принадлежите им: перемена справедливая!
Он стал шутить; ему были известны бурные любовные похождения молодого человека. Особняк, купленный для закулисной потаскушки, крупные суммы денег, ушедшие на кокоток, подобранных в отдельных кабинетах, – все это забавляло барона, словно оправдывало его собственные былые шалости. За свою долгую жизнь он сам прошел через все это.
– Право же, я не понимаю, – повторял Муре.
– Э, отлично все понимаете! Последнее слово всегда за ними… Я так и думал: невозможно это, он просто хвастается, не настолько уж он силен! Вот вы и попались! Вытягивайте из женщины все, что можно, эксплуатируйте ее, как угольную шахту! Но все это кончится тем, что эксплуатировать вас примется она, да еще поставит на колени!.. Будьте же осторожны, а то она высосет из вас гораздо больше денег и крови, чем вам удалось высосать из нее.
– Все дела, – повторил Валаньоск с присущей ему флегматической иронией.
Муре быстро поднялся, раздосадованный тем, что позволил себе настолько забыться. Он поспешил занять обычное место среди дам и снова обрел присущую ему обходительность. Его занимали теперь зимние моды, и он заговорил о прибытии крупной партии кружев. Г-жа де Бов осведомилась у него о цене на алансонские кружева, – быть может, они ей понадобятся. В последнее время она вынуждена была экономить даже тридцать су на извозчика; а если ей случалось остановиться перед витриной магазина, она возвращалась домой совершенно больная. Манто она носила уже третий год, но мысленно примеряла на своих царственных плечах все дорогие ткани, которые попадались на глаза; ей казалось, что с нее содрали их вместе с кожей, когда, очнувшись, она видела на себе одно из своих старых, поношенных платьев и сознавала, что нет никакой надежды когда-либо удовлетворить свою страсть.
– Барон Гартман, – доложил лакей.
Анриетта заметила, как обрадовался Муре появлению гостя. Эльзасец раскланялся с дамами и взглянул на молодого человека с тем лукавством, которое порою озаряло его полную физиономию.
– Все о тряпках, – проворчал он, улыбаясь. И как свой человек в доме, позволил себе добавить: – В передней у вас какая-то премиленькая девушка. Кто это?
– Да так, никто, – со злостью в голосе ответила г-жа Дефорж. – Приказчица из магазина.
Пока лакей накрывал стол к чаю, дверь в переднюю оставалась приотворенной. Он то и дело входил и снова выходил, расставляя на столике китайские чашки и тарелки с сандвичами и печеньем. Яркий свет, несколько смягченный зеленью тропических растений, отражался на бронзовых украшениях просторной гостиной и с ласковым задором переливался на полупарчовой обивке мебели; и всякий раз как открывалась дверь, в просвете виднелся уголок темной передней, освещавшейся через матовые стекла. В этом полумраке можно было различить черную женскую фигуру, неподвижно и терпеливо стоявшую на одном месте. Хотя тут была скамеечка, обитая кожей, Дениза из гордости не желала сесть, предпочитая ждать стоя. Она чувствовала, что ее хотят унизить. Уже целых полчаса стояла она так, не проронив ни слова, не сделав ни одного движения; дамы и барон пристально оглядели ее, когда проходили мимо; теперь голоса из гостиной доносились до Денизы, словно легкие дуновения; вся эта светская роскошь оскорбляла ее своим равнодушием; но девушка все-таки не шевелилась. Неожиданно в распахнувшуюся дверь она увидела Муре; а он наконец догадался, кто это.
– Это одна из ваших приказчиц? – спросил барон Гартман.
Муре удалось скрыть охватившее его смущение, но голос его задрожал:
– Да, но не знаю, кто именно.
– Это молоденькая блондинка из отдела готовых вещей, – поспешила ответить г-жа Марти. – Кажется, она помощница заведующей.
Анриетта тоже смотрела на Муре.
– А! – просто сказал он.
И чтобы переменить разговор, начал рассказывать о празднествах в честь прусского короля, который накануне прибыл в Париж. Но барон не без задней мысли снова завел речь о продавщицах из больших магазинов. Делая вид, будто его это очень интересует, он стал расспрашивать: откуда они в основном набираются? Действительно ли они так распущенны, как говорят? Разгорелся целый спор.
– Вы в самом деле считаете их добродетельными? – допытывался барон.
Муре принялся отстаивать добронравие своих продавщиц с таким пылом, что Валаньоск расхохотался. Тогда, чтобы выручить патрона, в разговор вмешался Бутмон. Право же, среди них бывают всякие: и развратные, и честные. Впрочем, теперь они в целом отличаются более высокими нравственными устоями. В прежнее время в большие магазины шли только подонки торгового мира – девицы сомнительной репутации, без всяких средств; сейчас же многие семьи с улицы Севр воспитывают своих дочерей с расчетом определить их на службу в «Бон-Марше». Во всяком случае, если приказчицы хотят вести честный образ жизни, это зависит только от них самих, потому что им уже не нужно, как простым работницам, искать пропитания и крова на парижских тротуарах; у них имеется готовый стол и квартира, их существование – само по себе, конечно, очень тяжелое – как-никак обеспечено. Всего печальнее, разумеется, неопределенность их общественного положения, ибо это и не лавочницы, и не барышни. Живя в роскоши, но часто не имея даже начального образования, они представляют собой некий обособленный, безыменный класс. Этими обусловливаются их невзгоды и пороки.
– Что касается меня, – сказала графиня де Бов, – я не знаю более неприятных существ… Иной раз так и хочется побить их.
И дамы начали изливать накопившееся раздражение. Ибо за каждым прилавком идет вечная борьба, женщина пожирает женщину, соперничая из-за денег и красоты. Продавщицы всегда полны затаенной зависти по отношению к хорошо одетым покупательницам, к дамам, манеры которых они стараются перенять; а у бедно одетых покупательниц из среды мелкой буржуазии появляется еще более острая зависть по отношению к продавщицам, разодетым в шелк, и, покупая на каких-нибудь десять су, они требуют от продавщицы раболепия горничной.
– Ах, оставьте, все эти «бедняжки» так же продажны, как и их товары, – заключила Анриетта.
Муре принудил себя улыбнуться. Барон наблюдал за ним, восхищенный легкостью, с какою тот сдерживал себя. И барон переменил разговор, вернувшись к обсуждению предстоящих празднеств в честь прусского короля: они будут великолепны, парижский торговый мир изрядно наживется на них. Анриетта молчала и, видимо, соображала что-то: ей хотелось подольше продержать Денизу в передней, и в то же время она опасалась, как бы Муре, который теперь все знает, не ушел. В конце концов она поднялась с кресла.
– Вы извините меня?
– Конечно, дорогая, – сказала г-жа Марти. – Я похозяйничаю вместо вас.
Она встала, взяла чайник и наполнила чашки. Анриетта повернулась к барону Гартману:
– Вы побудете еще немного?
– Да, мне нужно поговорить с господином Муре; мы уединимся в маленькую гостиную.
Анриетта вышла, и ее черное шелковое платье прошелестело в дверях, словно змея, ускользающая в кусты.
Оставив дам на попечение Бутмона и Валаньоска, барон тотчас же поспешил увести Муре. Они стали у окна соседней гостиной и заговорили вполголоса. Имелось в виду новое предприятие. Уже давно Муре лелеял мечту – захватить под «Дамское счастье» весь квартал, от улицы Монсиньи до улицы Мишодьер и от Нев-Сент-Огюстен до улицы Десятого декабря. Среди массива домов на этой улице имелся обширный угловой участок, которым фирма еще не владела, – это-то обстоятельство и препятствовало осуществлению затеи Муре; его мучило желание завершить победу, воздвигнув здесь, как апофеоз, здание с монументальным фасадом. До тех пор пока главный вход в магазин будет с улицы Нев-Сент-Огюстен, с одной из темных улиц старого Парижа, замысел Муре останется незавершенным, не имеющим логического смысла. Муре хотел, чтобы «Дамское счастье» предстало перед лицом нового Парижа на одной из недавно проложенных улиц, где под яркими лучами солнца кипит современная сутолока. Мысленно он уже видел, как этот исполинский дворец торговли господствует над городом и отбрасывает больше тени, чем сам древний Лувр. До сих пор Муре наталкивался на упорство «Ипотечного кредита», руководители которого неизменно держались своей первоначальной мысли: создать на этом угловом участке конкурента Гранд-отелю. Проект был уже готов, и, чтобы приступить к закладке фундамента, ждали только окончательной расчистки улицы Десятого декабря. Но Муре предпринял еще несколько усилий и почти убедил барона Гартмана отказаться от этих планов.
– У нас вчера опять было совещание, – начал барон, – и я пришел сюда в надежде встретить вас и осведомить обо всем… Они все еще упорствуют.
У молодого человека вырвался нетерпеливый жест.
– Как неразумно!.. Что же они говорят?
– Да то же самое, что и я вам говорил и о чем и теперь еще подумываю… Ваш фасад, в сущности, одно украшение: новое здание увеличит площадь магазина не более чем на одну десятую, а это значит бросить весьма крупные суммы просто на рекламу.
Муре вспылил:
– Реклама! Реклама!.. Да ведь эта реклама будет из гранита и всех нас переживет. Поймите, что обороты у нас удесятерятся. В два года мы вернем весь затраченный капитал. Ну что из того, что, как вы выражаетесь, зря пропадет участок земли, если в конечном счете он принесет огромный барыш? Вы увидите, какая тут будет толпа, когда наши покупательницы перестанут душить друг друга в тесноте улицы Нев-Сент-Огюстен, а свободно ринутся по широкой мостовой, где легко может проехать шесть экипажей в ряд.
– Конечно, – сказал смеясь барон. – Но повторяю: вы в своем роде поэт. А наши акционеры считают, что дальнейшее расширение вашего дела просто рискованно. Они хотят быть осторожными ради вас же самих.
– Как! Осторожными? Ничего не понимаю… Ведь цифры у вас перед глазами, и эти цифры свидетельствуют о неуклонном росте нашего дела. Сначала с капиталом в пятьсот тысяч франков я делал оборот на два миллиона. Капитал оборачивался четыре раза. Затем он вырос до четырех миллионов, обернулся десять раз и дал прибыль, как если бы составлял сорок миллионов. Наконец, после ряда новых пополнений капитала, при составлении последнего баланса я установил, что наш оборот в этом году достиг восьмидесяти миллионов; основной капитал, правда, не очень вырос – он составляет всего-навсего шесть миллионов, но он более двенадцати раз обернулся в товарах, которые прошли через магазин.
Муре повысил голос и ударял пальцами правой руки по ладони левой, словно стряхивая миллионы, как скорлупу расколотого ореха.
– Знаю, знаю… – прервал его барон. – Но неужели вы рассчитываете на то, что этот рост будет бесконечен?
– Отчего же нет? – наивно возразил Муре. – Нет никаких оснований думать, что он остановится. Капитал может обернуться и пятнадцать раз, я это давно предсказывал. А в некоторых отделах он обернется и двадцать пять, даже тридцать раз… Потом… Ну что ж? Потом мы найдем какой-нибудь новый способ еще более увеличить обороты.
– Значит, кончится тем; что вы высосете из Парижа все деньги, как выпивают стакан воды?
– Разумеется. Ведь Париж принадлежит женщинам, а женщины принадлежат нам!
Барон положил ему обе руки на плечи и отечески посмотрел на него.
– Право, вы славный малый, вы мне нравитесь… Перечить вам невозможно. Мы еще раз серьезно изучим этот вопрос, и, надеюсь, мне удастся их переубедить. До сих пор мы могли только хвалиться вами. Своими дивидендами вы изумляете биржу… Видимо, вы правы, и, пожалуй, лучше вложить еще денег в вашу машину, чем рисковать, затевая конкуренцию с Гранд-отелем, которая как-никак еще весьма сомнительна.
Возбуждение Муре улеглось; он стал благодарить барона, но без присущего ему пыла, и тот заметил, что Муре бросил взгляд на дверь в соседнюю комнату, вновь охваченный глухим беспокойством, которое все время старался скрыть. Тут, поняв, что они перестали говорить о делах, к ним подошел Валаньоск. В эту минуту барон шепнул Муре с игривым видом старого прожигателя жизни:
– Скажите: они, кажется, мстят?
– Кто? – спросил в замешательстве Муре.
– Да женщины… Им надоедает быть в вашей власти, дорогой мой, теперь вы принадлежите им: перемена справедливая!
Он стал шутить; ему были известны бурные любовные похождения молодого человека. Особняк, купленный для закулисной потаскушки, крупные суммы денег, ушедшие на кокоток, подобранных в отдельных кабинетах, – все это забавляло барона, словно оправдывало его собственные былые шалости. За свою долгую жизнь он сам прошел через все это.
– Право же, я не понимаю, – повторял Муре.
– Э, отлично все понимаете! Последнее слово всегда за ними… Я так и думал: невозможно это, он просто хвастается, не настолько уж он силен! Вот вы и попались! Вытягивайте из женщины все, что можно, эксплуатируйте ее, как угольную шахту! Но все это кончится тем, что эксплуатировать вас примется она, да еще поставит на колени!.. Будьте же осторожны, а то она высосет из вас гораздо больше денег и крови, чем вам удалось высосать из нее.