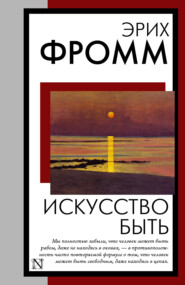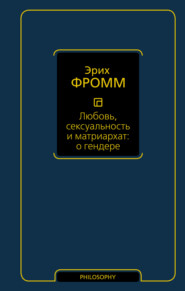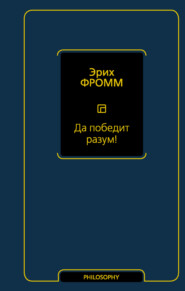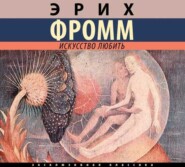По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искусство слушать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я хотел бы проиллюстрировать доброкачественный невроз короткой историей болезни мексиканки – незамужней, в возрасте около 25 лет, проявлявшей симптомы гомосексуальности. С 18 лет у нее были только гомосексуальные отношения с другими девушками. В тот момент, когда она обратилась к психоаналитику, у нее была гомосексуальная связь с певицей кабаре; она каждый вечер отправлялась слушать свою подругу и напивалась. Подруга плохо с ней обращалась, но, несмотря на это, пациентка во всем ей подчинялась и продолжала терпеть подобное обращение из опасений, что в случае протеста та ее оставит. В результате у нее развилась депрессия, и она обратилась к психоаналитику в надежде разорвать порочный круг.
Картина довольно печальная: гомосексуальность, к тому же отягощенная постоянной тревогой, легкой депрессией, бесцельностью жизни и т. д. Какова история этой девушки? Ее мать долгое время была любовницей богатого человека, и дочь была их отпрыском. Мужчина был в определенном смысле верен своей любовнице, постоянно поддерживал ее и девочку, но официально отцом девочки не являлся – в семье он отсутствовал. Мать, впрочем, была исключительно расчетлива и использовала дочь для того, чтобы получать от ее отца деньги. Она посылала девочку клянчить у отца деньги, шантажировала его через дочь, всячески унижала ее. Сестра матери была хозяйкой борделя. Она старалась сделать из девочки проститутку, и девочка действительно дважды – тогда она была уже не так мала – появлялась за деньги обнаженной перед мужчинами. Наверное, бедняжке потребовалось проявить большое упорство, чтобы не пойти дальше. Однако она все время испытывала враждебность: можно представить, как ее дразнили соседские дети – девочка не только росла без отца, но еще и приходилась племянницей хозяйке борделя.
Так к пятнадцати годам девочка превратилась в запуганное одинокое существо, ничего от жизни не ожидающее. Затем отец пожелал отправить ее в колледж в Соединенные Штаты. Можно себе представить, как неожиданно изменилось окружение девочки. В довольно элегантном американском колледже нашлась соученица, проявившая доброту и привязанность, и между девочками начался гомосексуальный роман. В этом не было ничего удивительного. Я нахожу совершенно естественным, что запуганная девочка, с таким прошлым, как у нее, вступила в связь с первым существом – мужчиной, женщиной или животным, проявившим к ней настоящую привязанность; это был первый случай, когда девочка вырвалась из ада. Потом у нее были другие гомосексуальные связи, а вернувшись в Мексику, она снова попала в прежний ужас, вечно неуверенная в себе, вечно испытывающая стыд. Потом она встретила ту женщину из кабаре, попала к ней в подчинение и именно тогда обратилась к психоаналитику.
Вследствие психоанализа – на протяжении где-то двух лет – происходило следующее: сначала пациентка рассталась со своей гомосексуальной партнершей, потом некоторое время оставалась одна, потом начала встречаться с мужчинами, влюбилась, вышла замуж и даже не была фригидна. Это явно не был случай настоящей гомосексуальности. Я говорю «настоящей» – кто-то может со мной не согласиться, – но, на мой взгляд, это была такая гомосексуальность, какая в определенных обстоятельствах может проявиться у большинства людей.
На самом деле это была девушка, которая – это видно из ее сновидений – просто до смерти боялась жизни; она была подобна узнице, вышедшей из концентрационного лагеря, и все ее ожидания и страхи были обусловлены ее опытом. За относительно короткое время, учитывая, какое время обычно требуется на психоанализ, пациентка превратилась в совершенно нормальную девушку с нормальными реакциями.
Я привожу этот пример, просто чтобы доказать, что имею в виду – и что, как мне кажется, имеет в виду Фрейд: большую роль травмы в происхождении невроза в противоположность конституциональным факторам. Конечно, я осознаю, что, когда Фрейд говорит о травме, он подразумевает под ней нечто отличное от того, что подразумевал бы я – он видел бы причину травмы в первую очередь в сексуальной природе и считал бы, что травма возникает в раннем возрасте. Я считаю, что очень часто травма является длительным процессом, в котором одно переживание следует за другим; в конце концов происходит их суммирование и даже больше чем суммирование: такое нагромождение переживаний, которое в определенной мере, думаю, не слишком отличается от военного невроза, когда после точки перелома пациент заболевает.
Тем не менее травма – нечто, связанное с окружающей средой, представляющей собой опыт жизни, реальной жизни. Это верно для той девушки и для тех пострадавших от травмы пациентов, ядро характера которых не было существенно разрушено. Внешне картина может выглядеть очень тяжелой, но, несмотря на это, у них имеется хороший шанс выздороветь и в довольно короткое время преодолеть реактивный невроз именно вследствие того, что конституционально они благополучны.
В этой связи хочу подчеркнуть, что в случае доброкачественного, или реактивного, невроза, травматическое воздействие должно быть весьма сильным, чтобы послужить объяснением возникновения невротического заболевания. Если причина травмы видится в слабом отце и властной матери, то такая «травма» не объясняет, почему человек страдает от невроза; огромное количество людей имеют слабого отца и властную мать, однако не становятся из-за этого невротиками. Другими словами, если я хочу объяснить возникновение невроза травматическим событием, я должен предположить, что это травматическое событие имеет столь чрезвычайную природу, что нельзя представить себе человека с таким же травматическим прошлым, который был бы совершенно здоров. Поэтому я думаю, что в тех случаях, когда человек не может сослаться на что-то большее, чем слабый отец и властная мать, следует предположить возможность воздействия конституциональных факторов, иначе говоря, тех факторов, которые делают человека предрасположенным к неврозу и при которых роль слабого отца и властной матери делается травматичной только в силу их наличия. В идеальных условиях такой человек мог бы и не заболеть.
Я не согласен с тем, что мои объяснения недостаточны, поскольку при равных условиях один человек заболевает, а другие – нет. Вы встречаете семью с восемью детьми, один из которых заболевает, а остальные – нет. Обычно приводятся такие доводы: «Да, но он был первенцем… вторым по порядку… средним… Бог знает что еще» – поэтому-то его опыт отличается от опыта остальных. Это весьма удобно для тех, кто любит утешать себя тем, что обнаружил травму, однако для меня это очень расплывчатые рассуждения.
Естественно, может существовать травматическое переживание, о котором мы не знаем, которое не выяснилось при анализе. Я буду очень счастлив, если психоаналитику хватит умения обнаружить это действительно чрезвычайно сильное травматическое воздействие и он сможет показать, насколько оно основополагающе для развития невроза. Однако я просто не могу назвать это травмой, когда в стольких других случаях это переживание не оказывается травматическим. Существует множество травматических переживаний, которые действительно бывают чрезвычайными. Поэтому я и привел данный пример.
Есть и еще один пример, который мне хотелось бы упомянуть. Это очень современный феномен и вопрос, на который трудно ответить. Насколько болен на самом деле современный представитель организации – отчужденный, нарциссический, лишенный принадлежности к чему бы то ни было, не испытывающий истинного интереса к жизни, интересующийся лишь гаджетами, которого спортивный автомобиль возбуждает гораздо больше, чем женщина? Насколько он в таком случае болен?
В одном смысле можно сказать, что да, он серьезно болен, и все симптомы налицо: он испуган, он неуверен в себе, он нуждается в постоянном подтверждении своего нарциссизма. В то же время мы не можем назвать больным все общество: люди функционируют. Думаю, что проблема для людей заключается в том, как им удается приспосабливаться к общему заболеванию или к тому, что можно назвать «патологией нормальности». В таких случаях проблема терапии очень сложна. Этот человек действительно страдает от «ядерного» конфликта, другими словами, от глубокого расстройства ядра своей личности: он проявляет чрезвычайный нарциссизм и отсутствие любви к жизни. Для излечения ему пришлось бы в первую очередь изменить всю свою личность. Кроме того, почти все общество обернется против него, потому что все общество одобряет его невроз. Здесь вы сталкиваетесь с парадоксом: теоретически перед вами больной человек, но в другом смысле он не болен. Бывает очень трудно определить, какой психоанализ подойдет в данном случае; я действительно вижу в этом значительную трудность.
Если говорить о том, что я называю доброкачественным неврозом, то тут задача сравнительно проста, потому что вы имеете дело с нетронутой структурой ядерной энергии, структурой характера; вы имеете дело с травматическими событиями, объясняющими отчасти патологическую деформацию. В атмосфере анализа – как в смысле извлечения на поверхность бессознательного материала, так и возникновения терапевтических отношений с психоаналитиком – у таких пациентов очень хороший шанс на излечение.
Я уже говорил о том, что понимаю под злокачественным неврозом. Это тот невроз, при котором ядро структуры характера повреждено, когда человеку присущи чрезвычайно некрофильские, нарциссические тенденции, тенденции фиксации на матери; в самых тяжелых случаях имеют место все три, смешивающиеся друг с другом. Здесь работа психоаналитика по излечению заключалась бы в изменении направления разряда энергии внутри ядерной структуры. Необходимо было бы добиться, чтобы нарциссизм, некрофилия, кровосмесительные фиксации изменились. Даже если они не изменятся полностью, даже если произойдет небольшой разряд энергии в том, что последователи Фрейда называют катексисом, для пациента это составит огромную разницу. Если ему удастся уменьшить свой нарциссизм, развить биофилию, увеличить интерес к жизни и т. д., этот человек определенно получит шанс на излечение.
Говоря о психоаналитическом лечении, на мой взгляд, нужно очень хорошо осознавать различие шансов на выздоровление в случаях доброкачественного и злокачественного неврозов. Можно было бы сказать, что в действительности это различие между неврозом и психозом, но на самом деле это не так, потому что многое из того, что я называю злокачественным искажением характера, не является психозом. Я говорю здесь о феномене, обнаруживаемом у пациентов, проявляющих или не проявляющих симптомы, которые не психотики, даже близко не психотики, которые, возможно, никогда не станут психотиками, но проблема излечения которых разительно отличается от таковой у страдающих доброкачественным неврозом.
Отличается и природа сопротивления. У пациента с доброкачественным неврозом вы обнаружите неуверенность, страх и т. д., но, поскольку ядро личности на самом деле нормально, такое сопротивление относительно легко преодолеть. Если же взять сопротивление того, кого я называю страдающим злокачественным, тяжелым неврозом, то оно глубоко укоренено, потому что такому человеку пришлось бы признаться себе и многим другим, что он совершенно нарциссичен, что на самом деле никого не любит. Другими словами, ему пришлось бы бороться с инсайтом с гораздо большим упорством, чем пациенту с доброкачественным неврозом.
Каков метод лечения при тяжелом неврозе? Я не верю в то, что проблема, по сути, состоит в усилении эго. Думаю, что проблема заключается в следующем: пациент противостоит иррациональной архаичной части своей личности собственной вменяемой, взрослой, нормальной частью, и именно это противостояние и создает конфликт. Этот конфликт пробуждает силы – согласно теории, что в личности присутствует более или менее сильное стремление к здоровью, к лучшему равновесию с миром, представляющему собой конституциональный фактор. Для меня главное содержание психоаналитического лечения состоит именно в конфликте, порождаемом встречей иррациональной и рациональной частей личности.
Одно из следствий для психоаналитической техники заключается в следующем: пациент при анализе должен следовать двум направлениям – он должен бессознательно ощущать себя маленьким ребенком, двух-трехлетним, но одновременно быть также взрослой, ответственной личностью, противостоящей той своей части, потому что именно в этой конфронтации он испытывает шок, ощущение конфликта, ощущение движения, необходимые для психоаналитического излечения.
С этой точки зрения фрейдистский способ не подходит. Мне представляется, что мы видим здесь две крайности: фрейдистская крайность состоит в искусственной инфантилизации пациента положением на кушетке, позади которой сидит психоаналитик, всей ритуальной ситуацией. Фрейд полагал, как объяснил это Рене Шпиц[4 - Шпиц Рене (1887–1974) – австро-американский психоаналитик, специалист в области детского психоанализа.] в своей статье, что такова истинная цель аналитической ситуации – искусственно инфантизировать пациента, чтобы вывести на поверхность больше бессознательного материала. Недостатком этого метода мне представляется тот факт, что так пациент никогда не противопоставляет себя архаичному, инфантильному материалу; он погружается в бессознательное, он превращается в ребенка. Происходящее – своего рода сновидение, но в состоянии бодрствования. Всё выходит на поверхность, всё проявляется, но пациент при этом не присутствует.
Однако то, что пациент – маленький ребенок, неверно. Пациент (предположим на мгновение, что это – тяжелый психопат) одновременно и нормальный взрослый человек, обладающий здравым смыслом, интеллектом, всеми реакциями нормального человека. В силу этого он способен реагировать на младенца внутри себя. Если такого противостояния не происходит, как это обычно случается при фрейдистском методе, тогда конфликт не проявляется и не начинается движения. На мой взгляд, отсутствует главное условие психоаналитического излечения.
Другой крайностью, отличной от фрейдистского метода, является психотерапевтический подход, который иногда тоже называют психоанализом и при котором процесс вырождается в психологическую беседу между аналитиком и взрослым пациентом, когда ребенок не появляется вовсе, когда к пациенту обращаются так, как будто в нем нет архаических сил, когда аналитик надеется при помощи увещеваний, милых обращений к пациенту типа «ваша мать была плохой, ваш отец был плохим, но я помогу вам, вы будете в безопасности» излечить его. Очень легкий невроз так вылечить можно, но, мне кажется, есть способы сделать это не за пять лет, а значительно быстрее. Я полагаю, что тяжелый невроз никогда не будет излечен, если только, как говорил Фрейд, вы не вытащили на поверхность достаточное количество важного бессознательного материала.
Я хочу сказать просто следующее: аналитическая ситуация как пациента, так и в определенном смысле психоаналитика парадоксальна: пациент и не младенец, и не иррациональная личность со всякими безумными фантазиями; он и не взрослый человек, с которым можно разумно говорить о его симптомах. Пациент должен быть в силах одновременно ощущать себя обоими и тем самым испытывать именно ту конфронтацию, которая приводит события в движение.
Главное содержание лечения для меня – реальный конфликт, порождаемый у пациента этим противоречием. Такая конфронтация не может быть вызвана в теории и не может быть достигнута просто словами. Даже если для этого нужна простая вещь – как когда пациент говорит «я боялся своей матери», – что это значит? Со страхом такого рода все мы знакомы: мы боимся школьного учителя, боимся полицейского, боимся кого-то, кто может причинить нам боль – в этом нет ничего такого уж потрясающего. Однако, возможно, то, что пациент имеет в виду, когда говорит, что боялся матери, может быть описано, скажем, в таких терминах: «меня посадили в клетку. В той же клетке сидит лев. Кто-то впихнул меня внутрь и закрыл дверцу. Что я чувствую?» В сновидении происходит именно это: крокодил, лев или тигр пытается напасть на спящего. Однако использование слов «я боялся своей матери» избавляет от необходимости разбираться с настоящим страхом пациента.
3. Конституциональные и другие факторы излечения
Я перехожу теперь к некоторым другим факторам – некоторым благоприятным, некоторым неблагоприятным. В первую очередь рассмотрим конституциональные факторы. Я уже указывал на то, что считаю конституциональные факторы чрезвычайно важными. Если бы тридцать лет назад я услышал от кого-то то, что говорю сейчас сам, я бы очень возмутился; я назвал бы сказанное реакционным, фашистским пессимизмом, не допускающим изменений. Однако через несколько лет психоаналитической практики я убедил себя – не на какой-либо теоретической основе, потому что ничего не знаю о теории наследственности, а на основании собственного опыта, – что просто неверно считать, будто степень невроза можно оценить всего лишь пропорционально травматическим и жизненным обстоятельствам.
Все получается хорошо, если у вас гомосексуальный пациент, и вы выясняете, что у него очень властная мать и очень слабый отец; тогда вы приходите к теории, которая объясняет гомосексуальность. Однако потом у вас появляется десять пациентов, у которых точно такие же властные матери и слабые отцы, а гомосексуальность отсутствует. Вы наблюдаете сходные факторы окружающей среды, имеющие совсем другой эффект. Поэтому я полагаю, что, если только вы не имеете дела с чрезвычайно травматичными факторами (такими, как я описывал выше), вы не можете на самом деле понять развитие невроза, если не примете во внимание конституциональные факторы, которые то ли в одиночку, потому что так сильны, то ли в сочетании с некоторыми условиями делают факторы окружающей среды чрезвычайно травматичными, в то время как другие – нет.
Конечно, различие между взглядами Фрейда и моими заключается в том, что Фрейд, говоря о конституциональных факторах, думает, по сути, о факторах инстинктивных, в терминах теории либидо. Я полагаю, что конституциональные факторы заходят гораздо дальше. Хотя сейчас я не могу объяснить этого подробнее, я считаю, что в конституциональные факторы входят не только те, которые обычно определяются как темперамент, будь это темперамент в греческом смысле или в смысле Шелдона[5 - Шелдон У. Г. (1898–1977) – американский психолог, автор конституциональной теории темперамента.]; к ним относятся жизненная сила, любовь к жизни, мужество и многие другие, которые я даже не буду перечислять. Другими словами, я полагаю, что человек благодаря лотерее хромосом уже в момент зачатия представляет собой вполне определенное существо. Проблема жизни человека на самом деле заключается в том, что жизнь делает с конкретным человеком, который уже рожден с определенными качествами. Думаю, для психоаналитика было бы хорошим упражнением рассмотреть, каким пациент стал бы, если бы жизненные условия были благоприятны для человека – такого, каким он был зачат, и какие конкретно искажения и повреждения причинили этому человеку обстоятельства.
К благоприятным конституциональным факторам относится степень жизненной силы, особенно любви к жизни. Лично я думаю, что и при довольно тяжелом неврозе – изрядном нарциссизме, даже значительной кровосмесительной фиксации, – наличие любви к жизни создает совершенно иную картину. Приведу два примера: один – Рузвельт, другой – Гитлер. Оба были довольно нарциссичны, Рузвельт, несомненно, меньше Гитлера, но все же изрядно. Оба имели фиксацию на матери; Гитлер, возможно, в более злокачественной и глубокой форме, чем Рузвельт. Однако решающее различие заключалось в том, что Рузвельт был полон любви к жизни, а Гитлер – любви к смерти; целью Гитлера было разрушение; этой цели он даже не осознавал, на протяжении многих лет считая, что его цель – спасение. Однако на самом деле это было разрушение, и все, что вело к разрушению, влекло его. Здесь вы видите две личности, в которых фактор нарциссизма и фактор фиксации на матери хотя и в разной степени, но были явственно выражены. Но что было совершенно различным, так это относительная степень биофилии и некрофилии. Если мой пациент тяжело болен, но я вижу в нем обилие биофилии, я смотрю на вещи оптимистически. Если в добавление ко всему я наблюдаю очень мало биофилии и обилие некрофилии, мой прогноз совершенно пессимистичен.
Существуют и другие факторы, приводящие к успеху или провалу лечения, которые я хочу кратко упомянуть. Они не являются конституциональными, и я полагаю, что они могут быть выявлены во время первых пяти сессий психоанализа.
Один из них – достиг ли пациент дна своего страдания. Я знаю одного психотерапевта, который берется работать только с теми пациентами, которые испробовали все доступные в Соединенных Штатах методы терапии; если ни один из них не помог, он берется за лечение. Это, конечно, могло бы послужить очень хорошим алиби для его собственной неудачи, но в данном случае это действительно доказывает, что пациент достиг дна своих страданий. Я думаю, что выяснить это очень важно. Салливан имел привычку особенно подчеркивать данную позицию, хотя в несколько иных терминах: пациент должен доказать, почему он нуждается в лечении. Под этим он не понимал, что пациент должен представить теорию своего заболевания или что-то подобное. Подразумевалось, что пациент не должен приходить с установкой: «Я болен. Вы профессионал, который обещает лечить больных людей, – и вот я здесь». Если бы мне было нужно повесить что-нибудь на стене моего кабинета, я повесил бы такую надпись: «Просто находиться здесь – недостаточно».
Таким образом, первая задача психоаналитика ясна: помочь пациенту быть несчастным, а не ободрять его. По сути дела, любое ободрение, назначение которого сгладить, смягчить его страдание, определенно нежелательно, оно определенно вредно для дальнейшего прогресса анализа. Не думаю, что кому-нибудь хватит инициативы, хватит импульса для огромного усилия, которого требует психоанализ – имея в виду действительно психоанализ, – если человек не осознает своего максимального страдания. И быть в таком состоянии вовсе не плохо. Это гораздо лучше пребывания в сумрачной области, где нет ни страдания, ни счастья. Страдание по крайней мере – очень реальное ощущение и является частью жизни. Не осознавать страдание и только смотреть телевизор – ни то ни се.
Еще одним условием является наличие у пациента идеи о том, какой должна (или может) быть его жизнь, некоторое представление о том, чего он хочет. Мне приходилось слышать о пациентах, которые обращались к психоаналитику потому, что не могли писать стихи. Такая причина довольно исключительна, но не так редка, как можно было бы думать. Однако многие пациенты приходят потому, что несчастливы; но быть несчастливым недостаточно. Если бы пациент сказал мне, что хочет подвергнуться психоанализу потому, что несчастлив, я ответил бы: «Что ж, большинство людей несчастливы». Этого недостаточно для того, чтобы провести годы за очень энергоемкой и трудной работой с одним человеком.
Идея о том, чего человек хочет в жизни, – это не вопрос образования и даже не вопрос ума. Вполне могло случиться, что пациент никогда и не представлял себе картины своей жизни. Несмотря на нашу всеобъемлющую систему образования, у людей немного идей о том, чего они хотят в жизни. Тем не менее я полагаю, что задача психоаналитика в начале лечения – выяснить, способен ли пациент сформировать представление о том, что еще может означать жизнь – помимо ощущения большего счастья. Существует множество слов, которыми пользуются люди в больших городах Соединенных Штатов: они желают выразить себя и т. д., но это просто фразеология. «Мне нравится слушать музыку в высоком качестве» – просто фраза. Я считаю, что психоаналитик не может и не должен удовлетворяться подобными ответами; он обязан докопаться до истинных желаний и намерений пациента – не теоретически, а до того, что он на самом деле хочет, ради чего приходит к психоаналитику.
Другой важный фактор – серьезность намерений пациента. Многие страдающие нарциссизмом обращаются к психоанализу только по той причине, что любят говорить о себе. И впрямь: где еще можете вы это сделать? Ни жена, ни друзья, ни дети не станут часами выслушивать вас: что вы делали вчера, почему вы это делали и т. д. Даже бармен так долго не будет выслушивать вас – у него есть и другие посетители. Так что стоит заплатить 35 долларов – или какой там гонорар, – и вы получите слушателя, который будет все время вам внимать. Конечно, я как пациент должен иметь в виду, что мне следует говорить на психологически значимые темы. Не следует говорить о живописи и музыке. Я должен говорить о себе – почему мне не нравится моя жена (или муж) или почему она (он) мне нравится… Да и это лучше исключить, потому что такая причина для посещения психоаналитика недостаточна, хоть для него она и хороший способ зарабатывать деньги.
Фактором, тесно связанным с этим, является способность пациента со временем отличать банальность от реальности. Разговор большинства людей, на мой взгляд, банален. В качестве примера банальности – прошу прощения – могу привести редакционные статьи «Нью-Йорк таймс». Под банальностью в противовес реальности я имею в виду не умные высказывания, а нереалистические. Если я читаю в «Нью-Йорк таймс» статью о ситуации во Вьетнаме, это банальность. Конечно, политические воззрения могут быть разными, но для меня статья нереальна, потому что обсуждает некие фантазии – до такой степени, что неожиданно американские корабли обстреливают невидимые цели и никто не знает, в чем там было дело. И тут оказывается, что речь идет о спасении от коммунизма и Бог знает о чем еще. Что ж, это банально. Сходным образом банальны разговоры людей о своей частной жизни, потому что обычно они говорят о нереальных вещах. Мой муж сделал то или это, он получил или не получил повышение по службе, мне следовало или не следовало позвонить бойфренду… Это все банальность, потому что не касается ничего реального, а только рационализаций.
Еще одним фактором служат жизненные обстоятельства пациента. Насколько ему удастся преодолеть невроз, полностью зависит от ситуации. Торговец может справиться с неврозом, перед которым профессор колледжа окажется бессилен. Я не имею в виду различие в культурном уровне; просто определенный тип в высшей степени нарциссического, агрессивного поведения не потерпят в маленьком колледже, такого преподавателя выгонят. Однако в роли торговца он может добиться большого успеха. Иногда пациенты говорят: «Знаете, доктор, я просто не могу продолжать так жить»; мой стандартный ответ в таких случаях: «Не вижу, почему вы не можете продолжать. Вы жили так 30 лет, многие люди, миллионы людей тянут лямку до конца жизни, так что непонятно, почему вы не можете. Я мог бы понять, почему вам этого не хотелось бы, но мне нужно какое-то доказательство того, что вы не хотите, и объяснение, почему не хотите. Однако ваше «не могу» – неправда, это тоже фразеология».
Обстоятельство, которое я особо хочу подчеркнуть, – это активное участие пациента. Здесь я вновь возвращаюсь к тому, о чем уже говорил. Не думаю, что кто-нибудь излечивается разговорами и даже раскрытием бессознательного, как и никто ничего важного не достигает без очень значительных усилий и без принесения жертв, без риска, без – если позволено использовать символический язык, так часто появляющийся в сновидениях, – того, чтобы пройти через многие туннели, через которые нужно пройти на протяжении жизни. Это относится к тем периодам, когда человек оказывается во тьме, когда он испуган и все же сохраняет веру в то, что выход из туннеля существует, что впереди – свет. Я думаю, что в этом процессе очень важна личность психоаналитика, а именно: если он хороший спутник и способен сделать то, что сделает хороший проводник в горах. Он не будет тебя торопить, просто время от времени будет подсказывать: «Лучше пройти вот этой тропинкой» – и иной раз, возможно, слегка подтолкнет. Но и только.
Это приводит меня к последнему фактору – личности психоаналитика. На эту тему, несомненно, можно прочесть целую лекцию, но я хочу отметить лишь несколько моментов. Фрейд уже предъявил очень важное требование, а именно: отсутствие притворства и обмана. В отношении психоаналитика и во всей атмосфере должно быть что-то, в результате чего пациент с самого начала чувствует, что этот мир отличается от привычного ему: это мир реальности (а значит, мир правды, честности, неподдельности – всего того, что составляет реальность). Во-вторых, пациент должен ощутить, что от него не ждут изречения банальностей – психоаналитик обратит на это особое внимание и, в свою очередь, сам не будет говорить банальностей. Для этого, конечно, психоаналитик должен понимать различие между банальностью и не-банальностью, а это довольно трудно в мире, в котором мы живем.
Другим очень важным качеством для психоаналитика является отсутствие сентиментальности: нельзя вылечить больного добротой, касается ли это лекарств или психотерапии. Некоторым это покажется жестоким, и меня без сомнения будут упрекать в безжалостности по отношению к пациенту, в отсутствии сочувствия, в авторитаризме. Что ж, может, это и так. Дело не в моем собственном опыте, потому что существует нечто, отличное от сентиментальности, и это решающее условие психоанализа: ощущать в себе то, о чем говорит пациент. Если я не способен прочувствовать в себе, что значит быть шизофреником, быть в депрессии, быть садистом, нарциссической личностью или испуганным до смерти, даже если я могу чувствовать это в меньших дозах, чем пациенты, тогда мне просто неизвестно, о чем пациент говорит. И если я не делаю необходимого усилия, я не способен войти в соприкосновение с пациентом.
У некоторых людей существует идиосинкразия по отношению к некоторым вещам. Я помню, Салливан рассказывал, что ни один страдающий тревожностью пациент ни разу не обращался к нему повторно, поскольку он не проявлял ни симпатии, ни эмпатии к подобным состояниям. Ну, это совершенно нормально. Значит, не нужно принимать таких пациентов и быть хорошим психоаналитиком для тех пациентов, состояние которых он может прочувствовать сам.
Главное требование к психоаналитику – чувствовать то, что чувствует пациент. В этом причина того, что нет лучшего анализа для психоаналитика, чем анализировать других людей, потому что в таком процессе не остается почти ничего в самом психоаналитике, что не вышло бы на поверхность, что осталось бы незатронутым, – при условии что психоаналитик старается испытывать все, что испытывает пациент. Если психоаналитик думает: «Ладно, пациент – больной бедняга, потому что он платит», конечно, он останется интеллектуалом и никогда не будет убедителен для пациента.
В результате такого отношения психоаналитик определенно не будет сентиментален в отношении пациента, но проявит сочувствие в силу глубокого ощущения: нет ничего, что происходило бы с пациентом, что не происходило бы с ним самим. Психоаналитик лишается возможности быть судьей или моралистом, возмущаться пациентом, коль скоро воспринимает все, что чувствует пациент, как свое собственное ощущение. Не думаю, что в противном случае психоаналитик понимает пациента. В естественных науках вы можете поместить материал на стол, рассматривать его и измерять. В ситуации психоанализа недостаточно того, чтобы пациент выложил на стол свой материал, потому что для меня он не станет фактом до тех пор, пока я не увижу этого в себе как нечто реальное.
Наконец, очень важно видеть в пациенте героя драмы, а не собрание комплексов. Каждое человеческое существо и в самом деле является героем драмы – вовсе не в сентиментальном смысле. Перед вами личность с определенными дарованиями, которые обычно пропадают втуне, его жизнь – отчаянная борьба за то, чтобы сделать что-то из того, с чем он был рожден, борясь с жесточайшими препятствиями. Даже самый обычный человек в определенном смысле чрезвычайно интересен, если видеть в нем такую личность, – как живое существо, брошенное в мир, неизвестный и нежеланный ему, и борющееся за то, чтобы пробиться через него. Великий писатель тем и характеризуется, что может так показать банального человека, что он станет нам интересен. Яркий пример – Бальзак: большинство его героев неинтересны, но талант писателя делает их интересными необыкновенно. Врачам-психоаналитикам, конечно, далеко до Бальзака, и мы не пишем романов, однако всем нам следует обрести способность видеть в пациенте человеческую драму, да и в каждом человеке, вызвавшем наш интерес, а не только в больном, обратившемся к нам с симптомами А, Б, В.
В заключение хочу кое-что сказать о прогнозе. В тех случаях, которые я называю доброкачественными неврозами, шансы на излечение велики, при злокачественных – шансов мало. Я не возьмусь обозначить процентное отношение, потому что, во-первых, это профессиональный секрет, а во-вторых, об этом пришлось бы говорить долго. Впрочем, полагаю, что общеизвестно: шанс на излечение при тяжелом, злокачественном неврозе не особенно высок. Не вижу, чего тут можно было бы стыдиться. Если вы сталкиваетесь с тяжелым соматическим заболеванием и получаете, скажем, 5 % излечений определенным методом – а на мой взгляд, шанс при психоанализе даже несколько выше, – при условии что лучшего метода нет и это все, что может сделать врач, – то и в этом случае и врач, и пациент, и все его друзья и родственники приложат максимум усилий для достижения выздоровления, даже если шанс составляет всего 5 %. Неправильно не замечать различий между доброкачественным и злокачественным неврозами и обольщаться фразами вроде «Ну, психоанализ излечивает все»; психоаналитик может обманывать себя, глядя на пациента и надеясь, что дела не так плохи. Даже в тех случаях, когда пациент не излечивается, при хорошем психоанализе выполняется по крайней мере одно условие: проведенные с психоаналитиком часы, если они прошли живо и значимо, окажутся самыми важными и лучшими часами в жизни пациента. Думаю, такого нельзя сказать о многих видах терапии, и это служит утешением аналитику, борющемуся за пациента с низкими шансами на излечение.
При доброкачественных неврозах прогноз гораздо лучше. Я предположил бы, что при легких формах во многих случаях применимы методы, требующие меньше двух лет анализа, другими словами, если психоаналитику хватит смелости применить инсайт, подойти к проблеме напрямую и совершить за двадцать часов то, на что он чувствовал бы себя обязанным затратить две сотни часов. Не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать прямые методы там, где это возможно.
Часть II. Терапевтические аспекты психоанализа
4. Что такое психоанализ
Цель психоанализа
Вопрос, с которого я хочу начать, является одновременно главным для всего, что последует. Какова цель психоанализа? Это очень простой вопрос, и я думаю, что на него есть очень простой ответ: познать себя. Эта потребность – познать себя – очень древняя человеческая потребность; от греков до Средневековья и до современности сохраняется идея о том, что познание себя есть основа познания мира или, как это в драматической форме выразил Майстер Экхарт[6 - Экхарт Майстер (ок. 1260 – ок. 1328) – средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших мистиков.], «единственный путь к познанию Бога – познать себя». Это одно из древнейших человеческих устремлений и воистину цель, коренящаяся в объективных факторах.
Как познавать мир, как жить и должным образом реагировать, если сам инструмент, нужный, чтобы действовать и решать, нам неизвестен? Мы – проводники, руководители того «Я», которому каким-то образом удается взаимодействовать с миром, принимать решения, определять приоритеты, обретать ценности. Если это «Я», этот главный субъект, который решает и действует, нам как следует неизвестен, значит, все наши действия, все решения совершаются наполовину вслепую или в полубодрствующем состоянии.
Картина довольно печальная: гомосексуальность, к тому же отягощенная постоянной тревогой, легкой депрессией, бесцельностью жизни и т. д. Какова история этой девушки? Ее мать долгое время была любовницей богатого человека, и дочь была их отпрыском. Мужчина был в определенном смысле верен своей любовнице, постоянно поддерживал ее и девочку, но официально отцом девочки не являлся – в семье он отсутствовал. Мать, впрочем, была исключительно расчетлива и использовала дочь для того, чтобы получать от ее отца деньги. Она посылала девочку клянчить у отца деньги, шантажировала его через дочь, всячески унижала ее. Сестра матери была хозяйкой борделя. Она старалась сделать из девочки проститутку, и девочка действительно дважды – тогда она была уже не так мала – появлялась за деньги обнаженной перед мужчинами. Наверное, бедняжке потребовалось проявить большое упорство, чтобы не пойти дальше. Однако она все время испытывала враждебность: можно представить, как ее дразнили соседские дети – девочка не только росла без отца, но еще и приходилась племянницей хозяйке борделя.
Так к пятнадцати годам девочка превратилась в запуганное одинокое существо, ничего от жизни не ожидающее. Затем отец пожелал отправить ее в колледж в Соединенные Штаты. Можно себе представить, как неожиданно изменилось окружение девочки. В довольно элегантном американском колледже нашлась соученица, проявившая доброту и привязанность, и между девочками начался гомосексуальный роман. В этом не было ничего удивительного. Я нахожу совершенно естественным, что запуганная девочка, с таким прошлым, как у нее, вступила в связь с первым существом – мужчиной, женщиной или животным, проявившим к ней настоящую привязанность; это был первый случай, когда девочка вырвалась из ада. Потом у нее были другие гомосексуальные связи, а вернувшись в Мексику, она снова попала в прежний ужас, вечно неуверенная в себе, вечно испытывающая стыд. Потом она встретила ту женщину из кабаре, попала к ней в подчинение и именно тогда обратилась к психоаналитику.
Вследствие психоанализа – на протяжении где-то двух лет – происходило следующее: сначала пациентка рассталась со своей гомосексуальной партнершей, потом некоторое время оставалась одна, потом начала встречаться с мужчинами, влюбилась, вышла замуж и даже не была фригидна. Это явно не был случай настоящей гомосексуальности. Я говорю «настоящей» – кто-то может со мной не согласиться, – но, на мой взгляд, это была такая гомосексуальность, какая в определенных обстоятельствах может проявиться у большинства людей.
На самом деле это была девушка, которая – это видно из ее сновидений – просто до смерти боялась жизни; она была подобна узнице, вышедшей из концентрационного лагеря, и все ее ожидания и страхи были обусловлены ее опытом. За относительно короткое время, учитывая, какое время обычно требуется на психоанализ, пациентка превратилась в совершенно нормальную девушку с нормальными реакциями.
Я привожу этот пример, просто чтобы доказать, что имею в виду – и что, как мне кажется, имеет в виду Фрейд: большую роль травмы в происхождении невроза в противоположность конституциональным факторам. Конечно, я осознаю, что, когда Фрейд говорит о травме, он подразумевает под ней нечто отличное от того, что подразумевал бы я – он видел бы причину травмы в первую очередь в сексуальной природе и считал бы, что травма возникает в раннем возрасте. Я считаю, что очень часто травма является длительным процессом, в котором одно переживание следует за другим; в конце концов происходит их суммирование и даже больше чем суммирование: такое нагромождение переживаний, которое в определенной мере, думаю, не слишком отличается от военного невроза, когда после точки перелома пациент заболевает.
Тем не менее травма – нечто, связанное с окружающей средой, представляющей собой опыт жизни, реальной жизни. Это верно для той девушки и для тех пострадавших от травмы пациентов, ядро характера которых не было существенно разрушено. Внешне картина может выглядеть очень тяжелой, но, несмотря на это, у них имеется хороший шанс выздороветь и в довольно короткое время преодолеть реактивный невроз именно вследствие того, что конституционально они благополучны.
В этой связи хочу подчеркнуть, что в случае доброкачественного, или реактивного, невроза, травматическое воздействие должно быть весьма сильным, чтобы послужить объяснением возникновения невротического заболевания. Если причина травмы видится в слабом отце и властной матери, то такая «травма» не объясняет, почему человек страдает от невроза; огромное количество людей имеют слабого отца и властную мать, однако не становятся из-за этого невротиками. Другими словами, если я хочу объяснить возникновение невроза травматическим событием, я должен предположить, что это травматическое событие имеет столь чрезвычайную природу, что нельзя представить себе человека с таким же травматическим прошлым, который был бы совершенно здоров. Поэтому я думаю, что в тех случаях, когда человек не может сослаться на что-то большее, чем слабый отец и властная мать, следует предположить возможность воздействия конституциональных факторов, иначе говоря, тех факторов, которые делают человека предрасположенным к неврозу и при которых роль слабого отца и властной матери делается травматичной только в силу их наличия. В идеальных условиях такой человек мог бы и не заболеть.
Я не согласен с тем, что мои объяснения недостаточны, поскольку при равных условиях один человек заболевает, а другие – нет. Вы встречаете семью с восемью детьми, один из которых заболевает, а остальные – нет. Обычно приводятся такие доводы: «Да, но он был первенцем… вторым по порядку… средним… Бог знает что еще» – поэтому-то его опыт отличается от опыта остальных. Это весьма удобно для тех, кто любит утешать себя тем, что обнаружил травму, однако для меня это очень расплывчатые рассуждения.
Естественно, может существовать травматическое переживание, о котором мы не знаем, которое не выяснилось при анализе. Я буду очень счастлив, если психоаналитику хватит умения обнаружить это действительно чрезвычайно сильное травматическое воздействие и он сможет показать, насколько оно основополагающе для развития невроза. Однако я просто не могу назвать это травмой, когда в стольких других случаях это переживание не оказывается травматическим. Существует множество травматических переживаний, которые действительно бывают чрезвычайными. Поэтому я и привел данный пример.
Есть и еще один пример, который мне хотелось бы упомянуть. Это очень современный феномен и вопрос, на который трудно ответить. Насколько болен на самом деле современный представитель организации – отчужденный, нарциссический, лишенный принадлежности к чему бы то ни было, не испытывающий истинного интереса к жизни, интересующийся лишь гаджетами, которого спортивный автомобиль возбуждает гораздо больше, чем женщина? Насколько он в таком случае болен?
В одном смысле можно сказать, что да, он серьезно болен, и все симптомы налицо: он испуган, он неуверен в себе, он нуждается в постоянном подтверждении своего нарциссизма. В то же время мы не можем назвать больным все общество: люди функционируют. Думаю, что проблема для людей заключается в том, как им удается приспосабливаться к общему заболеванию или к тому, что можно назвать «патологией нормальности». В таких случаях проблема терапии очень сложна. Этот человек действительно страдает от «ядерного» конфликта, другими словами, от глубокого расстройства ядра своей личности: он проявляет чрезвычайный нарциссизм и отсутствие любви к жизни. Для излечения ему пришлось бы в первую очередь изменить всю свою личность. Кроме того, почти все общество обернется против него, потому что все общество одобряет его невроз. Здесь вы сталкиваетесь с парадоксом: теоретически перед вами больной человек, но в другом смысле он не болен. Бывает очень трудно определить, какой психоанализ подойдет в данном случае; я действительно вижу в этом значительную трудность.
Если говорить о том, что я называю доброкачественным неврозом, то тут задача сравнительно проста, потому что вы имеете дело с нетронутой структурой ядерной энергии, структурой характера; вы имеете дело с травматическими событиями, объясняющими отчасти патологическую деформацию. В атмосфере анализа – как в смысле извлечения на поверхность бессознательного материала, так и возникновения терапевтических отношений с психоаналитиком – у таких пациентов очень хороший шанс на излечение.
Я уже говорил о том, что понимаю под злокачественным неврозом. Это тот невроз, при котором ядро структуры характера повреждено, когда человеку присущи чрезвычайно некрофильские, нарциссические тенденции, тенденции фиксации на матери; в самых тяжелых случаях имеют место все три, смешивающиеся друг с другом. Здесь работа психоаналитика по излечению заключалась бы в изменении направления разряда энергии внутри ядерной структуры. Необходимо было бы добиться, чтобы нарциссизм, некрофилия, кровосмесительные фиксации изменились. Даже если они не изменятся полностью, даже если произойдет небольшой разряд энергии в том, что последователи Фрейда называют катексисом, для пациента это составит огромную разницу. Если ему удастся уменьшить свой нарциссизм, развить биофилию, увеличить интерес к жизни и т. д., этот человек определенно получит шанс на излечение.
Говоря о психоаналитическом лечении, на мой взгляд, нужно очень хорошо осознавать различие шансов на выздоровление в случаях доброкачественного и злокачественного неврозов. Можно было бы сказать, что в действительности это различие между неврозом и психозом, но на самом деле это не так, потому что многое из того, что я называю злокачественным искажением характера, не является психозом. Я говорю здесь о феномене, обнаруживаемом у пациентов, проявляющих или не проявляющих симптомы, которые не психотики, даже близко не психотики, которые, возможно, никогда не станут психотиками, но проблема излечения которых разительно отличается от таковой у страдающих доброкачественным неврозом.
Отличается и природа сопротивления. У пациента с доброкачественным неврозом вы обнаружите неуверенность, страх и т. д., но, поскольку ядро личности на самом деле нормально, такое сопротивление относительно легко преодолеть. Если же взять сопротивление того, кого я называю страдающим злокачественным, тяжелым неврозом, то оно глубоко укоренено, потому что такому человеку пришлось бы признаться себе и многим другим, что он совершенно нарциссичен, что на самом деле никого не любит. Другими словами, ему пришлось бы бороться с инсайтом с гораздо большим упорством, чем пациенту с доброкачественным неврозом.
Каков метод лечения при тяжелом неврозе? Я не верю в то, что проблема, по сути, состоит в усилении эго. Думаю, что проблема заключается в следующем: пациент противостоит иррациональной архаичной части своей личности собственной вменяемой, взрослой, нормальной частью, и именно это противостояние и создает конфликт. Этот конфликт пробуждает силы – согласно теории, что в личности присутствует более или менее сильное стремление к здоровью, к лучшему равновесию с миром, представляющему собой конституциональный фактор. Для меня главное содержание психоаналитического лечения состоит именно в конфликте, порождаемом встречей иррациональной и рациональной частей личности.
Одно из следствий для психоаналитической техники заключается в следующем: пациент при анализе должен следовать двум направлениям – он должен бессознательно ощущать себя маленьким ребенком, двух-трехлетним, но одновременно быть также взрослой, ответственной личностью, противостоящей той своей части, потому что именно в этой конфронтации он испытывает шок, ощущение конфликта, ощущение движения, необходимые для психоаналитического излечения.
С этой точки зрения фрейдистский способ не подходит. Мне представляется, что мы видим здесь две крайности: фрейдистская крайность состоит в искусственной инфантилизации пациента положением на кушетке, позади которой сидит психоаналитик, всей ритуальной ситуацией. Фрейд полагал, как объяснил это Рене Шпиц[4 - Шпиц Рене (1887–1974) – австро-американский психоаналитик, специалист в области детского психоанализа.] в своей статье, что такова истинная цель аналитической ситуации – искусственно инфантизировать пациента, чтобы вывести на поверхность больше бессознательного материала. Недостатком этого метода мне представляется тот факт, что так пациент никогда не противопоставляет себя архаичному, инфантильному материалу; он погружается в бессознательное, он превращается в ребенка. Происходящее – своего рода сновидение, но в состоянии бодрствования. Всё выходит на поверхность, всё проявляется, но пациент при этом не присутствует.
Однако то, что пациент – маленький ребенок, неверно. Пациент (предположим на мгновение, что это – тяжелый психопат) одновременно и нормальный взрослый человек, обладающий здравым смыслом, интеллектом, всеми реакциями нормального человека. В силу этого он способен реагировать на младенца внутри себя. Если такого противостояния не происходит, как это обычно случается при фрейдистском методе, тогда конфликт не проявляется и не начинается движения. На мой взгляд, отсутствует главное условие психоаналитического излечения.
Другой крайностью, отличной от фрейдистского метода, является психотерапевтический подход, который иногда тоже называют психоанализом и при котором процесс вырождается в психологическую беседу между аналитиком и взрослым пациентом, когда ребенок не появляется вовсе, когда к пациенту обращаются так, как будто в нем нет архаических сил, когда аналитик надеется при помощи увещеваний, милых обращений к пациенту типа «ваша мать была плохой, ваш отец был плохим, но я помогу вам, вы будете в безопасности» излечить его. Очень легкий невроз так вылечить можно, но, мне кажется, есть способы сделать это не за пять лет, а значительно быстрее. Я полагаю, что тяжелый невроз никогда не будет излечен, если только, как говорил Фрейд, вы не вытащили на поверхность достаточное количество важного бессознательного материала.
Я хочу сказать просто следующее: аналитическая ситуация как пациента, так и в определенном смысле психоаналитика парадоксальна: пациент и не младенец, и не иррациональная личность со всякими безумными фантазиями; он и не взрослый человек, с которым можно разумно говорить о его симптомах. Пациент должен быть в силах одновременно ощущать себя обоими и тем самым испытывать именно ту конфронтацию, которая приводит события в движение.
Главное содержание лечения для меня – реальный конфликт, порождаемый у пациента этим противоречием. Такая конфронтация не может быть вызвана в теории и не может быть достигнута просто словами. Даже если для этого нужна простая вещь – как когда пациент говорит «я боялся своей матери», – что это значит? Со страхом такого рода все мы знакомы: мы боимся школьного учителя, боимся полицейского, боимся кого-то, кто может причинить нам боль – в этом нет ничего такого уж потрясающего. Однако, возможно, то, что пациент имеет в виду, когда говорит, что боялся матери, может быть описано, скажем, в таких терминах: «меня посадили в клетку. В той же клетке сидит лев. Кто-то впихнул меня внутрь и закрыл дверцу. Что я чувствую?» В сновидении происходит именно это: крокодил, лев или тигр пытается напасть на спящего. Однако использование слов «я боялся своей матери» избавляет от необходимости разбираться с настоящим страхом пациента.
3. Конституциональные и другие факторы излечения
Я перехожу теперь к некоторым другим факторам – некоторым благоприятным, некоторым неблагоприятным. В первую очередь рассмотрим конституциональные факторы. Я уже указывал на то, что считаю конституциональные факторы чрезвычайно важными. Если бы тридцать лет назад я услышал от кого-то то, что говорю сейчас сам, я бы очень возмутился; я назвал бы сказанное реакционным, фашистским пессимизмом, не допускающим изменений. Однако через несколько лет психоаналитической практики я убедил себя – не на какой-либо теоретической основе, потому что ничего не знаю о теории наследственности, а на основании собственного опыта, – что просто неверно считать, будто степень невроза можно оценить всего лишь пропорционально травматическим и жизненным обстоятельствам.
Все получается хорошо, если у вас гомосексуальный пациент, и вы выясняете, что у него очень властная мать и очень слабый отец; тогда вы приходите к теории, которая объясняет гомосексуальность. Однако потом у вас появляется десять пациентов, у которых точно такие же властные матери и слабые отцы, а гомосексуальность отсутствует. Вы наблюдаете сходные факторы окружающей среды, имеющие совсем другой эффект. Поэтому я полагаю, что, если только вы не имеете дела с чрезвычайно травматичными факторами (такими, как я описывал выше), вы не можете на самом деле понять развитие невроза, если не примете во внимание конституциональные факторы, которые то ли в одиночку, потому что так сильны, то ли в сочетании с некоторыми условиями делают факторы окружающей среды чрезвычайно травматичными, в то время как другие – нет.
Конечно, различие между взглядами Фрейда и моими заключается в том, что Фрейд, говоря о конституциональных факторах, думает, по сути, о факторах инстинктивных, в терминах теории либидо. Я полагаю, что конституциональные факторы заходят гораздо дальше. Хотя сейчас я не могу объяснить этого подробнее, я считаю, что в конституциональные факторы входят не только те, которые обычно определяются как темперамент, будь это темперамент в греческом смысле или в смысле Шелдона[5 - Шелдон У. Г. (1898–1977) – американский психолог, автор конституциональной теории темперамента.]; к ним относятся жизненная сила, любовь к жизни, мужество и многие другие, которые я даже не буду перечислять. Другими словами, я полагаю, что человек благодаря лотерее хромосом уже в момент зачатия представляет собой вполне определенное существо. Проблема жизни человека на самом деле заключается в том, что жизнь делает с конкретным человеком, который уже рожден с определенными качествами. Думаю, для психоаналитика было бы хорошим упражнением рассмотреть, каким пациент стал бы, если бы жизненные условия были благоприятны для человека – такого, каким он был зачат, и какие конкретно искажения и повреждения причинили этому человеку обстоятельства.
К благоприятным конституциональным факторам относится степень жизненной силы, особенно любви к жизни. Лично я думаю, что и при довольно тяжелом неврозе – изрядном нарциссизме, даже значительной кровосмесительной фиксации, – наличие любви к жизни создает совершенно иную картину. Приведу два примера: один – Рузвельт, другой – Гитлер. Оба были довольно нарциссичны, Рузвельт, несомненно, меньше Гитлера, но все же изрядно. Оба имели фиксацию на матери; Гитлер, возможно, в более злокачественной и глубокой форме, чем Рузвельт. Однако решающее различие заключалось в том, что Рузвельт был полон любви к жизни, а Гитлер – любви к смерти; целью Гитлера было разрушение; этой цели он даже не осознавал, на протяжении многих лет считая, что его цель – спасение. Однако на самом деле это было разрушение, и все, что вело к разрушению, влекло его. Здесь вы видите две личности, в которых фактор нарциссизма и фактор фиксации на матери хотя и в разной степени, но были явственно выражены. Но что было совершенно различным, так это относительная степень биофилии и некрофилии. Если мой пациент тяжело болен, но я вижу в нем обилие биофилии, я смотрю на вещи оптимистически. Если в добавление ко всему я наблюдаю очень мало биофилии и обилие некрофилии, мой прогноз совершенно пессимистичен.
Существуют и другие факторы, приводящие к успеху или провалу лечения, которые я хочу кратко упомянуть. Они не являются конституциональными, и я полагаю, что они могут быть выявлены во время первых пяти сессий психоанализа.
Один из них – достиг ли пациент дна своего страдания. Я знаю одного психотерапевта, который берется работать только с теми пациентами, которые испробовали все доступные в Соединенных Штатах методы терапии; если ни один из них не помог, он берется за лечение. Это, конечно, могло бы послужить очень хорошим алиби для его собственной неудачи, но в данном случае это действительно доказывает, что пациент достиг дна своих страданий. Я думаю, что выяснить это очень важно. Салливан имел привычку особенно подчеркивать данную позицию, хотя в несколько иных терминах: пациент должен доказать, почему он нуждается в лечении. Под этим он не понимал, что пациент должен представить теорию своего заболевания или что-то подобное. Подразумевалось, что пациент не должен приходить с установкой: «Я болен. Вы профессионал, который обещает лечить больных людей, – и вот я здесь». Если бы мне было нужно повесить что-нибудь на стене моего кабинета, я повесил бы такую надпись: «Просто находиться здесь – недостаточно».
Таким образом, первая задача психоаналитика ясна: помочь пациенту быть несчастным, а не ободрять его. По сути дела, любое ободрение, назначение которого сгладить, смягчить его страдание, определенно нежелательно, оно определенно вредно для дальнейшего прогресса анализа. Не думаю, что кому-нибудь хватит инициативы, хватит импульса для огромного усилия, которого требует психоанализ – имея в виду действительно психоанализ, – если человек не осознает своего максимального страдания. И быть в таком состоянии вовсе не плохо. Это гораздо лучше пребывания в сумрачной области, где нет ни страдания, ни счастья. Страдание по крайней мере – очень реальное ощущение и является частью жизни. Не осознавать страдание и только смотреть телевизор – ни то ни се.
Еще одним условием является наличие у пациента идеи о том, какой должна (или может) быть его жизнь, некоторое представление о том, чего он хочет. Мне приходилось слышать о пациентах, которые обращались к психоаналитику потому, что не могли писать стихи. Такая причина довольно исключительна, но не так редка, как можно было бы думать. Однако многие пациенты приходят потому, что несчастливы; но быть несчастливым недостаточно. Если бы пациент сказал мне, что хочет подвергнуться психоанализу потому, что несчастлив, я ответил бы: «Что ж, большинство людей несчастливы». Этого недостаточно для того, чтобы провести годы за очень энергоемкой и трудной работой с одним человеком.
Идея о том, чего человек хочет в жизни, – это не вопрос образования и даже не вопрос ума. Вполне могло случиться, что пациент никогда и не представлял себе картины своей жизни. Несмотря на нашу всеобъемлющую систему образования, у людей немного идей о том, чего они хотят в жизни. Тем не менее я полагаю, что задача психоаналитика в начале лечения – выяснить, способен ли пациент сформировать представление о том, что еще может означать жизнь – помимо ощущения большего счастья. Существует множество слов, которыми пользуются люди в больших городах Соединенных Штатов: они желают выразить себя и т. д., но это просто фразеология. «Мне нравится слушать музыку в высоком качестве» – просто фраза. Я считаю, что психоаналитик не может и не должен удовлетворяться подобными ответами; он обязан докопаться до истинных желаний и намерений пациента – не теоретически, а до того, что он на самом деле хочет, ради чего приходит к психоаналитику.
Другой важный фактор – серьезность намерений пациента. Многие страдающие нарциссизмом обращаются к психоанализу только по той причине, что любят говорить о себе. И впрямь: где еще можете вы это сделать? Ни жена, ни друзья, ни дети не станут часами выслушивать вас: что вы делали вчера, почему вы это делали и т. д. Даже бармен так долго не будет выслушивать вас – у него есть и другие посетители. Так что стоит заплатить 35 долларов – или какой там гонорар, – и вы получите слушателя, который будет все время вам внимать. Конечно, я как пациент должен иметь в виду, что мне следует говорить на психологически значимые темы. Не следует говорить о живописи и музыке. Я должен говорить о себе – почему мне не нравится моя жена (или муж) или почему она (он) мне нравится… Да и это лучше исключить, потому что такая причина для посещения психоаналитика недостаточна, хоть для него она и хороший способ зарабатывать деньги.
Фактором, тесно связанным с этим, является способность пациента со временем отличать банальность от реальности. Разговор большинства людей, на мой взгляд, банален. В качестве примера банальности – прошу прощения – могу привести редакционные статьи «Нью-Йорк таймс». Под банальностью в противовес реальности я имею в виду не умные высказывания, а нереалистические. Если я читаю в «Нью-Йорк таймс» статью о ситуации во Вьетнаме, это банальность. Конечно, политические воззрения могут быть разными, но для меня статья нереальна, потому что обсуждает некие фантазии – до такой степени, что неожиданно американские корабли обстреливают невидимые цели и никто не знает, в чем там было дело. И тут оказывается, что речь идет о спасении от коммунизма и Бог знает о чем еще. Что ж, это банально. Сходным образом банальны разговоры людей о своей частной жизни, потому что обычно они говорят о нереальных вещах. Мой муж сделал то или это, он получил или не получил повышение по службе, мне следовало или не следовало позвонить бойфренду… Это все банальность, потому что не касается ничего реального, а только рационализаций.
Еще одним фактором служат жизненные обстоятельства пациента. Насколько ему удастся преодолеть невроз, полностью зависит от ситуации. Торговец может справиться с неврозом, перед которым профессор колледжа окажется бессилен. Я не имею в виду различие в культурном уровне; просто определенный тип в высшей степени нарциссического, агрессивного поведения не потерпят в маленьком колледже, такого преподавателя выгонят. Однако в роли торговца он может добиться большого успеха. Иногда пациенты говорят: «Знаете, доктор, я просто не могу продолжать так жить»; мой стандартный ответ в таких случаях: «Не вижу, почему вы не можете продолжать. Вы жили так 30 лет, многие люди, миллионы людей тянут лямку до конца жизни, так что непонятно, почему вы не можете. Я мог бы понять, почему вам этого не хотелось бы, но мне нужно какое-то доказательство того, что вы не хотите, и объяснение, почему не хотите. Однако ваше «не могу» – неправда, это тоже фразеология».
Обстоятельство, которое я особо хочу подчеркнуть, – это активное участие пациента. Здесь я вновь возвращаюсь к тому, о чем уже говорил. Не думаю, что кто-нибудь излечивается разговорами и даже раскрытием бессознательного, как и никто ничего важного не достигает без очень значительных усилий и без принесения жертв, без риска, без – если позволено использовать символический язык, так часто появляющийся в сновидениях, – того, чтобы пройти через многие туннели, через которые нужно пройти на протяжении жизни. Это относится к тем периодам, когда человек оказывается во тьме, когда он испуган и все же сохраняет веру в то, что выход из туннеля существует, что впереди – свет. Я думаю, что в этом процессе очень важна личность психоаналитика, а именно: если он хороший спутник и способен сделать то, что сделает хороший проводник в горах. Он не будет тебя торопить, просто время от времени будет подсказывать: «Лучше пройти вот этой тропинкой» – и иной раз, возможно, слегка подтолкнет. Но и только.
Это приводит меня к последнему фактору – личности психоаналитика. На эту тему, несомненно, можно прочесть целую лекцию, но я хочу отметить лишь несколько моментов. Фрейд уже предъявил очень важное требование, а именно: отсутствие притворства и обмана. В отношении психоаналитика и во всей атмосфере должно быть что-то, в результате чего пациент с самого начала чувствует, что этот мир отличается от привычного ему: это мир реальности (а значит, мир правды, честности, неподдельности – всего того, что составляет реальность). Во-вторых, пациент должен ощутить, что от него не ждут изречения банальностей – психоаналитик обратит на это особое внимание и, в свою очередь, сам не будет говорить банальностей. Для этого, конечно, психоаналитик должен понимать различие между банальностью и не-банальностью, а это довольно трудно в мире, в котором мы живем.
Другим очень важным качеством для психоаналитика является отсутствие сентиментальности: нельзя вылечить больного добротой, касается ли это лекарств или психотерапии. Некоторым это покажется жестоким, и меня без сомнения будут упрекать в безжалостности по отношению к пациенту, в отсутствии сочувствия, в авторитаризме. Что ж, может, это и так. Дело не в моем собственном опыте, потому что существует нечто, отличное от сентиментальности, и это решающее условие психоанализа: ощущать в себе то, о чем говорит пациент. Если я не способен прочувствовать в себе, что значит быть шизофреником, быть в депрессии, быть садистом, нарциссической личностью или испуганным до смерти, даже если я могу чувствовать это в меньших дозах, чем пациенты, тогда мне просто неизвестно, о чем пациент говорит. И если я не делаю необходимого усилия, я не способен войти в соприкосновение с пациентом.
У некоторых людей существует идиосинкразия по отношению к некоторым вещам. Я помню, Салливан рассказывал, что ни один страдающий тревожностью пациент ни разу не обращался к нему повторно, поскольку он не проявлял ни симпатии, ни эмпатии к подобным состояниям. Ну, это совершенно нормально. Значит, не нужно принимать таких пациентов и быть хорошим психоаналитиком для тех пациентов, состояние которых он может прочувствовать сам.
Главное требование к психоаналитику – чувствовать то, что чувствует пациент. В этом причина того, что нет лучшего анализа для психоаналитика, чем анализировать других людей, потому что в таком процессе не остается почти ничего в самом психоаналитике, что не вышло бы на поверхность, что осталось бы незатронутым, – при условии что психоаналитик старается испытывать все, что испытывает пациент. Если психоаналитик думает: «Ладно, пациент – больной бедняга, потому что он платит», конечно, он останется интеллектуалом и никогда не будет убедителен для пациента.
В результате такого отношения психоаналитик определенно не будет сентиментален в отношении пациента, но проявит сочувствие в силу глубокого ощущения: нет ничего, что происходило бы с пациентом, что не происходило бы с ним самим. Психоаналитик лишается возможности быть судьей или моралистом, возмущаться пациентом, коль скоро воспринимает все, что чувствует пациент, как свое собственное ощущение. Не думаю, что в противном случае психоаналитик понимает пациента. В естественных науках вы можете поместить материал на стол, рассматривать его и измерять. В ситуации психоанализа недостаточно того, чтобы пациент выложил на стол свой материал, потому что для меня он не станет фактом до тех пор, пока я не увижу этого в себе как нечто реальное.
Наконец, очень важно видеть в пациенте героя драмы, а не собрание комплексов. Каждое человеческое существо и в самом деле является героем драмы – вовсе не в сентиментальном смысле. Перед вами личность с определенными дарованиями, которые обычно пропадают втуне, его жизнь – отчаянная борьба за то, чтобы сделать что-то из того, с чем он был рожден, борясь с жесточайшими препятствиями. Даже самый обычный человек в определенном смысле чрезвычайно интересен, если видеть в нем такую личность, – как живое существо, брошенное в мир, неизвестный и нежеланный ему, и борющееся за то, чтобы пробиться через него. Великий писатель тем и характеризуется, что может так показать банального человека, что он станет нам интересен. Яркий пример – Бальзак: большинство его героев неинтересны, но талант писателя делает их интересными необыкновенно. Врачам-психоаналитикам, конечно, далеко до Бальзака, и мы не пишем романов, однако всем нам следует обрести способность видеть в пациенте человеческую драму, да и в каждом человеке, вызвавшем наш интерес, а не только в больном, обратившемся к нам с симптомами А, Б, В.
В заключение хочу кое-что сказать о прогнозе. В тех случаях, которые я называю доброкачественными неврозами, шансы на излечение велики, при злокачественных – шансов мало. Я не возьмусь обозначить процентное отношение, потому что, во-первых, это профессиональный секрет, а во-вторых, об этом пришлось бы говорить долго. Впрочем, полагаю, что общеизвестно: шанс на излечение при тяжелом, злокачественном неврозе не особенно высок. Не вижу, чего тут можно было бы стыдиться. Если вы сталкиваетесь с тяжелым соматическим заболеванием и получаете, скажем, 5 % излечений определенным методом – а на мой взгляд, шанс при психоанализе даже несколько выше, – при условии что лучшего метода нет и это все, что может сделать врач, – то и в этом случае и врач, и пациент, и все его друзья и родственники приложат максимум усилий для достижения выздоровления, даже если шанс составляет всего 5 %. Неправильно не замечать различий между доброкачественным и злокачественным неврозами и обольщаться фразами вроде «Ну, психоанализ излечивает все»; психоаналитик может обманывать себя, глядя на пациента и надеясь, что дела не так плохи. Даже в тех случаях, когда пациент не излечивается, при хорошем психоанализе выполняется по крайней мере одно условие: проведенные с психоаналитиком часы, если они прошли живо и значимо, окажутся самыми важными и лучшими часами в жизни пациента. Думаю, такого нельзя сказать о многих видах терапии, и это служит утешением аналитику, борющемуся за пациента с низкими шансами на излечение.
При доброкачественных неврозах прогноз гораздо лучше. Я предположил бы, что при легких формах во многих случаях применимы методы, требующие меньше двух лет анализа, другими словами, если психоаналитику хватит смелости применить инсайт, подойти к проблеме напрямую и совершить за двадцать часов то, на что он чувствовал бы себя обязанным затратить две сотни часов. Не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать прямые методы там, где это возможно.
Часть II. Терапевтические аспекты психоанализа
4. Что такое психоанализ
Цель психоанализа
Вопрос, с которого я хочу начать, является одновременно главным для всего, что последует. Какова цель психоанализа? Это очень простой вопрос, и я думаю, что на него есть очень простой ответ: познать себя. Эта потребность – познать себя – очень древняя человеческая потребность; от греков до Средневековья и до современности сохраняется идея о том, что познание себя есть основа познания мира или, как это в драматической форме выразил Майстер Экхарт[6 - Экхарт Майстер (ок. 1260 – ок. 1328) – средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших мистиков.], «единственный путь к познанию Бога – познать себя». Это одно из древнейших человеческих устремлений и воистину цель, коренящаяся в объективных факторах.
Как познавать мир, как жить и должным образом реагировать, если сам инструмент, нужный, чтобы действовать и решать, нам неизвестен? Мы – проводники, руководители того «Я», которому каким-то образом удается взаимодействовать с миром, принимать решения, определять приоритеты, обретать ценности. Если это «Я», этот главный субъект, который решает и действует, нам как следует неизвестен, значит, все наши действия, все решения совершаются наполовину вслепую или в полубодрствующем состоянии.