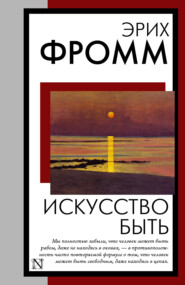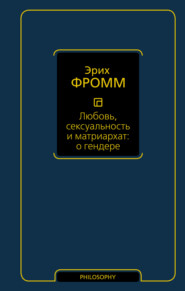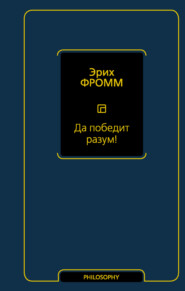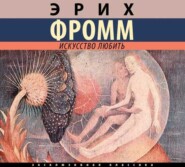По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Душа человека. Революция надежды (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я полагаю, что дилемма может быть разрешена, если определять сущность человека не как данное качество или субстанцию, а как противоречие, имманентное человеческому бытию[29 - Мысли, приведенные на следующих страницах, изложены мною в книге «The Sane Society» (1955). Я хотел бы их здесь повторить в сжатой форме, поскольку иначе будет лишена основы главная часть данной книги.].
Это противоречие проявляется в двух феноменах. Во-превых, человек – это животное, которое по сравнению с другими животными недостаточно оснащено инстинктами, поэтому его выживание гарантировано лишь в случае, если он производит средства, удовлетворяющие его материальные потребности, и если он развивает свой язык и совершенствует предметный мир. Во-вторых, человек, как и другие животные, обладает интеллектом, который позволяет ему использовать процесс мышления для достижения непосредственных практических целей. Но человек обладает еще и другим духовным свойством, отсутствующим у животного. Он осознает самого себя, свое прошлое и свое будущее, которое есть смерть; он осознает свое ничтожество и бессилие; он воспринимает других как других – в качестве друзей, врагов или чужаков. Человек трансцендирует всю остальную жизнь, поскольку он впервые является жизнью, которая осознает самое себя. Человек находится внутри природы, он подчинен ее диктату и изменениям, и тем не менее он трансцендирует природу, ибо ему недостает нерефлектированности животного, делающей его частью природы, позволяющей ему быть единым с природой. Человек видит свою вовлеченность в ужасный конфликт – он пленник природы, но, несмотря на это, свободен в своем мышлении, он часть природы и все же, так сказать, ее причуда, он не находится ни здесь, ни там. Это осознание самого себя сделало человека чуждым в мире, обособленным от всех, одиноким и преисполненным страха.
В описанном противоречии речь, по существу, идет об антагонизме, ставшем уже классическим: человек является одновременно телом и душой, ангелом и зверем, он принадлежит к двум конфликтующим между собой мирам. Я хотел бы показать, что недостаточно видеть сущность человека в этом конфликте, как будто он только через него становится человеком. Необходимо сделать следующий шаг и признать, что именно этот конфликт в человеке требует своего разрешения. Если конфликт осознается, то сразу же напрашиваются известные вопросы: что может сделать человек, чтобы справиться с ужасной дилеммой, сопутствующей его существованию? что он может сделать, чтобы прийти к гармонии, которая освободит его от мук одиночества, даст возможность почувствовать себя в мире, как дома, и позволит ему достичь чувства единства с миром?
Ответ на эти вопросы не может носить теоретического характера (даже если он находит свое выражение в размышлениях о жизни и теориях). В гораздо большей степени человек должен дать ответ всем своим бытием, всеми своими ощущениями и действиями. Этот ответ может быть хорош или плох, но даже наихудший ответ все же лучше, чем вообще никакого. Однако любой ответ должен удовлетворять одному условию; он должен помогать человеку преодолеть чувство обособленности своего бытия и приобрести чувство согласия, единения и сопричастности к миру. Есть целый ряд ответов, которые человек может дать на вопрос, поставленный перед ним его человеческим бытием, и я коротко остановлюсь на этом в последующем изложении. Но хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ни один из этих ответов сам по себе еще не составляет сущности человека. Сущность человека скорее состоит в вопросе и потребности ответить на него. Различные формы бытия человека не составляют его сущности, это лишь ответы на конфликт, который сам является проявлением сущности человека.
Первый ответ на стремление преодолеть обособленность существования и достичь единения я обозначил бы как регрессивный ответ. Пытаясь достичь единения, освободиться от страха одиночества и неизвестности, человек может сделать попытку возвращения к своим истокам – к природе, к животной жизни или к своим предкам. Он может попытаться стряхнуть с себя все, что делает его человеком и одновременно мучает, – свой разум и осознание самого себя. Очевидно, именно это человек пытался сделать на протяжении сотен тысяч лет. Об этом свидетельствуют как история примитивных религий, так и тяжелые психические заболевания. И в примитивных религиях, и в индивидуальной психологии мы находим в той или иной форме одинаковые проявления тяжелого заболевания: регрессию к животному существованию, к состоянию преиндивидуации, попытку освободиться от всего, что является специфически человеческим. Это утверждение мы, однако, должны уточнить в одном отношении. Архаические регрессивные тенденции разделялись многими, поэтому мы имеем здесь дело folie а1 millions. Именно тот факт, что это безумие разделялось большинством, позволяет ему выступать в качестве мудрости, позволяет фиктивному стать истинным. Индивид, принимающий участие в массовом безумии, теряет ощущение своей полной изоляции, обособленности и избегает, таким образом, интенсивного страха, от которого он страдал бы в более прогрессивном обществе. Не следует забывать, что для большинства людей здравый смысл и реальность есть не что иное, как всеобщее одобрение. Если все думают так же, как сам человек, значит, он не «потерял рассудок».
Альтернативой регрессивному, архаическому решению проблемы человеческого существования, тяжести человеческого бытия является ее прогрессивное решение. Оно заключается в достижении новой гармонии не с помощью регрессии, а посредством полного развития всех человеческих сил, человечности в нас самих. Есть множество религий, отражающих переход между архаически-регрессивными и гуманистическими религиями, однако в радикальной форме прогрессивное решение впервые появляется на арене в удивительную эпоху человеческой истории между 1500 и 500 г. до н. э. Оно возникло около 1550 г. до н. э. в учении Эхнатона и приблизительно в то же время в учении Моисея у евреев, между 600 и 500 г. до н. э. подобные идеи провозгласили Лао-цзы в Китае, в Индии это сделал Будда, в Персии – Заратустра, мы находим их и у греческих философов, и у пророков Израиля. Новая цель человека – стать полностью человечным и тем самым вновь обрести утерянную гармонию – нашла свое выражение в различных понятиях и символах. Для Эхнатона эту цель символизировало Солнце, для Моисея – неведомый бог истории, Лао-цзы обозначал цель как дао (путь), для Будды она символизировалась в нирване, греческие философы называли ее неподвижным перводвигателем, персы дали ей имя Заратустра, пророки говорили о мессианском «конце дней». Эти понятия определялись в основном формами мышления, а в конечном счете – жизненной практикой и социо-экономико-политическими структурами соответствующей культуры. Но в то время как особая форма, в которой новая цель обрела свое выражение, зависела от различных исторических условий, сама цель в основных чертах оставалась все той же – разрешить проблему человеческого существования посредством правильного ответа на поставленный жизнью вопрос: как человек может стать полностью человечным и тем самым избавиться от страха перед своей изолированностью? Когда христианство и ислам соответственно на пятьсот и тысячу лет позже принесли подобные идеи в Европу и в страны Средиземноморья, их восприняла значительная часть мира. Но едва новые идеи стали принадлежать человеку, как он тут же начал их фальсифицировать. Вместо того чтобы самому становиться полностью человечным, он превратил бога и догмы, провозглашающие «новую цель», в своих идолов, он поставил фигуру или слово на место реальности собственного опыта. И все же человек снова и снова пытался вернуться к своей истинной цели. Мы находим такие попытки в сфере религии, в еретических сектах, в новых философских мыслях и политических доктринах.
Сколь бы ни были различны представления всех этих религий и движений, общей для них является идея основополагающей альтернативы для человека. Человек может выбирать между двумя возможностями: идти назад или двигаться вперед. Он может либо регрессировать в сторону архаического, патологического решения, либо прогрессировать, развивая свою человечность. Эта альтернатива может быть сформулирована по-разному.
В Персии альтернативой являются свет и тьма, в Ветхом Завете – благословение и проклятие, или жизнь и смерть. В социалистической доктрине альтернативой являются социализм и варварство.
Эту альтернативу мы находим не только в различных гуманистических религиях. Она проявляется также в принципиальном различии между духовным здоровьем и душевным заболеванием. То, что мы называем здоровым человеком, зависит от общей системы отношений и понятий данной культуры. Для германских «берсерков» человек, который мог вести себя подобно дикому зверю, был «здоровым». Сегодня такой человек считался бы психопатом. Все архаические формы душевного переживания – некрофилия, экстремальный нарциссизм, инцестуальный симбиоз, – которые в той или иной форме рассматривались в регрессивно-архаических культурах в качестве «нормы» или даже «идеала», поскольку люди были едины в отношении своих устоявшихся целей, сегодня рассматриваются как тяжелые формы психического заболевания. Если эти архаические силы выступают в менее интенсивной форме и им противодействуют противоположные силы, то они оттесняются, и это оттеснение приводит к «неврозу». Существенное различие между архаическим и регрессивным ориентированиями в прогрессивной культуре заключается в том, что архаически ориентированный индивид не чувствует себя изолированным в архаической культуре, а напротив, ощущает всеобщую поддержку, в то время как в прогрессивном обществе с таким человеком происходит совершенно противоположное. Он «теряет свой рассудок», поскольку находится в противоречии со всеми остальными. Это факт, что даже в такой прогрессивной культуре, как наша сегодняшняя, многие принадлежащие к ней люди проявляют весьма сильные регрессивные тенденции, которые, впрочем, оттесняются в ходе нормальной жизни и выходят открыто на поверхность только при особых условиях, например во время войны.
Еще раз подведем итог тому, что эти соображения могут дать нам для ответов на исходные вопросы. Прежде всего по вопросу о сущности человека мы пришли к заключению, что природа, или сущность человека не является такой специфической субстанцией, как добро или зло, а является противоречием, которое заложено в условиях самого человеческого существования. Этот конфликт сам по себе требует решения, которое в принципе может быть только регрессивным или прогрессивным. То, что иногда кажется врожденным стремлением человека к прогрессу, есть не что иное, как динамика поиска новых решений. На каждой новой ступени, достигнутой человеком, возникают новые противоречия, которые принуждают его и далее искать новых решений. Этот процесс будет продолжаться, пока человек не достигнет своей конечной цели – стать полностью человечным, пока он не станет совершенно единым с миром. Сможет ли человек достичь конечной цели полного «повзросления», когда исчезнут поиск и конфликт (как этому учит буддизм), или это станет возможным только после смерти (как это проповедует христианство), не должно нас здесь занимать. Гораздо важнее единая для всех гуманистических религий и учений «новая цель» и вера человека в то, что он может приблизиться к этой цели. (Если человек, напротив, ищет решений на регрессивном пути, то он будет неминуемо стремиться к полной потере человеческого облика, что равнозначно безумию.)
Если сущностью человека является не добро или зло, не любовь или ненависть, а противоречие, которое заставляет искать все новых решений, которые, в свою очередь, вызывают все новые противоречия, то человек может отреагировать на эту дилемму регрессивным или прогрессивным образом. Новейшая история дает тому многочисленные примеры. Миллионы немцев, особенно мелкие буржуа, утратив свои деньги и социальное положение, обратились при Гитлере к культу своих германских предков и вели себя подобно «берсеркам». Так же вели себя русские при Сталине, японцы при оккупации Нанкина и сброд со своим судом Линча – на Юге Америки. Для значительной массы людей существует реальная возможность выхода на поверхность переживаний, свойственных человеку архаической культуры. Вместе с тем условия реализации этой возможности будут различны. В одном случае архаические импульсы, хотя они и остаются очень сильными, оттеснены, поскольку в соответствующей цивилизации они находятся в противоречии с господствующими культурными традициями. Только особые обстоятельства, такие как война, стихийные бедствия или явления распада в обществе, могут легко открыть шлюзы для беспрепятственного выплескивания наружу оттесненных архаических импульсов. В другом случае развитие отдельной личности или членов группы действительно достигает прогрессивной стадии, и тогда травмирующие события наподобие вышеупомянутых не приведут так легко к возвращению архаических импульсов, ибо они не столько оттеснены, сколько замещены. Тем не менее потенциал архаических сил даже и в этом случае не исчезает вообще. При необычных обстоятельствах, например при длительном заключении в концентрационном лагере или при известных химических процессах в организме, может быть разрушена вся психическая система человека и архаические силы могут начать действовать с обновленной интенсивностью. Естественно, что между двумя экстремальными случаями – оттесненными архаическими импульсами, с одной стороны, и их полным замещением прогрессивным ориентированием – с другой, – существуют бесчисленные градации. Их соотношение различно для каждого человека, и то же самое можно сказать о степени оттесненности и осознания архаического ориентирования. Есть люди, у которых архаическая сторона настолько полно элиминирована не оттеснением, а развитием прогрессивного ориентирования, что для них стало просто невозможно регрессировать к ней. Есть такие лица, которые до такой степени разрушили всякие возможности развития прогрессивного ориентирования, что потеряли свободу выбора – в данном случае свободу решиться на прогрессивное действие.
Само собой разумеется, что общий дух, господствующий в определенном обществе, оказывает сильное влияние на развитие обеих сторон у каждого отдельного индивида. Но даже в этом отношении отдельный человек может сильно отклоняться от общественной модели ориентирования. Как уже было показано, в нашем современном обществе есть миллионы архаически ориентированных индивидов, которые сознательно верят учению Христа или Просвещения, но за этим фасадом являются настоящими «берсерками», некрофилами и идолопоклонниками Ваала или Астарты. При этом они совсем не обязательно впадают в конфликт, поскольку прогрессивные идеи не имеют значения в их сознании и поскольку в своей деятельности они, иногда в скрытой или завуалированной форме, подчинены своим архаическим импульсам. Вместе с тем и в архаических культурах часто встречались люди, развивавшие прогрессивное ориентирование. Они становились вождями, которые при определенных обстоятельствах прививали членам своей группы новое мировоззрение и закладывали основу для постепенного изменения всего общества. Если такие люди были достаточно незаурядны и если их учения оставляли след, то их называли пророками, наставниками и прочее. Без них человечество никогда не вышло бы из темноты архаического состояния. Тем не менее они смогли оказать влияние на человека лишь постольку, поскольку он в процессе развития труда все более освобождался от неведомых сил природы, развивал свой разум, свою объективность и переставал жить как хищное или тяглое животное.
То, что имеет силу в отношении группы, имеет силу и применительно к отдельному индивиду. В каждом человеке скрывается потенциал архаических сил, о чем ранее упоминалось. Только окончательно добрый или окончательно злой человек не имеет больше выбора. Почти каждый может регрессировать к архаическому ориентированию или двигаться в направлении полного прогрессивного раскрытия личности. В первом случае мы говорим о начале тяжелого душевного заболевания, во втором – о спонтанном излечении от болезни или о перемене соответствующего индивида в сторону полного пробуждения и созревания. Задачей психиатрии, психоанализа и различных гуманитарных наук является изучение условий, которые ведут к тому или иному развитию, а также показ методов, с помощью которых можно содействовать благоприятному развитию и положить конец негативному [30 - Ср. учение и практику дзен-буддизма, представленную Д.Т. Судзуки в его многочисленных книгах.].
Описание этих методов выходит за рамки данной книги. Их можно найти в специальной литературе по психоанализу и психиатрии. Для нас, однако, важно понять, что, за исключением экстремальных случаев, каждый отдельно взятый человек и каждая группа индивидов в любой точке может регрессировать в сторону самого иррационального и деструктивного ориентирования или двигаться в направлении самого просвещенного и прогрессивного ориентирования. Человек не является ни хорошим, ни дурным. Если верить в доброту человека как в его единственный потенциал, то обязательно будешь видеть факты в искаженном, розовом свете и в конце концов жестоко разочаруешься. Если верить в другую крайность, то превратишься в циника и не будешь замечать в себе самом и в других многочисленные возможности творить добро. Реалистический взгляд видит действительные потенциалы в обеих возможностях и исследует условия, при которых они соответственно развиваются.
Эти размышления подводят нас к проблеме свободы человека. Свободен ли человек в любой момент принять решение в пользу добра, или он не обладает этой свободой выбора, поскольку детерминирован внешними и внутренними силами? О проблеме свободы воли уже написано множество книг, и мне кажется, что в качестве введения к последующим страницам едва ли можно найти более подходящее высказывание, чем замечание Уильяма Джеймса на эту тему. Он пишет: «Широко распространено мнение, что дискуссия о свободе воли уже давно обессилела и увяла, и тот, кто одержал в ней верх, может привести в споре лишь избитые аргументы, которые всем хорошо известны. Но это глубокое заблуждение. Я не знаю другой темы, которая была бы менее банальна и дала бы увлеченному человеку лучший шанс сделать новые открытия – возможно, не для того чтобы навязать решение или вынудить прийти ко всеобщему согласию, но с тем чтобы поделиться с нами более глубоким пониманием того, о чем, собственно, идет речь в споре между двумя сторонами и что в действительности содержат идеи о судьбе и свободе воли». В последующем изложении я со своей стороны попытаюсь дать некоторые предложения по решению этой проблемы, исходя из того, что опыт психоанализа мог бы пролить новый свет на проблему свободы воли и дать возможность увидеть некоторые новые аспекты ее исследования.
Традиционная трактовка вопроса о свободе воли страдала оттого, что не имелось достаточного количества эмпирических психологических данных. Вследствие этого появилась склонность к изложению проблемы в самом общем и абстрактном виде. Если мы под свободой воли понимаем свободу выбора, то вопрос сводится к тому, свободны ли мы, например, выбрать между А и Б. Детерминисты говорят, что мы несвободны в этом, поскольку человек, как и всё в природе, причинно детерминирован. Как камень, находясь в воздухе, несвободен не упасть, так и человек вынужден решиться в пользу А или Б, ибо определенные мотивы детерминируют, принуждают и побуждают его выбрать А или Б[31 - Здесь, как и во всей книге, слово «детерминизм» употребляется в смысле направления, которое Уильям Джеймс и современные англосаксонские философы обозначают как «жесткий детерминизм». Детерминизм в этом смысле следует отличать от теории, содержащейся в произведениях Юма и Милля, которую обычно обозначают как «мягкий детерминизм» и согласно которой детерминизм и человеческая свобода совместимы. В своей позиции я больше склоняюсь к «мягкому», чем к «жесткому» детерминизму, однако не хотел бы идентифицировать себя также и с первым.]. Противники детерминизма утверждают обратное. Приверженцы религии аргументируют это следующим образом: Бог дал свободу человеку, чтобы выбирать между добром и злом, поэтому человек обладает такой свободой.
Другая аргументация состоит в следующем: человек свободен, поскольку иначе его нельзя сделать ответственным за свои поступки. Третья аргументация такова: человек субъективно переживает себя свободным, поэтому сознание собственной свободы является доказательством ее существования. Все три аргумента кажутся мне неубедительными. Первый предполагает веру в Бога и знание Божьих планов в отношении человека. Второй, вероятно, возник из желания сделать человека ответственным за свои поступки, чтобы можно было его наказать. Идея наказания, которая встречается в большинстве обществ прошлого и настоящего, является прежде всего известной защитой меньшинства имущих от большинства «бедняков» (или по крайней мере задумана в качестве таковой); она является символом дисциплинарной власти авторитета. Если есть желание наказать, необходим кто-то, кто отвечает за свои действия. При этом невольно на ум приходит замечание Бернарда Шоу: «Повешение ушло в прошлое – теперь у нас остался только процесс». Третий аргумент – сознание свободы выбора якобы доказывает, что эта свобода существует в действительности, – основательно опровергли уже Спиноза и Лейбниц. Спиноза указал на то, что мы обладаем иллюзией свободы, поскольку мы осознаем наши желания, но не их мотивации. Лейбниц тоже доказывал, что желание отчасти мотивировано неосознанными тенденциями. Остается только удивляться, что большинство из тех, кто занимался этой темой после Спинозы и Лейбница, не признали следующее: проблему свободы воли нельзя решить, пока мы не поймем, что наши действия определяют неосознанные силы, даже если мы живем в счастливом убеждении, что имеем свободный выбор. Но, исключая эти специальные оговорки, аргументы в пользу свободы воли кажутся противоречащими нашему повседневному опыту. Представлена ли эта точка зрения религиозными этиками, философами-идеалистами или склонными к марксизму экзистенциалистами, она в лучшем случае является благородным постулатом, и, возможно, не таким уж благородным, поскольку она в высшей степени нечестна по отношению к индивиду. Можно ли действительно утверждать, что человек, выросший в материальной и духовной бедности, никогда не испытавший любви и сочувствия к кому-либо, тело которого из-за многолетнего злоупотребления алкоголем свыклось с пьянством и который не имеет возможности изменить условия своей жизни, – можно ли действительно утверждать, что он «свободен» выбирать? Разве подобная точка зрения не противоречит фактам, разве она вызывает сочувствие и разве речь не идет в конечном счете о понимании, которое в языке XX в. (как и значительная часть философии Сартра) отражает дух буржуазного индивидуализма и эгоцентризма – новой версии «Единственного и его собственности» Макса Штирнера?
Противоположное, постулируемое детерминизмом мнение, что человек не имеет свободы выбора, что его решения в любой точке вызваны к жизни и детерминированы более ранними по времени внешними и внутренними событиями, на первый взгляд кажется более реалистичным и очевидным. Разве анализ Фрейда и Маркса не показал, как слаб человек в своей борьбе против детерминирующих его инстинктивных и общественных сил, вне зависимости от того, применяется ли детерминизм к социальным группам и классам или к отдельно взятому индивиду? Разве психоанализ не показал, что человек, который не освободился от своей материнской связи, не способен действовать и решать самостоятельно, что он чувствует себя слабым и впадает во все возрастающую зависимость от матери, пока для него не будет больше возврата? Разве марксистский анализ не показал, что если класс, например мелкая буржуазия, потерял однажды свое достояние, культуру и социальную функцию, то его члены теряют всякую надежду и регрессируют к архаическому некрофильному и нарциссическому ориентированию?
Тем не менее ни Маркс, ни Фрейд не были детерминистами в том смысле, что они якобы верили в категоричность каузальной детерминации. Они оба верили в возможность изменения однажды избранного пути. Они оба видели обоснование этой возможности в способности человека осознавать силы, которые побуждают его действовать таким образом, что это позволит ему вновь обрести свою свободу. Они оба, как и Спиноза, оказавший сильное влияние на Маркса, были одновременно детерминистами и индетерминистами или ни детерминистами, ни индетерминистами. Оба представляли точку зрения, согласно которой человек детерминирован законами причины и следствия, однако он может создать сферу свободы и постоянно увеличивать ее посредством расширения сознания и правильных действий. Для него очень важно завоевать оптимум свободы и освободиться от цепей неизбежности. Предпосылкой освобождения для Фрейда было осознание неосознанного, а для Маркса – осознание социально-экономических сил и классовых интересов. По мнению обоих, предпосылкой освобождения должно быть не только осознание, но также активная воля и готовность к борьбе [32 - Подобная точка зрения, по существу, представлена в классическом буддизме. Человек привязан к колесу перерождений. Он может освободить себя от этой детерминации только через осознание своей экзистенциальной ситуации и через вступление на восьмеричный путь праведной жизни. Подобная же точка зрения представлена пророками Ветхого Завета. Человек имеет выбор между «благословением и проклятием», между «жизнью и смертью», но может наступить такой момент, в котором возврат уже невозможен, если он слишком долго медлит с выбором жизни.].
Каждый психоаналитик, конечно, имел дело с пациентами, которые были готовы полностью изменить тенденции, определявшие их жизнь до сих пор, после чего они осознавали их и со всей энергией пытались вновь обрести свою свободу. Но не нужно быть психоаналитиком, чтобы проделать такой опыт. Некоторые из нас проводили подобный эксперимент над собой или над другими: им удавалось разбить цепь кажущейся каузальности, и они вступали на новый путь, который казался им «чудом», поскольку он противоречил всем трезвым ожиданиям, возможным на основе их прежнего поведения.
Традиционное рассмотрение свободы воли страдало не только оттого, что в нем не отводилось должного места открытию Спинозы и Лейбница о неосознанной мотивации. Есть и другие причины. В последующем изложении я хотел бы указать на некоторые недостатки традиционного рассмотрения свободы воли.
Один из них состоит в том, что мы привыкли говорить о свободе воли «человека вообще», вместо того чтобы говорить о свободе воли определенного индивида [33 - В это заблуждение впадает даже такой автор, как Остин Фаррар, чьи работы о свободе принадлежат к наиболее остроумным, обоснованным и объективным анализам свободы. Он пишет: «Выбор находится per definitionem между альтернативами. То, что при одной альтернативе выбор является подлинным и психологически открытым, можно заключить на основании наблюдения, что люди стараются сделать свой выбор. То, что они обычно упускают возможность сделать свой выбор, еще не доказывает, что он не был для них открыт» (подчеркнуто мною. – Э. Ф.).]. Я попытаюсь позже показать, что когда говорят о свободе воли «человека вообще», а не конкретного индивида, то об этом говорят абстрактно; это делает проблему неразрешимой. Отсюда следует, что один человек обладает свободой выбора, в то время как другой ее утратил. Если же мы ссылаемся на всех людей, то мы имеем дело либо с абстракцией, либо всего лишь с моральным постулатом в смысле Канта или Уильяма Джеймса. Другой недостаток традиционного рассмотрения свободы воли заключается в том, что классические авторы от Платона до Фомы Аквинского были склонны излагать проблему добра и зла в общем виде, как будто «человек вообще» имеет выбор между добром и злом и как будто он свободен выбирать именно добро. Этот взгляд внес большую путаницу в дискуссию, поскольку как раз большинство людей, если они поставлены перед выбором «вообще», решаются сделать его в пользу добра, а не в пользу зла. Но свободного выбора между «добром и злом вообще» не существует, есть только конкретные и специфические способы действия, которые являются средством для достижения добра, и способы действия, которые являются средством для достижения зла, причем всегда предполагается, что добро и зло определены правильно. До морального конфликта в отношении свободы воли дело доходит тогда, когда нам нужно принять конкретное решение, а не тогда, когда мы решаем в пользу «добра или зла вообще».
Следующий недостаток традиционного рассмотрения свободы воли нужно видеть в том, что оно занимается проблемой свободы воли, или детерминизма, а не различной силой склонностей (Лейбниц принадлежит к сравнительно редким авторам, которые говорят о incliner sans nеcessiter). Как я позже попытаюсь показать, проблема свободы, или детерминизма, в действительности сводится к проблеме конфликта между различными склонностями и их интенсивностью.
Наконец, путаница господствует и в определении понятия «ответственность». Об «ответственности» обычно говорится, когда я должен быть за что-то наказан или в чем-то обвинен. При этом едва ли есть различие, даю ли я обвинить себя другим или обвиняю себя сам. Если я сам считаю себя виноватым, то я сам себя накажу, если другие находят меня виноватым, то они меня накажут. Понятие «ответственность» употребляется, однако, и в другом значении, которое не имеет ничего общего с наказанием или «виной». В этом смысле ответственность означает следующее: «Я сознаю, что я это сделал». Фактически мое действие отчуждено от меня, если я воспринимаю его как «грех» или «вину». Это сделал как бы уже и не я, а «грешник», «злой дух», «тот другой», которого теперь следует наказать, уж не говоря о том, что чувство вины и самообвинения ведет к печали, презрению к самому себе и к пренебрежению жизнью. Это прекрасно выразил великий хасидский учитель Ицхак Меир из Гера:
«Кто постоянно говорит и рассуждает о содеянном им зле, не перестает думать о совершенной подлости, тот погружен в то, о чем он думает, полностью поглощен этим, и, таким образом, он пребывает в подлости: такого, конечно, невозможно обратить, поскольку его дух огрубел, сердце покрылось плесенью, и к тому же он впал в уныние. Чего ты хочешь? Как ни размешивай грязь, туда или сюда, все равно останется грязь. Согрешил, не согрешил – что с того на небе? Пока я об этом размышляю, я могу все же нанизывать жемчуг на радость небу. Потому и говорится: “Отступись от зла и твори добро” – отвернись полностью от зла, не думай о нем и твори добро. Ты совершил несправедливость? Так делай в противовес этому праведное дело!» (Buber M. 1949. S. 826).
Это соответствует духу ветхозаветного слова «chatah», которое обычно переводится как «грех», а в действительности означает «упустить возможность» (пойти по неправедному пути). В этом слове отсутствует качество осуждения, которое содержится в словах «грех» и «грешник». Точно так же в еврейском слове, обозначающем «покаяние» – teschuwah – «возврат» (к Богу, к самому себе, на правый путь), – нет ничего от самоосуждения. Талмуд использует выражение «наставник возврата» вместо «кающийся грешник» и говорит о нем, что он стоит даже выше тех, кто никогда не грешил.
Если мы условились понимать свободу выбора как две различные возможности действия, перед которыми поставлен определенный человек, мы можем начать наше обсуждение с конкретного повседневного примера: со свободного решения курить или не курить. Представим себе заядлого курильщика, который читал в прессе о вредном воздействии курения на здоровье и пришел к решению бросить курить. Он «решил с этим покончить». Это «решение» еще не есть решение. Речь идет лишь о формулировке некоей надежды. Хотя он и «решил» бросить курить, но на следующий день у него слишком хорошее настроение, через день у него слишком плохое настроение, а на третий день ему не хочется оставаться «вне компании», в последующие дни он сомневается, что сообщения о вреде курения соответствуют действительности, и так он продолжает курить, даже если «решил» покончить с этим делом. Все эти решения являются лишь идеями, планами, фантазиями, они имеют мало или вообще не имеют ничего общего с действительностью до тех пор, пока не будет принято настоящее решение. Настоящее решение он принимает лишь в тот момент, когда перед ним лежит сигарета, и он должен решить, будет он курить эту сигарету или нет, позже он должен решить это в отношении другой сигареты и т. д. Это всегда конкретный акт, требующий решения. В каждой из этих ситуаций вопрос звучит так: свободен ли он не курить или не свободен?
Здесь возникает множество вопросов. Предположим, он не верит сообщениям органов здравоохранения о курении или, если он им верит, убежден, что лучше на 20 лет меньше прожить, чем отказаться от этого удовольствия. Очевидно, в таком случае для него не существует проблемы выбора. Но возможно, проблема лишь замаскирована. Его осознанные мысли могут быть не чем иным, как рациональным объяснением его ощущения, что ему все равно не выиграть этой битвы, даже если он попытается. По этой причине он может предпочесть вести себя так, как будто и не надо выигрывать никакой битвы. Но, независимо от того, осознана или нет проблема выбора, речь, в сущности, идет о том же выборе. Речь идет о выборе между образом действия, продиктованным разумом, и образом действия, продиктованным иррациональными пристрастиями. Согласно Спинозе свобода основывается на «адекватных идеях», которые, в свою очередь, базируются на ощущении и восприятии действительности и определяют действия, обеспечивающие самое полное развитие психического и духовного проявления человека. Человеческая деятельность, по Спинозе, каузально определяется страстями или разумом. Если человек одержим страстями – он раб, если он подвластен разуму – он свободен.
Иррациональными являются такие страсти, которые пересиливают человека и заставляют его действовать вопреки своим истинным интересам. Они ослабляют и разрушают его силы и заставляют его страдать. В проблеме свободного выбора речь идет не о том, чтобы выбрать между двумя одинаково хорошими возможностями, речь идет не о выборе, поиграть ли в теннис или совершить прогулку, посетить друга или остаться дома и почитать. При свободном выборе в смысле детерминизма или индетерминизма речь постоянно идет о том, решиться ли на лучшее или худшее. Причем лучшее или худшее постоянно затрагивает фундаментальный моральный вопрос жизни, при котором речь идет о дальнейшем развитии или регрессии, о любви или ненависти, о независимости или зависимости. Свобода означает не что иное, как способность следовать голосу разума, здоровья, благополучия и совести против голоса иррациональных страстей. В этом плане мы вполне согласны с традиционной точкой зрения Сократа, Платона, стоиков и Канта. Однако мне хотелось бы особо выделить, что свобода следовать заповедям разума является психологической проблемой, которую можно исследовать дальше.
Сначала вернемся к нашему примеру с человеком, который стоит перед выбором – курить ему эту сигарету или не курить, или, другими словами, стоит перед проблемой, свободен ли он последовать своему разумному намерению. Мы можем себе представить человека, о котором мы почти определенно можем сказать, что он не в состоянии выполнить свое намерение. Предположим, речь идет о человеке, глубоко привязанном к матери и орально-рецептивно ориентированном, который постоянно чего-то ожидает от других, не в состоянии самоутвердиться и потому преисполнен глубоким хроническим страхом. Для него курение является удовлетворением его рецептивной потребности и защитой от собственного страха. Сигарета символизирует для него силу, взрослость, активность, и потому он без нее не обходится. Его потребность в сигарете – следствие его страха, рецептивности и так далее, и потому она столь же сильна, как и этот мотив. Есть точка, в которой эти мотивации столь значительны, что упомянутый индивид будет не в состоянии подавить свою потребность, если в равновесии сил внутри него не произойдет заметного изменения. Можно сказать, что он практически не свободен решиться на то, что, как ему известно, было бы для него лучше. С другой стороны, мы могли бы представить себе человека такой зрелости и продуктивности и столь свободного от всех страстей, что для него было бы невозможно действовать против разума и своих истинных интересов. Но и у него нет «свободного выбора», он не курил бы, поскольку не испытывал бы к этому влечения [34 - Августин говорит о состоянии блаженства, в котором человек не свободен больше грешить.].
Свобода выбора не есть формальная абстрактная способность, которую человек либо «имеет», либо «не имеет». В гораздо большей степени здесь речь идет о функции структуры характера. Определенные люди не свободны решиться в пользу добра, поскольку в структуре их характера потеряна способность действовать в соответствии с добром. Некоторые потеряли также способность решиться в пользу зла, поскольку структура характера утратила потребность во зле. Эти экстремальные случаи свидетельствуют о том, что оба человека детерминированы в своей деятельности, поскольку равновесие сил в их характерах не оставляет им выбора. У большинства людей, однако, мы имеем дело с противоречащими друг другу склонностями, которые сбалансированы таким образом, что они могут выбирать. То, как они действуют, зависит от силы тех или иных противоречивых склонностей их характера.
Между тем должно быть ясно, что понятие «свобода» можно понимать двояко. С одной стороны, свобода – это поведение, ориентирование, составная часть структуры характера зрелой, полностью развитой, продуктивной личности. В этом смысле я могу говорить о «свободном» человеке, так же как я могу говорить о преисполненном любви, продуктивном, независимом человеке. Свободный человек в этом смысле действительно является преисполненным любви, продуктивным и независимым человеком. Свобода в этом смысле покоится не на том, что принимается специальное решение в пользу одного или другого из двух возможных способов действия, а на структуре характера данного индивида, и в этом смысле тот, «кто не свободен больше выбирать зло», является полностью свободным человеком. Другое значение свободы соответствует тому, которым мы до сих пор в основном занимались. Это способность решаться в пользу одной или другой из двух альтернатив. В этих альтернативах, однако, речь постоянно идет о выборе между рациональными и иррациональными интересами в жизни, о росте или стагнации и смерти. Если понимать свободу в этом смысле, то наилучший и наихудший индивиды не имеют свободы выбора, в то время как проблема свободы выбора встает как раз перед средним человеком с его противоречивыми склонностями.
Если мы говорим о свободе в этом втором смысле, возникает вопрос: от каких факторов зависит свобода выбора между противоречивыми склонностями?
Совершенно очевидно, что самый важный фактор следует искать в соотношении сил противоречивых склонностей, особенно касающихся их неосознанных аспектов. Но если мы спросим себя, какие факторы благоприятствуют свободе выбора, даже когда иррациональная склонность более сильна, то поймем, что ясное осознание ситуации является решающим фактором при принятии решения в пользу лучшего, а не худшего. При этом речь идет (1) об осознании того, что хорошо и что плохо; (2) об осознании того, какой способ действия в конкретной ситуации подходит для достижения желаемой цели; (3) об осознании сил, которые стоят за открыто проявленным желанием, то есть об осознании собственных неосознанных желаний; (4) об осознании реальных возможностей, между которыми есть выбор; (5) об осознании последствий, которые повлечет за собой решение в том или другом случае; (6) об осознании того, что осознание как таковое нам не поможет, если оно не идет рука об руку с желанием действовать, с готовностью взять на себя боль и лишения, неизбежные, если действовать наперекор своим страстям.
Проверим еще раз эти различные способы осознания. Осознание того, что хорошо и что плохо, есть нечто иное, нежели теоретическое знание того, что в большинстве моральных систем обозначается в качестве хорошего и плохого. Просто перенять традиционное убеждение, что любовь, независимость и мужество – это хорошо, а ненависть, подчинение и трусость – плохо, мало что значит, поскольку это знание есть отчужденное знание, полученное от авторитетов, выведенное из традиции и считающееся истинным лишь потому, что оно происходит из подобных источников. Осознание в нашем смысле означает усвоение знания путем его переживания, эксперимента над самим собой, наблюдения за другими людьми, что приводит к твердому убеждению, а не к «мнению». Однако решиться на общие принципы недостаточно. Помимо этого осознания необходимо понять равновесие внутренних сил и видеть сквозь рассудочность, которая скрывает от нас неосознанные силы.
Например, мужчина чувствует сильное влечение к некой женщине и настоятельную потребность вступить с ней в связь. Он убежден, что имеет такое желание, поскольку она красивая, чуткая, или нуждается в любви, или поскольку он сам изголодался в сексуальном плане, тоскует по симпатии, он так одинок и т. д. Он может вполне отдавать себе отчет, что испортит жизнь обоих, если вступит с ней в связь, что она боится, ищет защиты со стороны мужчины и потому не оставит его так просто. Но хотя он все это понимает, он продолжает флирт и вступает с ней в любовную связь. Почему? Потому что он осознает свои желания, но не лежащие в их основе силы. О каких силах идет речь? Я мог бы упомянуть одну из многих, которая, однако, зачастую играет большую роль: тщеславие и нарциссизм. Если он вбил себе в голову овладеть этой женщиной в качестве доказательства своей привлекательности и своей ценности, то, как правило, он не осознает свои подлинные мотивы. Он позволяет обмануть себя всем вышеупомянутым ходом рассуждений и многим другим, а действует исходя из своего подлинного мотива, даже если он не может это осознать и пребывает в иллюзии, что действует из других, разумных мотивов.
Следующий шаг к подлинному осознанию ситуации состоит в том, что он полностью отдает себе отчет в последствиях своих действий. В момент принятия решения он находится в плену своих желаний и всевозможных успокоительных рассуждений. Однако его решение могло быть совершенно иным, если бы он мог себе представить последствия своего поступка, если бы он, к примеру, мог осознать, что ведет дело к затяжной, нечестной любовной афере, от которой он скоро устанет, поскольку свой нарциссизм он может удовлетворить только свежим завоеванием; если бы он мог осознать, что ему придется давать все больше ложных обещаний, поскольку у него нечиста совесть и он боится признаться, что никогда в действительности не любил эту женщину и что он испытывает страх перед собой и перед ней в связи с парализующим и вредным воздействием этого конфликта и т. п. Но даже если он составил себе представление о лежащей в основе его поступка подлинной мотивации и ее последствиях, само по себе это еще не подкрепляет его склонности принять правильное решение. К этому следует добавить еще одно важное осознание: следует отдавать себе отчет, когда необходимо сделать правильный выбор и каковы реальные возможности, из которых можно выбирать.
Предположим, к примеру, данный мужчина составил себе представление обо всех своих мотивациях и обо всех последствиях, предположим, что он «решил» не спать с этой женщиной. После этого он идет с ней на концерт и, прежде чем проводить ее домой, приглашает ее «немножко выпить». На первый взгляд это выглядит весьма безобидно. Нет ничего особенного в том, чтобы выпить вместе пару рюмок. В этом действительно не было бы ничего особенного, если бы это равновесие сил уже не находилось в столь чувствительном состоянии. Если бы он в этот момент мог дать себе отчет, к чему приведет «еще одна рюмка», выпитая вместе, возможно, он не настаивал бы на этом. Он бы осознал тогда, что выпивка в романтически-чувственной атмосфере ослабит его силу воли, и он будет не в состоянии отказаться от следующего шага – пойти к ней домой, чтобы выпить еще, что почти наверняка приведет его в ее постель. Если бы он полностью понимал ситуацию, если бы он осознал эти последствия как неизбежные, он, основываясь на таком понимании, возможно, и не пригласил бы ее. Но поскольку страсть сделала его слепым в отношении неотвратимых последствий, он не принимает правильного решения до тех пор, пока это еще для него возможно. Другими словами: он принял настоящее решение уже в тот момент, когда пригласил ее «немножко выпить» (или, возможно, уже тогда, когда пригласил ее на концерт), а не тогда, когда он лег с ней в постель. В конце этой цепи решений он больше не свободен выбирать; раньше он, возможно, имел бы свободный выбор, если бы отдавал себе отчет, что в этот момент речь идет о подлинном решении. Если делается вывод, что человек не свободен выбирать между лучшим и худшим, то в значительной мере имеется в виду, что во всей последовательности событий он может принять только последнее, а не первое или второе решение. На деле же мы, как правило, не свободны в последнем решении. Но на более раннем этапе, когда мы еще не запутались так глубоко в наших страстях, у нас есть свобода выбора. Обобщая, можно было бы сказать, что одна из причин, по которой большинство людей терпит неудачу в своей жизни, заключается в том, что они не отдают себе отчет, в какой момент они еще свободны действовать в соответствии со своим разумом, они осознают ситуацию только тогда, когда уже слишком поздно принимать решение.
К этой проблеме осознания момента, когда необходимо принять настоящее решение, тесно примыкает другая проблема. Наша способность принимать решение всегда находится в связи с нашей жизненной практикой. Чем дольше мы принимали неправильные решения, тем больше «ожесточается» наше сердце; чем чаще мы принимаем истинные решения, тем «мягче» становится наше сердце, или, правильнее сказать, тем живее оно становится.
Хороший пример – игра в шахматы. Предположим, два одинаковых по силе игрока начинают партию, соответственно они имеют равные шансы на выигрыш (правда, у белых есть преимущество, но нас в данном случае это не должно занимать). Другими словами, каждый из них одинаково свободен выиграть партию. Но после пяти ходов ситуация выглядит уже иначе. Оба все еще могут выиграть, но А, сделавший лучший ход, имеет больше шансов на выигрыш. Теперь он, так сказать, более свободен выиграть, чем его противник Б. Но и Б все еще свободен выиграть. После нескольких дальнейших ходов, которые были сделаны А вполне успешно, и Б не смог отразить их соответствующим образом, можно констатировать вполне определенно, что А выиграет, но только почти. Б все еще может выиграть. Через несколько ходов игра заканчивается. Если Б хороший игрок, он поймет, что больше не свободен выиграть, еще до получения мата он поймет, что проиграл. Плохой игрок, не умеющий правильно оценить решающие факторы игры, продолжает питать иллюзию, что он может еще выиграть, даже после того, как он больше не свободен это сделать. Из-за этой иллюзии он должен играть вплоть до горького конца и позволяет поставить своему королю мат [35 - Если речь идет только о проигранной партии в шахматы, то этот ход, конечно, нельзя назвать «горьким». Однако если речь идет о смерти миллионов людей только потому, что генералы не были достаточно искусны и объективны, чтобы увидеть, что они проиграли войну, то здесь обозначение «горький конец» вполне оправдано. Дважды в нашем столетии мы пережили такой горький конец, сначала в 1917 г., а затем в 1943 г. В обоих случаях немецкие генералы не поняли, что они больше не свободны выиграть войну, и тем не менее они совершенно бессмысленно продолжали ее вести и пожертвовали миллионами человеческих жизней.].
Аналогия с шахматной игрой лежит на поверхности. Свобода не есть константный атрибут, который мы либо «имеем», либо «не имеем». В действительности свободы не существует в том смысле, в каком существует вещь; свобода – это слово, абстрактное понятие. Существует лишь одна реальность: акт самоосвобождения в процессе решения. В этом процессе объем нашей возможности выбирать постоянно зависит от нашей жизненной практики. Каждый шаг, укрепляющий мою самоуверенность, целостность, мужество и убежденность, укрепляет также мою способность выбирать желаемую альтернативу, причем мне все труднее ошибиться в своем решении. Кроме того, если я проявляю свою покорность и трусость, я становлюсь все слабее, это, в свою очередь, открывает дорогу последующим трусливым действиям, пока, наконец, я не потеряю свою свободу. Между одной экстремальной ситуацией, при которой я больше не в состоянии решиться на что-то неверное, и другой, при которой я потеряю свою свободу действовать правильно, существуют бесчисленные градации. Объем свободы решения меняется в ходе жизненной практики ежемоментно. Если мы обладаем высокой мерой свободы решаться в пользу добра, то этот выбор стоит нам меньших усилий. Если степень нашей свободы незначительна, то это требует больших усилий, помощи других и благоприятных обстоятельств.
Классическим примером является библейская история о реакции фараона на просьбу евреев отпустить их. Он опасается страшных бедствий, нависших над ним и его народом; он обещает евреям отпустить их, но как только непосредственная опасность минует, его сердце ожесточается, и он приходит к решению не освобождать евреев. Этот процесс ожесточения сердца определяет поведение фараона. Чем дольше он отказывается принять правильное решение, тем жестче становится его сердце. Ни одно великое страдание не может изменить ход этого рокового процесса, и он заканчивается уничтожением фараона и его народа. Сердце фараона не испытывает изменения, поскольку его решения были приняты только из страха. Вследствие этого его сердце ожесточается все больше, и он наконец теряет свободу выбора.
История об ожесточении сердца фараона является лишь поэтическим обобщением случаев, которые мы можем наблюдать ежедневно, поскольку они происходят с нами самими или с другими людьми. Рассмотрим следующий пример: восьмилетний белый мальчик дружит с сыном цветной служанки. Его матери не нравится, что он играет с маленьким негром, и она требует, чтобы он прекратил игру. Ребенок не соглашается. Мать обещает сходить с ним в цирк, если он послушается. И мальчик сдается. Это предательство самого себя и принятие подкупа не проходят для малыша бесследно. Ему стыдно, его ощущение целостности нарушено, он потерял самоуверенность. Но еще не случилось ничего, что нельзя было бы исправить. Десятью годами позже он влюбляется в молодую девушку. Речь идет не о поверхностной влюбленности, оба испытывают чувство глубокой человеческой привязанности. Но девушка принадлежит к более низкому общественному слою, чем семья юноши. Его родители настроены против этой связи и пытаются заставить юношу отказаться от нее. Он остается непреклонным, но родители обещают ему полугодовую поездку по Европе с условием, что он подождет с объявлением помолвки до своего возвращения. Он принимает это предложение. Он убежден, что поездка принесет ему много пользы и, конечно, после своего возвращения он будет любить девушку не меньше. Но получается иначе. Юноша знакомится с другими молодыми девушками, его очень любят, его тщеславие удовлетворено, и со временем его любовь и решение жениться становятся все слабее. Перед своим возвращением он пишет девушке письмо, в котором расторгает помолвку. Когда же он пришел к такому решению? Не в тот день, когда он написал прощальное письмо, как он полагает, а в тот день, когда он согласился на предложение родителей поехать в Европу. У него уже тогда было чувство, пусть даже и неосознанное, что, принимая подкуп, он продает себя и должен исполнить обещанное – расторгнуть связь. Его поведение в Европе не было основанием для этого разрыва, это был лишь механизм, с помощью которого ему удалось выполнить свое обещание. В этот момент он снова предал самого себя, следствием чего явилось усилившееся самопренебрежение, внутренняя слабость (скрытая за удовлетворением от новых завоеваний и т. д.) и потеря самоуверенности. Должны ли мы и дальше проследить его жизнь во всех подробностях? Он вошел в дело своего отца, вместо того чтобы изучать физику, что соответствовало бы его способностям. Он женился на дочери богатых друзей своих родителей, он стал удачливым бизнесменом и политическим вождем, который принимал губительные решения вопреки голосу собственной совести, потому что боялся восстановить против себя общественное мнение. Его история – это ожесточение сердца. Каждое моральное поражение делает его более подверженным последующему, пока не достигнута точка, от которой больше нет возврата. В восемь лет он мог бы настоять на своем и отказаться принять подкуп, тогда еще он был свободен сделать это. И возможно, его друг, дедушка, учитель, которые услышали бы о его дилемме, могли бы ему помочь. В восемнадцать лет он был уже менее свободен. Его дальнейшая жизнь была процессом постоянного сокращения свободы, пока не был достигнут пункт, в котором он проиграл игру своей жизни. Большинство людей, которые кончили как беззастенчивые, ожесточившиеся люди (среди них есть соратники Гитлера и Сталина), в начале своей жизни имели шанс стать добрыми. Подробный анализ их жизненного пути мог бы показать нам, до какой степени были ожесточены их сердца в каждый конкретный момент и когда они потеряли свой последний шанс остаться человечными. Существует также и противоположная ситуация: первая победа делает последующую легче, пока наконец больше не составляет труда решаться в пользу настоящего.
Наш пример наглядно показывает, что большинство людей оказываются несостоятельными в искусстве жизни не потому, что они плохо приспособлены или слабовольны, что они не могли бы вести лучшую жизнь. Они несостоятельны потому, что они не пробуждаются и не видят, когда они стоят на распутье и должны принять решение. Они не замечают, когда жизнь задает им вопрос и когда они еще имеют возможность ответить на него так или иначе. С каждым шагом по ложной дороге им становится все труднее признать, что они действительно находятся на неправильном пути. И часто это случается только потому, что дальше они должны были бы согласиться с необходимостью вернуться к тому месту, где был впервые сделан неверный поворот, и примириться с напрасной тратой энергии и времени.
То же самое имеет силу применительно к общественной и политической жизни. Была ли победа Гитлера неизбежна? Разве немецкий народ в определенный момент не был еще свободен свергнуть его? В 1929 г. имели место факторы, склонившие немцев обратиться к националсоциализму. Важнейшие из них: существование озлобленной, садистской мелкой буржуазии, чья ментальность сформировалась между 1918 и 1923 г., безработица, широко распространившаяся вследствие мирового экономического кризиса 1929 г.; возрастающая мощь милитаристских сил в стране, к которым социал-демократические лидеры терпимо относились еще в 1918 г.; страх перед антикапиталистическим развитием; тактика коммунистов, которые видели в социал-демократах своих главных врагов; существование полоумных, хотя и талантливых, оппортунистических демагогов. Кроме того, имелись сильные антинацистские партии в рабочем классе и мощные профсоюзы, имелся антинацистски настроенный либеральный средний класс; была культурная и гуманистическая традиция немцев. Факторы, склоняющиеся в обе стороны, были сбалансированы таким образом, что в 1929 г. победа над национал-социализмом была еще реальной возможностью. То же самое относится к периоду занятия Гитлером Рейнской области. Против Гитлера имел место заговор некоторых ведущих военных сил, а его военный аппарат выказывал признаки слабости. Очень вероятно, что мощная акция западных союзников могла бы привести к закату Гитлера. Что произошло бы, однако, если он благодаря своей безрассудной жестокости и насилию не обратил бы против себя население завоеванных стран? Что было бы, если бы он послушал своих генералов, которые советовали стратегическое отступление от Москвы, Сталинграда и других позиций? Был ли Гитлер тогда все еще свободен избежать полного поражения? Этот пример указывает на еще один аспект осознания, который в значительной степени детерминирует нашу способность выбирать. Речь идет о сознательном различении между реальными альтернативами и такими, которые невозможны уже в силу того, что они не покоятся на реальных возможностях.
Исходя из своих позиций, детерминизм утверждает, что в каждой ситуации есть только одна-единственная реальная возможность выбора. Согласно Гегелю, свободный человек действует на основании понимания этой одной возможности, то есть на основе осознанной необходимости. Несвободный человек не видит этой возможности и потому вынужден поступать определенным образом, не ведая, что он есть производное необходимости, то есть разума. Напротив, с точки зрения индетерминистов, для него в тот же момент существует выбор многих возможностей, и человек свободен выбирать между ними. Часто бывает, что существуют не только одна «реальная возможность», а две или даже больше, но человек не может произвольно выбирать между неограниченным количеством возможностей.
Что следует понимать под «реальной возможностью»? Реальная возможность – это такая возможность, которая может проявиться, если рассматривать общую структуру сил, действующих в индивиде или обществе. Реальная возможность является противоположностью фиктивной, которая хотя и соответствует желаниям и страстям человека, но при данных обстоятельствах никогда не может быть реализована. В человеке господствует соотношение сил, которое структурировано определенным и вполне устанавливаемым образом. Эта особая структурная модель – «человек» – подвержена влиянию многочисленных факторов: окружающей среды (класс, общество, семья), а также наследственности и условностей, существующих в обществе. Если мы ближе рассмотрим эти факторы, то придем к выводу, что не следует непременно говорить о «причинах», которые вызывают определенные «следствия». Зависимый от условностей робкий человек может стать либо чрезмерно запуганным, замкнутым, пассивным и малодушным, либо человеком с хорошо развитой интуицией (например, способным поэтом, психологом или врачом). Но у него нет «реальной возможности» стать бесчувственным, беззаботным сорвиголовой. Пойдет ли он в одном или в другом направлении, зависит от других влияющих на него факторов. То же самое относится к человеку с конституциональными или рано приобретенными садистскими наклонностями: из такой личности может получиться либо садист, либо может, благодаря борьбе против собственного садизма и преодоления его, образоваться сильное психическое «антитело», которое лишит его способности поступать жестоко и заставит в высшей степени чувствительно реагировать на жестокость других. Однако он никогда не сможет остаться равнодушным по отношению к садизму.
Вернемся еще раз к «реальным возможностям» в сфере конституциональных факторов. В качестве примера приведем уже упоминавшегося курильщика. Он поставлен перед двумя реальными возможностями: либо он останется заядлым курильщиком, либо он не будет больше курить. Его представление, что он может продолжать курить, но только пару сигарет, оказывается иллюзией. В нашем примере с любовной историей мужчина имеет две реальные возможности: либо никуда не ходить с женщиной, либо вступить с ней в связь. Возможность, о которой он думал (что он мог бы пригласить ее выпить и не вступить с ней в связь), была нереалистичной ввиду соотношения сил в обеих личностях.
Гитлер имел бы реальную возможность выиграть войну или по меньшей мере не проиграть ее столь катастрофически, если бы он не обращался с завоеванными народами с такой жестокостью и насилием, если бы он не был столь нарциссичным, чтобы никогда не допустить стратегического отступления и прочее. Но вне этих альтернатив для него не существовало реальных возможностей. Предположим, что он мог бы вопреки своей деструктивности предоставить завоеванным народам свободное развитие и удовлетворить свое тщеславие и манию величия тем, что он никогда бы не отступал; предположим, что он мог бы посредством своего безмерного честолюбия стать угрозой для всех других капиталистических держав и выиграть войну, – все это вместе взятое не находилось в области реальных возможностей.
То же самое относится к нашей современной ситуации. Есть сильная тенденция к войне, которая обусловлена наличием у обеих сторон ядерного оружия, страхом друг перед другом и взаимным недоверием. Кроме того, национальному суверенитету молятся, как идолу, а во внешней политике отсутствуют объективность и разум. С другой стороны, у большинства населения обоих блоков есть желание избежать катастрофы атомного уничтожения. В остальной части человечества постоянно слышны голоса, выступающие против того, чтобы великие державы втягивали всех остальных в свое безумие. Существуют социальные и технологические факторы, которые делают возможным мирное решение проблемы и могут открыть человеческой расе путь в счастливое будущее. До тех пор пока обе эти группы пребывают в раздумье, человек все еще может выбирать между двумя реальными возможностями: миром, в котором он покончит с гонкой атомных вооружений и «холодной войной», или войной, в которой он продолжит свою нынешнюю политику. Обе возможности реальны, даже если одна имеет больший вес, чем другая. У нас все еще есть свобода выбора. Однако возможности продолжать гонку вооружений, вести «холодную войну», иметь образ мыслей параноидальной ненависти и одновременно избежать атомного уничтожения – такой возможности у нас нет.