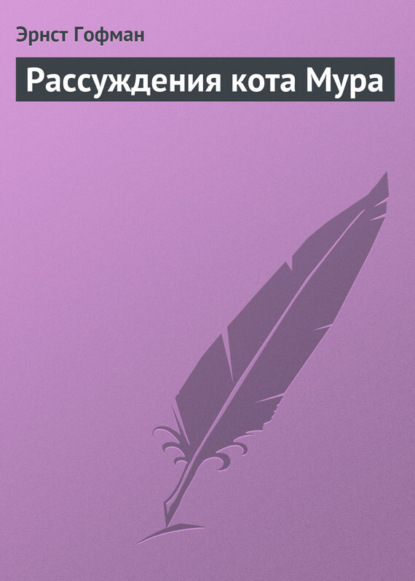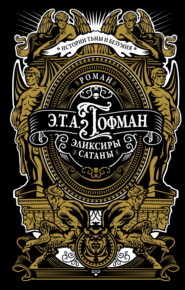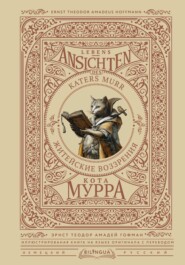По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассуждения кота Мура
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассуждения кота Мура
Эрнст Теодор Амадей Гофман
«Ни одна книга не нуждается в предисловии так, как эта. Необходимо объяснить, каким удивительным образом она возникла и появилась в свет. Поэтому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть это предисловие.
У издателя есть друг; с ним у него одна душа и одно сердце, и он знает этого друга, как самого себя. Друг сказал ему однажды: “Так как ты, мой милый, напечатал уже много книг и знаешь толк в издателях, тебе не трудно будет найти кого-нибудь их этих храбрых господ, который напечатал бы по твоей рекомендации вещь, написанную молодым автором с блестящим талантом. Займись моим автором. Он этого сто?ит”…»
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
С отрывками биографии капельмейстера Иоганна Крейслера в случайных макулатурных листах
Предисловие издателя
Ни одна книга не нуждается в предисловии так, как эта. Необходимо объяснить, каким удивительным образом она возникла и появилась в свет. Поэтому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть это предисловие.
У издателя есть друг; с ним у него одна душа и одно сердце, и он знает этого друга, как самого себя. Друг сказал ему однажды: «Так как ты, мой милый, напечатал уже много книг и знаешь толк в издателях, тебе не трудно будет найти кого-нибудь их этих храбрых господ, который напечатал бы по твоей рекомендации вещь, написанную молодым автором с блестящим талантом. Займись моим автором. Он этого сто?ит».
Издатель обещал сделать все возможное для своего литературного коллеги. Ему показалось только немного странным, что рукопись, по словам его друга, принадлежала коту, которого звали Муром, и заключала в себе его житейскую философию. Но слово уже было дано, а так как он нашел, что введение книги написано довольно хорошим стилем, то он отправился немедленно с рукописью в кармане к Дюмлеру на Unter den Linden и предложил ему издать книгу кота.
Дюмлер сказал, что никогда еще не видывал писателей из котов и не слыхал, чтобы кто-либо из его уважаемых коллег имел дело с подобными личностями. Тем не менее он не прочь был попробовать.
Рукопись начали печатать, и к издателю пришли первые корректурные листы. Как же испугался он, когда увидел, что история Мура местами прерывается вставками из совершенно другой книги: из биографии Иоганна Крейслера.
После тщательных розысков и расследований издатель узнал, наконец, следующее: когда кот Мур писал свою «Житейскую философию», он без церемонии рвал печатную книгу, которую нашел у своего хозяина, и преспокойно употреблял эти листы частью для прокладки, частью для просушки рукописи. Эти листы остались в рукописи и были теперь напечатаны по недоразумению, как принадлежащие к рукописи.
К сожалению, издатель должен сознаться, что это смешение материалов произошло по его легкомыслию; ему, конечно, следовало просмотреть рукопись кота, прежде чем пустить ее в печать. В утешение мы можем сказать, что читатель легко справится с книгой, если будет обращать внимание на частые заметки «М. л.» (макулатурные листы) и «М. пр.» (Мур продолжает). Разорванная книга, по всей вероятности, никогда не появлялась в продаже, так как никто о ней ничего не знает. Друзьям капельмейстера, по крайней мере, будет приятно, что, по милости литературного вандализма кота, им станут известны кое-какие весьма странные обстоятельства из жизни в некотором роде замечательного человека.
Издатель надеется на великодушное прощение.
Справедливость требует заметить, что нередко авторы бывают обязаны наиболее смелыми своими мыслями и самыми удивительными оборотами добрым наборщикам, которые содействуют полету их идей так называемыми опечатками. Например, один автор говорит во второй части своего рассказа «Nachtst?cke», на странице 326-й, о густом боскете, находившемся в саду. Но это показалось наборщику недостаточно гениальным. Он набрал слово «каскет» вместо «боскет». Есть также рассказ «Девица Скюдери». Наборщик коварно одел героиню вместо черного платья в черную краску (Farbe и Robe) из тяжелого шелка.
Но да воздастся всякому по заслугам. Ни кот Мур, ни автор биографии капельмейстера Крейслера не должны рядиться в чужие перья. Поэтому издатель просит благосклонного читателя, прежде чем он начнет читать эту книгу, просмотреть нижеследующие примечания для того, чтобы не думать об обоих авторах хуже или лучше того, чего они заслуживают. Впрочем, здесь отмечены только главные ошибки, что же касается мелких, то в этом мы полагаемся на догадливость благосклонного читателя.
(Затем следует 14 опечаток в первом издании, в последующих изданиях они исправлены.)
В заключение издатель должен прибавить, что он знал лично кота Мура. Это был мужчина с приятным и мягким характером.
Берлин. Ноябрь 1819-го года.
Э. Т. А. Гофман.
Предисловие автора
Робко, со стесненным сердцем отдаю я для печати несколько страниц моей жизни, полных страданий, надежд и стремлений, волновавших меня в сладкие часы досуга и поэтических вдохновений.
Устою ли я перед строгим судом критики? Но я писал для вас, родственные чувствительные души с детски-невинными чувствами, – да, для вас писал я, – и одна слеза умиления, пролитая вами, утешит меня и заживит раны, которые нанесет мне холодное порицание бесчувственных рецензентов.
Берлин, в мае 18…
Мур.
(Etudiant en belles lettres)[1 - Начинающий в литературе (фр.).].
Интимное предисловие автора
С уверенностью и спокойствием, свойственными истинному гению, отдаю я на всемирный суд свою биографию. Пусть видят все, как развиваются великие коты, пусть все узнают мои совершенства, любят меня, ценят, уважают, удивляются мне и даже несколько благоговеют передо мною. Но если кто осмелится выразить какое-либо сомнение насчет достоинств этой удивительной книги, пусть помнит, что будет иметь дело с котом, у которого есть острый ум и острые когти.
Берлин, в мае 18…
Мур.
(Homme de lettres tr?s renommе)[2 - Очень известный писатель (фр.).].
Примечание. Это уж слишком! Напечатано даже и то предисловие автора, которое не предназначалось для публики. Остается попросить благосклонного читателя извинить литературному коту несколько надменный тон его предисловия и принять во внимание то, что, если бы перевести на настоящий язык сокровенный смысл предисловий многих смиренных авторов, вышло бы почти то же самое.
Издатель.
Том первый
Отдел первый
Чувство бытия. Юношеские месяцы
Нет ничего прекраснее, возвышеннее, великолепнее жизни! «О сладкая привычка бытия!» – восклицает некий нидерландский герой в знаменитой трагедии. То же говорю и я, но не в столь тяжкую минуту, как упомянутый герой. Ему приходилось расставаться с жизнью, а я весь проникнут блаженным сознанием, что я окончательно освоился с этой сладкой привычкой и потому не желаю с ней расставаться. Я разумею ту духовную силу, ту неведомую власть или, вернее, то управляющее нами начало, которое навязало мне эту привычку, не спросясь моего согласия. Эта неведомая мне власть не могла иметь худших намерений, чем мой милый хозяин, который никогда не вытаскивает у меня из-под носу приготовленного мне рыбного блюда, если запах его мне нравится.
О природа, святая, великая природа! Какой восторг и отрада наполняют мою взволнованную грудь, как обвевает меня твое таинственное дыхание! Ночь свежа, и я хотел бы… Но тот, кто прочитает или не прочитает эти строки, не может понять моего высокого вдохновения; он не знает возвышенного пункта, на который я вознесся, – вернее было бы сказать – влез, – но поэты не говорят о своих ногах даже в том случае, если их четыре, как у меня: они упоминают только о крыльях, хотя бы эти крылья были произведением искусного механика, а не выросли у них за спиной. Надо мной расстилается звездное небо, полная луна сияет в вышине, озаряя серебристым блеском крыши и башни вокруг меня. Постепенно стихает подо мной городской шум. Все спокойнее становится ночь. Облака плывут. Одинокая голубка с робкой любовной жалобой порхает вокруг церковной башни. О, если бы милая крошка приблизилась ко мне! Я чувствую, как внутри у меня что-то переворачивается, мечтательный аппетит поднимается во мне с непобедимой силой. О, подойди сюда, моя нежная голубка! Я хотел бы прижать ее к израненному любовью сердцу и никогда не отпускать ее. Но коварная улетает и оставляет меня безнадежно сидящим на крыше. Как редка истинная симпатия душ в наше жалкое, черствое, бессердечное время!
Неужели ходить на двух ногах такая великая вещь, что существа, называющие себя людьми, смеют властвовать над теми, кто тверже стоит на четырех ногах? Я знаю, в чем дело: они ужасно высокого мнения о том, что будто бы сидит у них в голове и называется разумом. Я не совсем ясно представляю себе, что они под этим разумеют, но, судя по тому, что я слышал от моего хозяина, разум есть не что иное, как способность действовать сознательно и не делать глупостей. Если так, то я не уступлю в этом ни одному человеку. Кроме того, я думаю, что к сознанию привыкают. Ведь мы сами не знаем, как живем и являемся на свет. По крайней мере, так случилось со мной, и, насколько я понимаю, ни один человек не знает по собственным наблюдениям, как и почему он родился, он знает это только по преданиям, которые часто бывают очень неточны.
Города нередко оспаривали друг у друга честь места рождения знаменитых людей. Я сам не знаю ничего положительного о том, где я увидел свет: в погребе, на чердаке или в дровяном сарае; вернее сказать, не я увидел свет, а меня увидала на свете моя дорогая мамаша. По свойству нашей породы мои глаза были закрыты. Я помню, как в полной темноте раздавались вокруг меня какие-то урчащие и пискливые звуки, которые производил почти невольно и я, когда мною овладевал гнев.
Яснее помню я себя в тесном пространстве с мягкими стенками. Я едва дышал и в страхе издавал жалобный писк. Я почувствовал, как что-то вторгнулось в тесное помещение и очень грубо схватило меня. Это дало мне случай проявить первую удивительную способность, которой наделила меня природа. Из моих богато опушенных передних лап я выпустил острые когти и вонзил их в то, что, как я узнал впоследствии, было человеческой рукой. Эта рука вынула меня из тесного помещения, бросила меня, и немедленно вслед за тем я почувствовал два сильных удара по щекам, на которых у меня выросли вскоре почтенные усы. Теперь я понимаю, что рука эта наградила меня пощечинами за движение моих когтей. Это было мое первое открытие в области нравственных причин и следствий. Нравственный инстинкт заставил меня так же быстро спрятать когти, как я их выпустил. Впоследствии справедливо признали мое последнее действие за акт величайшего добродушия и любезности. За это я и получил прозвище «бархатной лапки».
Итак, рука бросила меня на землю. Но вскоре за тем она опять взяла меня за голову и нагнула вниз так, что я попал мордочкой в жидкость, которую начал лакать совершенно невольно, вероятно, по физическому инстинкту, и чувствовал при этом необыкновенное удовольствие. Теперь я знаю, что я пил молоко, что я был голоден и насытился. Так вслед за нравственным развитием наступило физическое.
Еще раз взяли меня две руки и осторожно положили на мягкое теплое ложе. Я чувствовал себя все лучше и лучше и начал выражать мое удовольствие особыми звуками, свойственными нашей породе; люди довольно удачно называют их мурлыканьем. Так шел я гигантскими шагами по пути развития. Какое наслаждение, какой бесценный дар неба выражать свое внутреннее удовольствие звуками и движениями! Сначала я мурлыкал, потом у меня явился неподражаемый талант грациозно поводить хвостом, а затем – чудный дар выражать одним словечком «мяу» радость, горе, блаженство, отчаяние, – словом, все чувства и страсти в их разнообразнейших оттенках. Что человеческий язык в сравнении с этим простейшим средством заставить себя понять! Но будем продолжать интереснейший рассказ о моей юности, полной разнообразных событий.
Я проснулся после глубокого сна. Ослепительный свет испугал меня. Пелена упала с моих глаз – я видел! Прежде, чем я привык к свету и к пестрому разнообразию цветов, которое открылось передо мной, я несколько раз сряду сильно чихнул, но скоро все пошло на лад, как будто я давно уже привык к зрению. О зрение! Без этой чудной привычки было бы трудно существовать на свете! Счастливы те высокоодаренные натуры, которые так легко привыкают к зрению, как я.
Я не стану лгать: я опять почувствовал некоторый страх и испустил жалобный писк в этом тесном пространстве. Показался маленький старичок, которого я никогда не забуду, так как, несмотря на обширный круг моего знакомства, я никогда не встречал подобной фигуры. Часто бывает в нашей породе, что тот или другой мужчина носит белую с черным шкурку, но редко бывает, чтобы у человека были белоснежные волосы и совершенно черные брови. Этим отличался мой воспитатель. Он был одет в короткий ярко-желтый халат, которого я так испугался, что сполз с мягкой подушки, насколько позволяла мне моя тогдашняя беспомощность. Человек этот подошел ко мне с ласковым движением, внушившим мне доверие. Он взял меня. Я воздержался от выпускания когтей. Связь между царапанием и ударами сама собой возникла в моем уме. Человек этот желал мне добра. Он посадил меня перед блюдечком молока, которое я с жадностью вылакал, что, по-видимому, его очень обрадовало. Он говорил мне много такого, чего я не понял, потому что в то время я еще не понимал человеческой речи: я был еще неопытным котенком. По-видимому, человек этот много знал и был хорошо знаком с науками и искусствами, так как его посетители (я видел у него людей, носивших кресты и звезды на том самом месте, где природа поместила у меня желтое пятнышко, то есть на груди) обходились с ним особенно вежливо, а иногда даже с некоторым подобострастием (так обходился впоследствии я сам с пуделем Скарамуцем), и называли его не иначе, как «много уважаемый, дорогой, бесценный мейстер Абрагам». Только два человека называли его просто «мой дорогой»: высокий худой человек в ярко зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, очень толстая женщина с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин был, вероятно, владетельный князь, а дама – еврейка.
И хотя его навещали такие важные лица, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке на самом верху, так что я мог очень приятно совершать мои первые прогулки через окно на крышу и на чердак.
Да это не могло быть иначе: я родился на чердаке. Что погреб! Что дровяной сарай! Я стою за чердак! Климат, родина, ее нравы и обычаи, – какое влияние оказывают они на характер и на внешность гражданина! Откуда явились во мне этот высокий дух, эта непобедимая склонность к возвышенному? Откуда эта изумительная ловкость в лазании, это завидное искусство прыгать? Ах, сладкое чувство наполняет мою грудь! Во мне шевелится тоска по родном чердаке! Тебе посвящаю я эти строки, прекрасная родина, тебе это странное ликующее «мяу», тебя прославляют эти прыжки! И в этом заключаются добродетель и патриотический дух. О чердак! Ты давал мне в изобилии мышей, и у тебя я находил колбасу и сало; сидя на трубе, подстерегал я воробьев и даже время от времени ловил голубей.
«Безгранична любовь моя к тебе, о родина!»
Но я должен рассказать еще многое…
(М. л.) …«но, ваша светлость, разве не помните вы ту ужасную бурю, которая сорвала и сбросила в Сену шляпу у адвоката, проходившего ночью по Новому мосту? Такой же случай приведен и у Раблэ, только шляпу адвоката похитила не буря: предоставив свой плащ разыгравшимся стихиям, он крепко прижал к голове свою шляпу, но в это время мчался по мосту гренадер и, проскакав мимо с громким возгласом: «Какой сегодня ужасный ветер!», быстро стащил с парика адвоката его прекрасную касторовую шляпу; однако в Сену попала не касторовая шляпа, а драная шапка солдата, которую бурный ветер сбросил в пучину. Вашей светлости известно также, что, пока адвокат стоял на месте совершенно ошеломленный, мимо проехал другой солдат и, также воскликнув: «Какой сегодня ужасный ветер!» – схватил адвоката за воротник и стащил с него плащ; а затем пронесся третий солдат; он тоже воскликнул: «Какой сегодня ужасный ветер!» – и вырвал из рук адвоката испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил свой парик вдогонку негодяю и пошел с непокрытой головой, без плаща и без трости, намереваясь составить самое удивительное завещание и разоблачить самое таинственное дело. Все это известно вашей светлости?
– Ничего этого я не знаю, – сказал князь, когда я кончил свою речь, – не знаю и не понимаю, как вы, мейстер Абрагам, можете рассказывать мне такую чепуху. Я очень хорошо помню Новый мост, он находился в Париже. Я никогда не ходил по нему пешком, но зато часто проезжал, как это прилично моему званию. Адвоката Раблэ я никогда не видал, и мне не было никакого дела до солдатских проказ. Когда в молодых годах я командовал армией, я приказывал раз в неделю сечь юнкеров за те глупости, которые они делали или могли сделать, простых же солдат я предоставлял лейтенантам, которые по моему примеру тоже секли их каждую неделю по субботам, так что к воскресенью не оставалось ни одного юнкера, ни одного нижнего чина во всей армии, который не получил бы своей порции палок. Посредством моей палочной системы войска вполне привыкали к побоям прежде, чем они видели врага, так что при встрече с ним они, конечно, стали бы его бить. Кажется, это ясно? А теперь скажите мне, ради бога, мейстер Абрагам, что хотели вы сказать вашей бурей и вашим адвокатом Раблэ, ограбленным на Новом мосту, и чем объясните вы то, что праздник кончился такой сумятицей, что в тупей мой попала шутиха, что мой сын упал в бассейн и был окачен с головы до ног предательским дельфином, что принцесса бежала через парк, как Аталанта, в разорванном платье и без вуали, что… что… Но кто исчислит все несчастья этой роковой ночи? Ну, что вы скажете, мейстер Абрагам?
– Ваша светлость, – отвечал я, почтительно кланяясь, – что же было причиной всего несчастья, как не буря, как не ужасная гроза, разразившаяся в ту минуту, когда все шло так прекрасно? Могу ли я повелевать стихиями? Разве я сам не подвергался величайшим неприятностям, разве не потерял я, как тот адвокат, которого я покорнейше прощу не смешивать с знаменитым французским писателем Раблэ, разве не потерял я шляпу, сюртук и плащ, разве я…
Эрнст Теодор Амадей Гофман
«Ни одна книга не нуждается в предисловии так, как эта. Необходимо объяснить, каким удивительным образом она возникла и появилась в свет. Поэтому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть это предисловие.
У издателя есть друг; с ним у него одна душа и одно сердце, и он знает этого друга, как самого себя. Друг сказал ему однажды: “Так как ты, мой милый, напечатал уже много книг и знаешь толк в издателях, тебе не трудно будет найти кого-нибудь их этих храбрых господ, который напечатал бы по твоей рекомендации вещь, написанную молодым автором с блестящим талантом. Займись моим автором. Он этого сто?ит”…»
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
С отрывками биографии капельмейстера Иоганна Крейслера в случайных макулатурных листах
Предисловие издателя
Ни одна книга не нуждается в предисловии так, как эта. Необходимо объяснить, каким удивительным образом она возникла и появилась в свет. Поэтому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть это предисловие.
У издателя есть друг; с ним у него одна душа и одно сердце, и он знает этого друга, как самого себя. Друг сказал ему однажды: «Так как ты, мой милый, напечатал уже много книг и знаешь толк в издателях, тебе не трудно будет найти кого-нибудь их этих храбрых господ, который напечатал бы по твоей рекомендации вещь, написанную молодым автором с блестящим талантом. Займись моим автором. Он этого сто?ит».
Издатель обещал сделать все возможное для своего литературного коллеги. Ему показалось только немного странным, что рукопись, по словам его друга, принадлежала коту, которого звали Муром, и заключала в себе его житейскую философию. Но слово уже было дано, а так как он нашел, что введение книги написано довольно хорошим стилем, то он отправился немедленно с рукописью в кармане к Дюмлеру на Unter den Linden и предложил ему издать книгу кота.
Дюмлер сказал, что никогда еще не видывал писателей из котов и не слыхал, чтобы кто-либо из его уважаемых коллег имел дело с подобными личностями. Тем не менее он не прочь был попробовать.
Рукопись начали печатать, и к издателю пришли первые корректурные листы. Как же испугался он, когда увидел, что история Мура местами прерывается вставками из совершенно другой книги: из биографии Иоганна Крейслера.
После тщательных розысков и расследований издатель узнал, наконец, следующее: когда кот Мур писал свою «Житейскую философию», он без церемонии рвал печатную книгу, которую нашел у своего хозяина, и преспокойно употреблял эти листы частью для прокладки, частью для просушки рукописи. Эти листы остались в рукописи и были теперь напечатаны по недоразумению, как принадлежащие к рукописи.
К сожалению, издатель должен сознаться, что это смешение материалов произошло по его легкомыслию; ему, конечно, следовало просмотреть рукопись кота, прежде чем пустить ее в печать. В утешение мы можем сказать, что читатель легко справится с книгой, если будет обращать внимание на частые заметки «М. л.» (макулатурные листы) и «М. пр.» (Мур продолжает). Разорванная книга, по всей вероятности, никогда не появлялась в продаже, так как никто о ней ничего не знает. Друзьям капельмейстера, по крайней мере, будет приятно, что, по милости литературного вандализма кота, им станут известны кое-какие весьма странные обстоятельства из жизни в некотором роде замечательного человека.
Издатель надеется на великодушное прощение.
Справедливость требует заметить, что нередко авторы бывают обязаны наиболее смелыми своими мыслями и самыми удивительными оборотами добрым наборщикам, которые содействуют полету их идей так называемыми опечатками. Например, один автор говорит во второй части своего рассказа «Nachtst?cke», на странице 326-й, о густом боскете, находившемся в саду. Но это показалось наборщику недостаточно гениальным. Он набрал слово «каскет» вместо «боскет». Есть также рассказ «Девица Скюдери». Наборщик коварно одел героиню вместо черного платья в черную краску (Farbe и Robe) из тяжелого шелка.
Но да воздастся всякому по заслугам. Ни кот Мур, ни автор биографии капельмейстера Крейслера не должны рядиться в чужие перья. Поэтому издатель просит благосклонного читателя, прежде чем он начнет читать эту книгу, просмотреть нижеследующие примечания для того, чтобы не думать об обоих авторах хуже или лучше того, чего они заслуживают. Впрочем, здесь отмечены только главные ошибки, что же касается мелких, то в этом мы полагаемся на догадливость благосклонного читателя.
(Затем следует 14 опечаток в первом издании, в последующих изданиях они исправлены.)
В заключение издатель должен прибавить, что он знал лично кота Мура. Это был мужчина с приятным и мягким характером.
Берлин. Ноябрь 1819-го года.
Э. Т. А. Гофман.
Предисловие автора
Робко, со стесненным сердцем отдаю я для печати несколько страниц моей жизни, полных страданий, надежд и стремлений, волновавших меня в сладкие часы досуга и поэтических вдохновений.
Устою ли я перед строгим судом критики? Но я писал для вас, родственные чувствительные души с детски-невинными чувствами, – да, для вас писал я, – и одна слеза умиления, пролитая вами, утешит меня и заживит раны, которые нанесет мне холодное порицание бесчувственных рецензентов.
Берлин, в мае 18…
Мур.
(Etudiant en belles lettres)[1 - Начинающий в литературе (фр.).].
Интимное предисловие автора
С уверенностью и спокойствием, свойственными истинному гению, отдаю я на всемирный суд свою биографию. Пусть видят все, как развиваются великие коты, пусть все узнают мои совершенства, любят меня, ценят, уважают, удивляются мне и даже несколько благоговеют передо мною. Но если кто осмелится выразить какое-либо сомнение насчет достоинств этой удивительной книги, пусть помнит, что будет иметь дело с котом, у которого есть острый ум и острые когти.
Берлин, в мае 18…
Мур.
(Homme de lettres tr?s renommе)[2 - Очень известный писатель (фр.).].
Примечание. Это уж слишком! Напечатано даже и то предисловие автора, которое не предназначалось для публики. Остается попросить благосклонного читателя извинить литературному коту несколько надменный тон его предисловия и принять во внимание то, что, если бы перевести на настоящий язык сокровенный смысл предисловий многих смиренных авторов, вышло бы почти то же самое.
Издатель.
Том первый
Отдел первый
Чувство бытия. Юношеские месяцы
Нет ничего прекраснее, возвышеннее, великолепнее жизни! «О сладкая привычка бытия!» – восклицает некий нидерландский герой в знаменитой трагедии. То же говорю и я, но не в столь тяжкую минуту, как упомянутый герой. Ему приходилось расставаться с жизнью, а я весь проникнут блаженным сознанием, что я окончательно освоился с этой сладкой привычкой и потому не желаю с ней расставаться. Я разумею ту духовную силу, ту неведомую власть или, вернее, то управляющее нами начало, которое навязало мне эту привычку, не спросясь моего согласия. Эта неведомая мне власть не могла иметь худших намерений, чем мой милый хозяин, который никогда не вытаскивает у меня из-под носу приготовленного мне рыбного блюда, если запах его мне нравится.
О природа, святая, великая природа! Какой восторг и отрада наполняют мою взволнованную грудь, как обвевает меня твое таинственное дыхание! Ночь свежа, и я хотел бы… Но тот, кто прочитает или не прочитает эти строки, не может понять моего высокого вдохновения; он не знает возвышенного пункта, на который я вознесся, – вернее было бы сказать – влез, – но поэты не говорят о своих ногах даже в том случае, если их четыре, как у меня: они упоминают только о крыльях, хотя бы эти крылья были произведением искусного механика, а не выросли у них за спиной. Надо мной расстилается звездное небо, полная луна сияет в вышине, озаряя серебристым блеском крыши и башни вокруг меня. Постепенно стихает подо мной городской шум. Все спокойнее становится ночь. Облака плывут. Одинокая голубка с робкой любовной жалобой порхает вокруг церковной башни. О, если бы милая крошка приблизилась ко мне! Я чувствую, как внутри у меня что-то переворачивается, мечтательный аппетит поднимается во мне с непобедимой силой. О, подойди сюда, моя нежная голубка! Я хотел бы прижать ее к израненному любовью сердцу и никогда не отпускать ее. Но коварная улетает и оставляет меня безнадежно сидящим на крыше. Как редка истинная симпатия душ в наше жалкое, черствое, бессердечное время!
Неужели ходить на двух ногах такая великая вещь, что существа, называющие себя людьми, смеют властвовать над теми, кто тверже стоит на четырех ногах? Я знаю, в чем дело: они ужасно высокого мнения о том, что будто бы сидит у них в голове и называется разумом. Я не совсем ясно представляю себе, что они под этим разумеют, но, судя по тому, что я слышал от моего хозяина, разум есть не что иное, как способность действовать сознательно и не делать глупостей. Если так, то я не уступлю в этом ни одному человеку. Кроме того, я думаю, что к сознанию привыкают. Ведь мы сами не знаем, как живем и являемся на свет. По крайней мере, так случилось со мной, и, насколько я понимаю, ни один человек не знает по собственным наблюдениям, как и почему он родился, он знает это только по преданиям, которые часто бывают очень неточны.
Города нередко оспаривали друг у друга честь места рождения знаменитых людей. Я сам не знаю ничего положительного о том, где я увидел свет: в погребе, на чердаке или в дровяном сарае; вернее сказать, не я увидел свет, а меня увидала на свете моя дорогая мамаша. По свойству нашей породы мои глаза были закрыты. Я помню, как в полной темноте раздавались вокруг меня какие-то урчащие и пискливые звуки, которые производил почти невольно и я, когда мною овладевал гнев.
Яснее помню я себя в тесном пространстве с мягкими стенками. Я едва дышал и в страхе издавал жалобный писк. Я почувствовал, как что-то вторгнулось в тесное помещение и очень грубо схватило меня. Это дало мне случай проявить первую удивительную способность, которой наделила меня природа. Из моих богато опушенных передних лап я выпустил острые когти и вонзил их в то, что, как я узнал впоследствии, было человеческой рукой. Эта рука вынула меня из тесного помещения, бросила меня, и немедленно вслед за тем я почувствовал два сильных удара по щекам, на которых у меня выросли вскоре почтенные усы. Теперь я понимаю, что рука эта наградила меня пощечинами за движение моих когтей. Это было мое первое открытие в области нравственных причин и следствий. Нравственный инстинкт заставил меня так же быстро спрятать когти, как я их выпустил. Впоследствии справедливо признали мое последнее действие за акт величайшего добродушия и любезности. За это я и получил прозвище «бархатной лапки».
Итак, рука бросила меня на землю. Но вскоре за тем она опять взяла меня за голову и нагнула вниз так, что я попал мордочкой в жидкость, которую начал лакать совершенно невольно, вероятно, по физическому инстинкту, и чувствовал при этом необыкновенное удовольствие. Теперь я знаю, что я пил молоко, что я был голоден и насытился. Так вслед за нравственным развитием наступило физическое.
Еще раз взяли меня две руки и осторожно положили на мягкое теплое ложе. Я чувствовал себя все лучше и лучше и начал выражать мое удовольствие особыми звуками, свойственными нашей породе; люди довольно удачно называют их мурлыканьем. Так шел я гигантскими шагами по пути развития. Какое наслаждение, какой бесценный дар неба выражать свое внутреннее удовольствие звуками и движениями! Сначала я мурлыкал, потом у меня явился неподражаемый талант грациозно поводить хвостом, а затем – чудный дар выражать одним словечком «мяу» радость, горе, блаженство, отчаяние, – словом, все чувства и страсти в их разнообразнейших оттенках. Что человеческий язык в сравнении с этим простейшим средством заставить себя понять! Но будем продолжать интереснейший рассказ о моей юности, полной разнообразных событий.
Я проснулся после глубокого сна. Ослепительный свет испугал меня. Пелена упала с моих глаз – я видел! Прежде, чем я привык к свету и к пестрому разнообразию цветов, которое открылось передо мной, я несколько раз сряду сильно чихнул, но скоро все пошло на лад, как будто я давно уже привык к зрению. О зрение! Без этой чудной привычки было бы трудно существовать на свете! Счастливы те высокоодаренные натуры, которые так легко привыкают к зрению, как я.
Я не стану лгать: я опять почувствовал некоторый страх и испустил жалобный писк в этом тесном пространстве. Показался маленький старичок, которого я никогда не забуду, так как, несмотря на обширный круг моего знакомства, я никогда не встречал подобной фигуры. Часто бывает в нашей породе, что тот или другой мужчина носит белую с черным шкурку, но редко бывает, чтобы у человека были белоснежные волосы и совершенно черные брови. Этим отличался мой воспитатель. Он был одет в короткий ярко-желтый халат, которого я так испугался, что сполз с мягкой подушки, насколько позволяла мне моя тогдашняя беспомощность. Человек этот подошел ко мне с ласковым движением, внушившим мне доверие. Он взял меня. Я воздержался от выпускания когтей. Связь между царапанием и ударами сама собой возникла в моем уме. Человек этот желал мне добра. Он посадил меня перед блюдечком молока, которое я с жадностью вылакал, что, по-видимому, его очень обрадовало. Он говорил мне много такого, чего я не понял, потому что в то время я еще не понимал человеческой речи: я был еще неопытным котенком. По-видимому, человек этот много знал и был хорошо знаком с науками и искусствами, так как его посетители (я видел у него людей, носивших кресты и звезды на том самом месте, где природа поместила у меня желтое пятнышко, то есть на груди) обходились с ним особенно вежливо, а иногда даже с некоторым подобострастием (так обходился впоследствии я сам с пуделем Скарамуцем), и называли его не иначе, как «много уважаемый, дорогой, бесценный мейстер Абрагам». Только два человека называли его просто «мой дорогой»: высокий худой человек в ярко зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, очень толстая женщина с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин был, вероятно, владетельный князь, а дама – еврейка.
И хотя его навещали такие важные лица, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке на самом верху, так что я мог очень приятно совершать мои первые прогулки через окно на крышу и на чердак.
Да это не могло быть иначе: я родился на чердаке. Что погреб! Что дровяной сарай! Я стою за чердак! Климат, родина, ее нравы и обычаи, – какое влияние оказывают они на характер и на внешность гражданина! Откуда явились во мне этот высокий дух, эта непобедимая склонность к возвышенному? Откуда эта изумительная ловкость в лазании, это завидное искусство прыгать? Ах, сладкое чувство наполняет мою грудь! Во мне шевелится тоска по родном чердаке! Тебе посвящаю я эти строки, прекрасная родина, тебе это странное ликующее «мяу», тебя прославляют эти прыжки! И в этом заключаются добродетель и патриотический дух. О чердак! Ты давал мне в изобилии мышей, и у тебя я находил колбасу и сало; сидя на трубе, подстерегал я воробьев и даже время от времени ловил голубей.
«Безгранична любовь моя к тебе, о родина!»
Но я должен рассказать еще многое…
(М. л.) …«но, ваша светлость, разве не помните вы ту ужасную бурю, которая сорвала и сбросила в Сену шляпу у адвоката, проходившего ночью по Новому мосту? Такой же случай приведен и у Раблэ, только шляпу адвоката похитила не буря: предоставив свой плащ разыгравшимся стихиям, он крепко прижал к голове свою шляпу, но в это время мчался по мосту гренадер и, проскакав мимо с громким возгласом: «Какой сегодня ужасный ветер!», быстро стащил с парика адвоката его прекрасную касторовую шляпу; однако в Сену попала не касторовая шляпа, а драная шапка солдата, которую бурный ветер сбросил в пучину. Вашей светлости известно также, что, пока адвокат стоял на месте совершенно ошеломленный, мимо проехал другой солдат и, также воскликнув: «Какой сегодня ужасный ветер!» – схватил адвоката за воротник и стащил с него плащ; а затем пронесся третий солдат; он тоже воскликнул: «Какой сегодня ужасный ветер!» – и вырвал из рук адвоката испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил свой парик вдогонку негодяю и пошел с непокрытой головой, без плаща и без трости, намереваясь составить самое удивительное завещание и разоблачить самое таинственное дело. Все это известно вашей светлости?
– Ничего этого я не знаю, – сказал князь, когда я кончил свою речь, – не знаю и не понимаю, как вы, мейстер Абрагам, можете рассказывать мне такую чепуху. Я очень хорошо помню Новый мост, он находился в Париже. Я никогда не ходил по нему пешком, но зато часто проезжал, как это прилично моему званию. Адвоката Раблэ я никогда не видал, и мне не было никакого дела до солдатских проказ. Когда в молодых годах я командовал армией, я приказывал раз в неделю сечь юнкеров за те глупости, которые они делали или могли сделать, простых же солдат я предоставлял лейтенантам, которые по моему примеру тоже секли их каждую неделю по субботам, так что к воскресенью не оставалось ни одного юнкера, ни одного нижнего чина во всей армии, который не получил бы своей порции палок. Посредством моей палочной системы войска вполне привыкали к побоям прежде, чем они видели врага, так что при встрече с ним они, конечно, стали бы его бить. Кажется, это ясно? А теперь скажите мне, ради бога, мейстер Абрагам, что хотели вы сказать вашей бурей и вашим адвокатом Раблэ, ограбленным на Новом мосту, и чем объясните вы то, что праздник кончился такой сумятицей, что в тупей мой попала шутиха, что мой сын упал в бассейн и был окачен с головы до ног предательским дельфином, что принцесса бежала через парк, как Аталанта, в разорванном платье и без вуали, что… что… Но кто исчислит все несчастья этой роковой ночи? Ну, что вы скажете, мейстер Абрагам?
– Ваша светлость, – отвечал я, почтительно кланяясь, – что же было причиной всего несчастья, как не буря, как не ужасная гроза, разразившаяся в ту минуту, когда все шло так прекрасно? Могу ли я повелевать стихиями? Разве я сам не подвергался величайшим неприятностям, разве не потерял я, как тот адвокат, которого я покорнейше прощу не смешивать с знаменитым французским писателем Раблэ, разве не потерял я шляпу, сюртук и плащ, разве я…