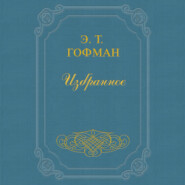По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Житейские воззрения кота Мурра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ничто так не привлекало моего внимания в комнате мейстера, как письменный стол, весь заваленный книгами, рукописями и разными странного вида инструментами. Могу сказать, что этот стол был для меня чем-то вроде заколдованного круга, в котором я чувствовал себя заключенным; и в то же время я испытывал перед ним какой-то священный трепет, мешавший мне всецело предаться моему порыву. Наконец, однажды – именно в отсутствие мейстера – я поборол свой страх и вскочил на стол. О, какое блаженство испытывал я, сидя на нем и роясь среди книг и бумаг! Не шаловливость, о нет, лишь умственный жар, жажда знания, вот что заставило меня схватить в когти один из манускриптов и теребить его вдоль и поперек до тех пор, пока наконец он не лежал передо мной весь изодранный в мельчайшие клочки. Вдруг вошел мейстер, увидел все происшедшее и с оскорбительным возгласом: «Проклятая бестия!» – устремился на меня; он бил меня березовым прутом так жестоко, что я, визжа от боли, заполз под печку и целый день не выходил оттуда, невзирая ни на какие ласковые слова и увещания. Кого такое событие не отпугнуло бы навсегда даже от пути, предназначенного для него природой? Но как только я вполне оправился от своей боли, я тотчас же, следуя непобедимому внутреннему порыву, опять вскочил на письменный стол. Правда, единственного возгласа моего господина, какой-нибудь коротенькой фразы «Да он опять!» было достаточно, чтобы согнать меня со стола, прежде чем я приступил к штудированию; но я спокойно стал ждать благоприятного момента, когда бы опять можно было заняться изучениями, и скоро дождался. Мейстер однажды собирался уходить из дому. Вспомнив о разорванной рукописи, он хотел выгнать меня из комнаты, но я тотчас спрятался так ловко, что он не смог меня найти. Едва только мейстер ушел, я одним прыжком вскочил на его письменный стол и лег среди рукописей, весь исполненный неизъяснимого восторга. С большим искусством я раскрыл лапкой толстую книгу, находившуюся передо мной, и попробовал разобрать в ней письменные знаки. Сперва я решительно ничего не понял, но продолжал смотреть в книгу, ожидая, что ко мне слетит какой-нибудь совсем особенный дух и научит меня читать. В этом состоянии глубокого внимания я был застигнут мейстером. С громким криком «Ах, ты, проклятое животное!» он опять устремился ко мне. Спасаться было уже поздно, я прижал уши, съежился, как только мог, и уже чувствовал за спиной прут, но вдруг приподнятая рука мейстера остановилась, он разразился громким смехом и воскликнул: «Ах, кот, да ты читаешь! Ну за это я не хочу тебя бранить. Посмотрите-ка, однако, какая у него жажда образования!»
Он вытащил из-под моих лапок книжку, посмотрел на ее заглавие и начал хохотать еще громче. «Ну, – продолжал он, – я должен допустить мысль, что у тебя есть карманная библиотечка, потому что я никак не могу понять, откуда и каким образом попала эта книга на мой письменный стол. Читай, читай, Мурр, штудируй прилежно, важнейшие места в книге ты можешь отмечать, слегка поцарапав на полях когтями, это я тебе вполне разрешаю».
С такими словами он снова подсунул мне книгу, которая, как я узнал впоследствии, была сочинением Книгге «Об обращении с людьми». Из этой прекрасной книги я почерпнул много житейской мудрости. Мысли, изложенные в ней, точно вылились из моего собственного сердца; они, вообще, ужасно пригодны для кота, желающего играть в человеческом обществе какую-нибудь роль. Именно эта тенденция книги, сколько мне известно, до сих пор ускользала от внимания читателей, и потому иногда высказывалось ложное суждение, что человек, который будет вполне сообразовываться с изложенными в книге правилами, по необходимости будет всегда тупым, бессердечным педантом.
С этих пор мейстер не только терпел меня на своем письменном столе, но охотно даже видел, как я иногда во время его занятий вспрыгивал на стол и ложился среди бумаг.
Мейстер Абрагам имел привычку громко читать вслух. Я всегда располагался при этом таким образом, что мог смотреть в книгу, которую он читал; так как природа снабдила меня зоркими глазами, я мог устраивать это, не причиняя никакого беспокойства моему господину. Сравнивая слова, которые он произносил, с письменными значками, стоявшими в книге, я в короткое время научился читать; кому это покажется невероятным, тот, очевидно, не имеет никакого понятия о совершенно особенном даровании, которым меня наделила природа. А гении, меня понимающие и ценящие, не будут питать никакого сомнения относительно способа образования, который, быть может, одинаков с их собственным. Не упускаю при этом случая сообщить достопримечательное наблюдение, сделанное мною относительно приобретенного дара понимания человеческой речи. Именно я с полным сознанием наблюдал, что сам я решительно не знаю, как я достиг такого понимания. У людей замечается тот же факт; но я, впрочем, и не удивляюсь, потому что эта порода в годы детства гораздо глупее и беспомощнее нас. Даже в то время, как я был совсем маленьким котенком, со мной никогда не случалось, чтобы я царапал свои собственные глаза, хватался за горящую свечку или ел сапожную ваксу вместо вишневой пастилы, что почти всегда случается с маленькими детьми.
Когда я теперь научился хорошо читать и ежедневно набивал себя чужими мыслями, я почувствовал неудержимый порыв извлечь из неизвестности и свои собственные мысли, рожденные присущим мне гением, но прежде нужно было, конечно, научиться трудному искусству писанья. Как внимательно ни следил я за рукой моего господина, когда он писал, мне не удавалось открыть, в чем собственно заключается тут вся механика. Я штудировал старого Хильмара Кураса, единственные прописи, найденные мною у мейстера; мне пришло на ум, что загадочная трудность писанья может быть уничтожена только большими манжетами, в которые одета обыкновенно пишущая рука, и что только особенная усовершенствованная ловкость позволяет моему воспитателю писать без манжет, подобно тому, как опытный канатный плясун в конце концов научается обходиться без балансирного шеста. Я страстно жаждал манжет и намеревался разорвать ночной чепчик старой экономки и приспособить его для моей правой лапки, как вдруг в один из моментов вдохновения, как бывает всегда с великими умами, меня осенила гениальная мысль, решившая все. Именно: я догадался, что моя неспособность держать перо или карандаш так, как держит мейстер, с полным вероятием заключается в различном строении наших рук, – и догадка моя оправдалась. Я должен был изобрести новый способ писанья, свойственный строению моей правой лапки, – и действительно изобрел, как и следовало ожидать. Таким-то вот образом из особой организации индивидуума проистекает создание новых систем.
Другое пренеприятное затруднение состояло в обмакивании пера в чернильницу. Именно мне никак не удавалось при обмакивании уберечь свою лапку: всегда она вместе с пером попадала в чернильницу; естественным следствием этого было то, что первые строки, более созданные самой лапкой, нежели пером, были несколько велики и широки. Люди несведущие могут потому счесть мои первые манускрипты просто-напросто бумагой, испачканной пятнами чернил. Но люди гениальные легко угадают гениального кота и в его первых произведениях, они будут удивляться, они будут совершенно вне себя от изумления при виде этой глубины, этой силы духа, брызжущего из первичного неиссякаемого источника.
Для того чтобы потомки не стали со временем спорить между собой о хронологическом порядке моих бессмертных произведений, я заявляю здесь, что прежде всего я написал философско-сентиментально-дидактический роман «Мысль и предчувствие, или Кот и Собака». Уже это одно произведение могло бы доставить мне большую репутацию. Потом, усовершенствовавшись в разных отношениях, я написал политическое сочинение под заглавием «О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества». Затем, вдохновившись, я написал трагедию «Крысиный король Кавдаллор». И эта трагедия также могла бы бесчисленное количество раз и при самом шумном одобрении публики играться во всевозможных театрах. Полное собрание моих сочинений должно начаться этими созданиями моего высокого ума; о том, что меня побудило их написать, будет сообщено в надлежащем месте.
Когда я научился лучше держать перо, когда лапка моя перестала пачкаться чернилами, – и стиль мой сделался более легким, изящным и грациозным; в особенности я увлекся «Альманахом муз», писал разные дружеские послания и быстро сделался тем любезным, приятным мужчиной, каким и теперь продолжаю быть. Тогда же я совсем было написал эпическую поэму в двадцати четырех песнях, но, в то время как я совсем ее кончил, случилось нечто, за что Тассо и Ариост должны в своих гробах благодарить небо. Потому что, выйди из-под моих когтей вполне законченной эта поэма, никто не стал бы читать ни того ни другого.
Я приступаю теперь к…
(Мак. л.) …для лучшего уразумения необходимо, однако, ясно изложить тебе, благосклонный читатель, весь ход дела.
Всякий, кто хоть раз останавливался в гостинице прелестного, хотя захолустного городка Зигхартсвейлера, тотчас слышал что-нибудь о князе Иренее. Если, например, приехавший заказывал себе блюдо форелей, которые отличаются в этой местности доброкачественностью, хозяин гостиницы тотчас же говорил: «И отлично делаете, милостивый государь, что спрашиваете это блюдо! Наш светлейший князь чрезвычайно охотно ест форелей, и я приготовлю эту вкуснейшую рыбу именно так, как принято при дворе». Но образованный путешественник из всех учебников географии, карт и статистических сочинений знает только одно: городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и окрестностями давным-давно принадлежит великому герцогству, поэтому он немало должен удивляться, что здесь есть владетельный князь и двор. Но дело вот в чем. Во владении князя Иренея, действительно, находился раньше недалеко от Зигхартсвейлера небольшой клочок земли: с бельведера замка, находящегося в княжеской резиденции, Иреней мог осматривать земли всего своего государства; понятно, что он всегда имел, так сказать, перед глазами и блага, и несчастия своих подданных. В любое время он мог знать, хорошо ли произрастает пшеница у какого-нибудь Петера в отдаленнейшем уголке его страны, мог отлично наблюдать, прилежно ли ухаживают Ганс и Кунц за своими виноградниками. Говорят, что во время одной прогулки за границу князь Иреней выронил свою страну из кармана; верно ли это – неизвестно, но несомненно, что в новых изданиях карты великого герцогства – владеньица князя Иренея были зарегистрованы и включены в пределы этого герцогства. С князя были сняты хлопоты по управлению, и из доходов его страны был сделан ему богатый выдел, который он должен был тратить именно в прелестном городке Зигхартсвейлере.
Кроме того, у князя Иренея были еще значительные наличные средства, оставшиеся в неприкосновенном виде; таким образом, князь из маленького регента сделался вдруг видным частным человеком, который свободно, без всякой помехи мог устраивать свою жизнь как ему угодно.
Князь Иреней слыл за человека образованного, с тонким вкусом к науке и к искусству. Нужно прибавить к этому, что он не раз сетовал на несносные тягости и хлопоты, связанные с регентством и, говорят, однажды выразил в изящных стихах романтическое желание вести идиллический образ жизни procul negotiis[10 - «Удалившись от дел» (лат.).], в какой-нибудь маленькой хижине над журчащим ручьем, по берегам которого расстилаются пастбища. Благодаря всем таким обстоятельствам можно было думать, что он совсем забудет о роли владетельной особы и устроится уютно и комфортабельно, как только может устроиться богатый, независимый частный человек. На самом деле все вышло совсем иначе.
Часто бывает, что любовь той или другой владетельной персоны к искусству и науке является только составной частью и декорумом придворной жизни. Приличие требует приобретать картины, слушать музыку и заставляет придворного переплетчика без устали одевать в золото и шагрень произведения новейшей литературы. Но раз придворная жизнь прекращается, естественно, и ее декорум уничтожается вместе с ней.
Князь Иреней сохранил и то и другое: и придворную жизнь, и любовь к искусствам и наукам, осуществив лучший сон своей жизни, в котором он сам фигурировал вместе со своими близкими, равно как вместе со всем городком Зигхартсвейлером.
Он устроил свою жизнь так, как будто он продолжал быть владетельным князем, сохранил полный придворный штат, государственного канцлера, совет министерства финансов, раздавал ордена, делал приемы, давал придворные балы, на которых по большей части бывало человек двенадцать – пятнадцать, но на которых этикет соблюдался гораздо строже, чем при самых больших дворах. Горожане были достаточно добродушны и охотно поддерживали честь, достоинство и весь мишурный блеск этого мнимого двора. Таким образом, например, добрейшие жители городка называли князя Иренея «ваша светлость»; в дни тезоименитства его или кого-нибудь из его семьи устраивали в городе иллюминацию, и вообще охотно жертвовали всем для удовольствия двора, подобно афинским гражданам в шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь».
Нельзя отрицать, что князь исполнял роль свою с самым внушительным пафосом и умел передавать этот пафос всем окружающим. Так, например, является как-нибудь в клуб член министерства финансов, он мрачен, молчалив, весь сосредоточен в себе. Чело его точно окутано тучами, нередко он погружается в глубокую задумчивость, потом вздрагивает и выпрямляется, как будто пробуждаясь от сна. К нему еле решаются подходить, в его присутствии не осмеливаются громко говорить. Бьет девять часов, он вскакивает со своего стула, берет шляпу, и тщетны старания всех удержать его: с гордой, многозначительной улыбкой он уверяет, что его ждут кипы бумаг, что ему придется просидеть всю ночь для того, чтобы подготовиться к завтрашнему чрезвычайно важному последнему четвертому заседанию Совета; поспешно удаляясь, он оставляет все общество в почтительном, немом изумлении пред безмерной важностью и трудностью его деятельности. А что же это за важный доклад, к которому несчастный труженик должен приготовиться за ночь? Он должен составить список белья, отдававшегося в стирку во всем департаменте за истекшую четверть года, подававшихся кушаний, сшитых заново платьев и тому подобное; соединив все это в целый доклад, он прочтет его в комиссии по вопросу о стирке белья.
Точно так же весь город жалеет, например, беднягу-вагенмейстера, наказанного княжеской коллегией, но в то же время каждый охвачен и подавлен возвышенным пафосом коллегии и восклицает: «Строго, но справедливо!» Дело в том, что вагенмейстер, сообразно с полученной инструкцией, продал коляску, негодную для употребления, и министерская коллегия предписала ему в течение трехдневного срока выяснить, под страхом немедленной отставки, куда он девал другую, непроданную, половину коляски, быть может, еще пригодную к употреблению.
Особым светилом, сиявшим при дворе князя Иренея, была советница Бенцон, вдова лет за тридцать с лишком, но красоты увлекательной и все еще не лишенная грации, – единственная особа, дворянство которой было сомнительно и которую, однако, князь раз и навсегда приблизил ко двору. Светлый, проницательный ум советницы, ее придворная живость, ее светский такт, а главным образом, известное хладнокровие, необходимое для господства над собственным талантом, имели полную, неотразимую власть над всеми, так что именно она была главной двигательной пружиной в кукольном театре этого миниатюрного двора. Дочь ее, Юлия, выросла вместе с принцессой Гедвигой. И даже на умственное развитие этой последней советница повлияла в такой степени, что она была как бы чужой в кругу княжеской фамилии и не имела совершенно ничего общего с своим братом. Принц Игнац был, в противоположность сестре, как бы осужден на вечное детство и почти заслуживал названия тупоумного.
Наряду с госпожой Бенцон, таким же влиянием, таким же полным проникновением в самые деликатные отношения княжеской семьи обладал – хотя совсем в другом смысле – тот странный человек, которого ты, благосклонный читатель, уже видел как ma?tre de plaisir[11 - Устроитель празднеств (фр.).] княжеского двора и как полного иронии чародея.
Крайне достопримечательна история вступления мейстера Абрагама в княжескую фамилию.
Блаженной памяти папаша князя Иренея был человек простой и кроткий. Он увидал, что малейшее проявление жизненных сил должно совсем разрушить слабый организм государственной машины, вместо того чтобы побудить ее к лучшему действию. Руководствуясь этим, он оставил положение дел страны в прежнем порядке, и, если у него не было случая выказать блестящий ум или другие какие-нибудь дары Неба, он ограничился, по крайней мере, тем, что в его княжестве каждый чувствовал себя хорошо, а что касается сношений с другими государствами, так в этом случае его страна напоминала женщину: чем меньше про нее говорят, тем свободнее она от недостатков. Если маленький двор князя отличался чопорностью и церемонностью, если князь совсем не мог свыкнуться с некоторыми вполне лояльными идеями, выработанными новым временем, вина этого заключалась в обер-гофмейстере, гофмаршалах и камергерах, которые всеми силами старались сохранить невозмутимость стоячей воды. Но было одно обстоятельство, с которым не могли бороться никакой гофмейстер, никакой маршал, – именно прирожденная склонность князя ко всему загадочному, странному, необычайному.
По примеру калифа Гарун аль-Рашида он имел иногда обыкновение переодетым обходить город и деревни, чтобы дать удовлетворение или хоть некоторую пищу этой склонности, находившейся в странном противоречии с другими его тенденциями. Он надевал в таких случаях круглую шляпу и серое пальто, так что каждый с первого взгляда видел, что князя теперь не нужно узнавать.
Случилось однажды, что переодетый таким образом князь, пройдя неузнанным всю аллею, ведущую от замка к одной из отдаленнейших местностей, дошел до уединенного домика, в котором жила вдова главного княжеского повара. Как раз перед самым домиком князь увидел двоих незнакомцев, закутанных в плащи и спешивших к выходу. Он прошел в сторону, и историограф княжеской фамилии, у которого я заимствую этот факт, утверждает, что князь был бы неузнан и незамечен даже в том случае, если бы он вместо серого пальто надел самое блестящее форменное платье, украшенное искрящимися орденами, – по той простой причине, что тогда был совершенно темный вечер. Когда оба незнакомца, закутанные в плащи, медленно проходили мимо князя, он вполне явственно услыхал следующий разговор. Один сказал: «Прошу тебя, сиятельный братец, смотри хорошенько, чтобы не быть на этот раз ослом! Вы должны с ним покончить, прежде чем князь успеет узнать от него что-нибудь, потому что иначе проклятый колдун насядет нам на шею и совсем погубит нас своими сатанинскими чарами». Другой ответил: «Мon cher fr?re[12 - Мой дорогой брат (фр.).], не волнуйся так, не горячись, ты знаешь мою sagacite, мою savoir faire[13 - Мою мудрость, мою ловкость (фр.).]. Я завтра разделаюсь с ним по-своему, и пусть тогда он показывает где хочет свои экспонаты… Здесь, во всяком случае, он оставаться не может. Князь, кроме того, порядо…» Голоса замолкли, и князь не мог узнать, чем считает его собственный гофмаршал, так как никто иной, а именно гофмаршал и брат его, обер-егермейстер, были этими лицами, вышедшими из дома и разговаривавшими так странно и загадочно.
Князь узнал их обоих по голосу. Легко представить себе, что князю пришло самое естественное желание отыскать этого опасного колдуна, от знакомства с которым хотели его предохранить. Он постучался в дверь домика, вдова вышла на порог, держа в руках свечу, и, увидав круглую шляпу и серое пальто князя, спросила с холодной вежливостью:
– Что вам угодно, monsieur?[14 - Сударь (фр.).]
Когда князь подходил к кому-нибудь переодетый и неузнаваемый, ему всегда говорили monsieur.
Князь осведомился о чужестранце, который должен был находиться у вдовы; он оказался не кем иным, как чрезвычайно сведущим, ловким, знаменитым фокусником, снабженным целой кучей аттестатов, грамот и привилегий и желающим познакомить местную публику со своими чарами.
– Только что здесь были, – рассказывала вдова, – два придворных господина. Он им показывал какие-то необъяснимые вещи, которые привели их в такое изумление, что они ушли отсюда смущенные, бледные, совершенно вне себя.
Недолго думая, князь велел провести себя к нему. Мейстер Абрагам (а это был именно он) принял его как человека, которого он уже давно ждал, и, как только князь вошел, тотчас же затворил за ним дверь.
Никто не знает, какие фокусы показывал князю Иренею мейстер Абрагам, известно только одно: князь пробыл с ним целую ночь, а на другое утро в замке были приготовлены комнаты, которые занял мейстер Абрагам и в которые князь посредством потаенного хода мог незамеченным проникать из своего кабинета. Известно также еще, что отныне князь не называл уже больше гофмаршала mon cher ami[15 - Мой милый друг (фр.).] и никогда больше не заставлял обер-егермейстера рассказывать волшебную охотничью историю о белом рогатом зайце, которого он (обер-егермейстер) не мог застрелить во время первой своей охотничьей экскурсии в лесу. Это обстоятельство повергло обоих братьев в печаль и отчаяние и в скором времени вынудило их оставить двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам стал приводить в изумление двор, город и сельских жителей не только своими фантасмагориями, но также и тем уважением, которое он все более и более внушал князю.
О фокусах мейстера Абрагама упомянутый историограф княжеской фамилии рассказывает столько невероятных вещей, что нет возможности все их передать, не оскорбляя доверия благосклонного читателя. Самым удивительным фокусом, который, по мнению историографа, достаточно ясно доказывает очевидную и преступную связь мейстера Абрагама с невидимыми темными силами, является акустическая трагедия, позднее обратившая на себя большое внимание и сделавшаяся известной под названием «Невидимой девицы». Фокус этот уже в то время не раз был показываем мейстером Абрагамом с таким богатством фантазии, загадочности и захватывающего интереса, с каким его больше никогда никто не показывал.
Наряду со всем этим поговаривали, что и сам князь, вкупе с мейстером Абрагамом, стал предпринимать различные магические операции относительно их цели между придворными дамами, камергерами и другими лицами, причастными ко двору, возник приятный спор, исполненный самых нелепых, бессмысленных догадок. Все, впрочем, были согласны в одном: мейстер Абрагам научил князя приготовлять золото, о чем можно было судить по дыму, проникавшему иногда из лаборатории, и что он ввел его во всяческие необходимые для подобных целей конференции духов. Далее, все были твердо убеждены, что теперь князь, прежде чем выдавать патент новому бургомистру местечка или назначать прибавку жалованья придворному истопнику, стал всегда советоваться с созвездиями или с демоном Агатоном, который со спиритами обходится запросто.
Когда старый князь скончался и ему наследовал Иреней, мейстер Абрагам покинул страну. Молодой князь, совсем лишенный отцовской склонности к чудесному и загадочному, не удерживал его; однако вскоре нашел, что магическая власть мейстера Абрагама заключается главным образом в его умении заклинать некоего злого духа, который крайне охотно поселяется при всех маленьких дворах, именно адского духа – скуки. Кроме того, уважение, каким пользовался мейстер Абрагам у старого князя, пустило глубокие корни в душе Иренея. Бывали минуты, когда молодому князю казалось, что мейстер Абрагам – какое-то неземное существо, высоко стоящее надо всем, что считается исключительным в человеческом смысле слова. Говорят, что такое совсем особенное ощущение было следствием некоторого критического незабвенного момента в юношеской истории князя. Раз, будучи еще мальчиком, он с назойливым ребяческим любопытством проник в комнату мейстера Абрагама и весьма нелепым образом разломал одну маленькую машину, которую мейстер только что окончил с большими хлопотами и необычайным искусством; мейстер в страшном гневе на неловкость глупого князька дал ему увесистую пощечину и потом тотчас же с некоторой не вполне ласкательной поспешностью вывел его из своей комнаты в коридор. Молодой князь, заливаясь слезами, мог только с трудом промямлить: «Abraham… soufflet…»[16 - «Абрагам… пощечина…» (фр.)] Обескураженный обер-гофмейстер подумал, что это было наказание за дерзкую попытку проникнуть в страшную тайну, которую он мог только подозревать.
Князь Иреней теперь живо чувствовал потребность иметь при себе мейстера Абрагама, как одухотворяющее начало в механизме придворной жизни, но все усилия вернуть его назад были напрасны. И только после роковой прогулки, когда князь Иреней потерял свои владеньица, когда он устроил в Зигхартсвейлере свой химерический двор, мейстер Абрагам снова вернулся и не мог выбрать для возвращения более подходящего времени. Потому что, кроме всего другого…
(М. прод.) …рассказу о достопримечательном событии, которое, выражаясь обычным слогом остроумных биографов, открывает новую эпоху моей жизни.
Читатели! Вы, о юноши, мужчины и женщины, под чьей шерстью бьется чувствительное сердце, чья душа наклонна к добродетели, чей ум познает сладостные узы, соединяющие нас с природой, вы поймете меня и полюбите.
Солнце жгло, целый день я проспал под печкой. Но вот надвинулись сумерки и свежий ветер с шепотом проник через открытое окно в комнату моего воспитателя. Я пробудился от сна, грудь моя расширилась, вся охваченная невыразимым, странным ощущением, и сладким, и мучительным, соединенным с нежнейшими предчувствиями. Под наплывом этих предчувствий я выпрямился и сделал то самое многозначительное движение, которое равнодушный человек в холодности своей обозначает словами «выгнуть спину». Прочь отсюда – на волю влекло меня, к свободной природе, – я удалился на крышу и бродил там в лучах заходящего солнца. Вдруг услышал я звуки – они неслись с чердака, – такие нежные, тихие, родные, обворожительные; какое-то незнакомое чувство с непобедимой силой повлекло меня вниз. Покинув красоты природы, я через узкое слуховое окно прополз на чердак. Как только спрыгнул я вниз, заметил тотчас же большую, прекрасную кошку, покрытую белыми и черными пятнами. Она сидела на задних лапках в позе весьма комфортабельной и испускала соблазнившие меня звуки, и смотрела на меня проницательным, пристальным взглядом. Во мгновение ока я сел против нее и, уступая внутреннему порыву, попытался запеть в унисон с пятнистой красавицей. Должен сознаться, что это удалось мне необычайно. Именно с этого момента (делаю данное замечание для психологов, занятых изучением моей жизни и моих произведений) начинается во мне вера в мой природный музыкальный талант, а вместе с верой появляется естественно и самый талант. Пятнистая певунья посмотрела на меня пристальнее и внимательнее, вдруг замолчала и, сделав гигантский прыжок, подскочила ко мне. Не ожидая ничего хорошего, я выпустил свои когти, но в то же самое мгновение пятнистая дама воскликнула, роняя из глаз серебристые слезы:
– Сын мой, о, сын мой! Приди, поспеши в мои лапы!
И потом, обнимая меня, с теплым чувством прижимая меня к груди своей, продолжала:
– Это ты, ты мой сын, мой добрый сын, которого я родила без особенных мук!..
Я почувствовал себя потрясенным до глубины души, и уже это одно должно было убедить меня, что я действительно вижу перед собой родную мать; тем не менее я все-таки спросил, уверена ли также и она, что это вполне несомненно.
– Еще бы, это сходство! – воскликнула она. – Эти глаза, это выражение лица, эта борода, этот мех – все, все напоминает мне слишком живо неблагодарного изменника, который бросил меня. Ты вылитый портрет твоего отца, милый Мурр (ведь ты именно так зовешься); я, однако, надеюсь, что с красотой отца ты соединил нежные помыслы и кроткий характер матери Мины. У отца твоего был весьма внушительный вид: его важный высокий лоб производил импонирующее впечатление, в зеленых глазах светился живой ум, а на щеках играла приятная улыбка. Эти физические преимущества вместе с его остроумием и известной любезной легкостью, с которой он ловил мышей, покорили мое сердце. Но скоро выказался его жестокий тиранический характер, который он так долго, так искусно скрывал. Я с ужасом говорю это! Едва только ты родился, как твоему отцу пришло нечестивое желание съесть тебя вместе с твоими братьями и сестрами.
– Любезная мамаша, – прервал я рассказ пятнистой дамы, – не осуждайте так всецело это желание. Образованнейший в свете народ приписывает самим богам этот неизъяснимый аппетит к пожиранию собственных детей. Но Юпитер был спасен, а также и я!
– Я тебя не понимаю, сын мой, – возразила Мина. – Но кажется мне, что ты как будто говоришь совершенный вздор или хочешь защищать твоего отца. Не будь неблагодарным! Ты, наверное, был бы задушен и съеден кровожадным тираном, если бы я с отвагой не защищала тебя этими острыми когтями, если бы не спасла тебя от преследований противоестественного варвара, с быстротой стрелы убегая то туда, то сюда: в подвал, на чердак и в конюшни. Он оставил меня, наконец! С тех пор я его никогда не видала! Но все еще бьется любовь к нему в сердце моем! Это был прекраснейший кот! Благодаря его тонким манерам, его важной осанке, многие принимали его за путешествующего графа.
Я уже решила вести спокойную тихую жизнь, ограничив свои интересы домашней сферой материнских обязанностей, но меня должен был поразить еще страшнейший удар. Когда я однажды вернулась с прогулки домой, от тебя и от братьев твоих и сестер и следа не осталось. За день перед этим одна старая женщина открыла меня в моем убежище, и я слышала, как она говорила какие-то загадочные слова о том, что кого-то нужно бросить в воду. Ну, слава богу, ты спасен, сын мой. Прижмись еще раз к груди моей, о возлюбленный!
Пятнистая мамаша ласкала меня с сердечной нежностью и расспрашивала о подробностях моей жизни. Я все рассказал ей, не забыв упомянуть при этом о моем высоком образовании и о том, как я достиг своего развития.
Мина казалась менее тронутой редкостными качествами сына, чем этого можно было ожидать. Она даже вполне недвусмысленно дала мне понять, что я со всем моим необычайным гением и моими глубокими научными познаниями попал на ложный путь, который может привести меня к дурным результатам. А в особенности она предостерегала меня не открывать приобретенных мною знаний мейстеру Абрагаму, потому что он только будет эксплуатировать меня и держать в самом стеснительном рабстве.
– Сама я, – проговорила Мина, – не могу похвастаться образованием, подобным твоему, между тем у меня отнюдь нет недостатка в природных способностях и приятных талантах. В числе этих последних я должна, например, назвать прирожденное мое уменье испускать из своего меха яркие искры, когда меня гладят. И сколько же неприятностей доставил мне этот один талант! Дети и взрослые беспрестанно шаркают по моей спине, для того чтобы – на муку мне – производить такой фейерверк; если же я с неудовольствием отпрыгиваю в сторону или показываю когти, меня называют диким животным, а иногда даже бьют. Подобно этому, как только мейстер Абрагам узнает, что ты можешь писать, он тебя сделает своим переписчиком, и ты будешь по принуждению делать то, что теперь делаешь по доброй воле и для собственного удовольствия.
Он вытащил из-под моих лапок книжку, посмотрел на ее заглавие и начал хохотать еще громче. «Ну, – продолжал он, – я должен допустить мысль, что у тебя есть карманная библиотечка, потому что я никак не могу понять, откуда и каким образом попала эта книга на мой письменный стол. Читай, читай, Мурр, штудируй прилежно, важнейшие места в книге ты можешь отмечать, слегка поцарапав на полях когтями, это я тебе вполне разрешаю».
С такими словами он снова подсунул мне книгу, которая, как я узнал впоследствии, была сочинением Книгге «Об обращении с людьми». Из этой прекрасной книги я почерпнул много житейской мудрости. Мысли, изложенные в ней, точно вылились из моего собственного сердца; они, вообще, ужасно пригодны для кота, желающего играть в человеческом обществе какую-нибудь роль. Именно эта тенденция книги, сколько мне известно, до сих пор ускользала от внимания читателей, и потому иногда высказывалось ложное суждение, что человек, который будет вполне сообразовываться с изложенными в книге правилами, по необходимости будет всегда тупым, бессердечным педантом.
С этих пор мейстер не только терпел меня на своем письменном столе, но охотно даже видел, как я иногда во время его занятий вспрыгивал на стол и ложился среди бумаг.
Мейстер Абрагам имел привычку громко читать вслух. Я всегда располагался при этом таким образом, что мог смотреть в книгу, которую он читал; так как природа снабдила меня зоркими глазами, я мог устраивать это, не причиняя никакого беспокойства моему господину. Сравнивая слова, которые он произносил, с письменными значками, стоявшими в книге, я в короткое время научился читать; кому это покажется невероятным, тот, очевидно, не имеет никакого понятия о совершенно особенном даровании, которым меня наделила природа. А гении, меня понимающие и ценящие, не будут питать никакого сомнения относительно способа образования, который, быть может, одинаков с их собственным. Не упускаю при этом случая сообщить достопримечательное наблюдение, сделанное мною относительно приобретенного дара понимания человеческой речи. Именно я с полным сознанием наблюдал, что сам я решительно не знаю, как я достиг такого понимания. У людей замечается тот же факт; но я, впрочем, и не удивляюсь, потому что эта порода в годы детства гораздо глупее и беспомощнее нас. Даже в то время, как я был совсем маленьким котенком, со мной никогда не случалось, чтобы я царапал свои собственные глаза, хватался за горящую свечку или ел сапожную ваксу вместо вишневой пастилы, что почти всегда случается с маленькими детьми.
Когда я теперь научился хорошо читать и ежедневно набивал себя чужими мыслями, я почувствовал неудержимый порыв извлечь из неизвестности и свои собственные мысли, рожденные присущим мне гением, но прежде нужно было, конечно, научиться трудному искусству писанья. Как внимательно ни следил я за рукой моего господина, когда он писал, мне не удавалось открыть, в чем собственно заключается тут вся механика. Я штудировал старого Хильмара Кураса, единственные прописи, найденные мною у мейстера; мне пришло на ум, что загадочная трудность писанья может быть уничтожена только большими манжетами, в которые одета обыкновенно пишущая рука, и что только особенная усовершенствованная ловкость позволяет моему воспитателю писать без манжет, подобно тому, как опытный канатный плясун в конце концов научается обходиться без балансирного шеста. Я страстно жаждал манжет и намеревался разорвать ночной чепчик старой экономки и приспособить его для моей правой лапки, как вдруг в один из моментов вдохновения, как бывает всегда с великими умами, меня осенила гениальная мысль, решившая все. Именно: я догадался, что моя неспособность держать перо или карандаш так, как держит мейстер, с полным вероятием заключается в различном строении наших рук, – и догадка моя оправдалась. Я должен был изобрести новый способ писанья, свойственный строению моей правой лапки, – и действительно изобрел, как и следовало ожидать. Таким-то вот образом из особой организации индивидуума проистекает создание новых систем.
Другое пренеприятное затруднение состояло в обмакивании пера в чернильницу. Именно мне никак не удавалось при обмакивании уберечь свою лапку: всегда она вместе с пером попадала в чернильницу; естественным следствием этого было то, что первые строки, более созданные самой лапкой, нежели пером, были несколько велики и широки. Люди несведущие могут потому счесть мои первые манускрипты просто-напросто бумагой, испачканной пятнами чернил. Но люди гениальные легко угадают гениального кота и в его первых произведениях, они будут удивляться, они будут совершенно вне себя от изумления при виде этой глубины, этой силы духа, брызжущего из первичного неиссякаемого источника.
Для того чтобы потомки не стали со временем спорить между собой о хронологическом порядке моих бессмертных произведений, я заявляю здесь, что прежде всего я написал философско-сентиментально-дидактический роман «Мысль и предчувствие, или Кот и Собака». Уже это одно произведение могло бы доставить мне большую репутацию. Потом, усовершенствовавшись в разных отношениях, я написал политическое сочинение под заглавием «О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества». Затем, вдохновившись, я написал трагедию «Крысиный король Кавдаллор». И эта трагедия также могла бы бесчисленное количество раз и при самом шумном одобрении публики играться во всевозможных театрах. Полное собрание моих сочинений должно начаться этими созданиями моего высокого ума; о том, что меня побудило их написать, будет сообщено в надлежащем месте.
Когда я научился лучше держать перо, когда лапка моя перестала пачкаться чернилами, – и стиль мой сделался более легким, изящным и грациозным; в особенности я увлекся «Альманахом муз», писал разные дружеские послания и быстро сделался тем любезным, приятным мужчиной, каким и теперь продолжаю быть. Тогда же я совсем было написал эпическую поэму в двадцати четырех песнях, но, в то время как я совсем ее кончил, случилось нечто, за что Тассо и Ариост должны в своих гробах благодарить небо. Потому что, выйди из-под моих когтей вполне законченной эта поэма, никто не стал бы читать ни того ни другого.
Я приступаю теперь к…
(Мак. л.) …для лучшего уразумения необходимо, однако, ясно изложить тебе, благосклонный читатель, весь ход дела.
Всякий, кто хоть раз останавливался в гостинице прелестного, хотя захолустного городка Зигхартсвейлера, тотчас слышал что-нибудь о князе Иренее. Если, например, приехавший заказывал себе блюдо форелей, которые отличаются в этой местности доброкачественностью, хозяин гостиницы тотчас же говорил: «И отлично делаете, милостивый государь, что спрашиваете это блюдо! Наш светлейший князь чрезвычайно охотно ест форелей, и я приготовлю эту вкуснейшую рыбу именно так, как принято при дворе». Но образованный путешественник из всех учебников географии, карт и статистических сочинений знает только одно: городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и окрестностями давным-давно принадлежит великому герцогству, поэтому он немало должен удивляться, что здесь есть владетельный князь и двор. Но дело вот в чем. Во владении князя Иренея, действительно, находился раньше недалеко от Зигхартсвейлера небольшой клочок земли: с бельведера замка, находящегося в княжеской резиденции, Иреней мог осматривать земли всего своего государства; понятно, что он всегда имел, так сказать, перед глазами и блага, и несчастия своих подданных. В любое время он мог знать, хорошо ли произрастает пшеница у какого-нибудь Петера в отдаленнейшем уголке его страны, мог отлично наблюдать, прилежно ли ухаживают Ганс и Кунц за своими виноградниками. Говорят, что во время одной прогулки за границу князь Иреней выронил свою страну из кармана; верно ли это – неизвестно, но несомненно, что в новых изданиях карты великого герцогства – владеньица князя Иренея были зарегистрованы и включены в пределы этого герцогства. С князя были сняты хлопоты по управлению, и из доходов его страны был сделан ему богатый выдел, который он должен был тратить именно в прелестном городке Зигхартсвейлере.
Кроме того, у князя Иренея были еще значительные наличные средства, оставшиеся в неприкосновенном виде; таким образом, князь из маленького регента сделался вдруг видным частным человеком, который свободно, без всякой помехи мог устраивать свою жизнь как ему угодно.
Князь Иреней слыл за человека образованного, с тонким вкусом к науке и к искусству. Нужно прибавить к этому, что он не раз сетовал на несносные тягости и хлопоты, связанные с регентством и, говорят, однажды выразил в изящных стихах романтическое желание вести идиллический образ жизни procul negotiis[10 - «Удалившись от дел» (лат.).], в какой-нибудь маленькой хижине над журчащим ручьем, по берегам которого расстилаются пастбища. Благодаря всем таким обстоятельствам можно было думать, что он совсем забудет о роли владетельной особы и устроится уютно и комфортабельно, как только может устроиться богатый, независимый частный человек. На самом деле все вышло совсем иначе.
Часто бывает, что любовь той или другой владетельной персоны к искусству и науке является только составной частью и декорумом придворной жизни. Приличие требует приобретать картины, слушать музыку и заставляет придворного переплетчика без устали одевать в золото и шагрень произведения новейшей литературы. Но раз придворная жизнь прекращается, естественно, и ее декорум уничтожается вместе с ней.
Князь Иреней сохранил и то и другое: и придворную жизнь, и любовь к искусствам и наукам, осуществив лучший сон своей жизни, в котором он сам фигурировал вместе со своими близкими, равно как вместе со всем городком Зигхартсвейлером.
Он устроил свою жизнь так, как будто он продолжал быть владетельным князем, сохранил полный придворный штат, государственного канцлера, совет министерства финансов, раздавал ордена, делал приемы, давал придворные балы, на которых по большей части бывало человек двенадцать – пятнадцать, но на которых этикет соблюдался гораздо строже, чем при самых больших дворах. Горожане были достаточно добродушны и охотно поддерживали честь, достоинство и весь мишурный блеск этого мнимого двора. Таким образом, например, добрейшие жители городка называли князя Иренея «ваша светлость»; в дни тезоименитства его или кого-нибудь из его семьи устраивали в городе иллюминацию, и вообще охотно жертвовали всем для удовольствия двора, подобно афинским гражданам в шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь».
Нельзя отрицать, что князь исполнял роль свою с самым внушительным пафосом и умел передавать этот пафос всем окружающим. Так, например, является как-нибудь в клуб член министерства финансов, он мрачен, молчалив, весь сосредоточен в себе. Чело его точно окутано тучами, нередко он погружается в глубокую задумчивость, потом вздрагивает и выпрямляется, как будто пробуждаясь от сна. К нему еле решаются подходить, в его присутствии не осмеливаются громко говорить. Бьет девять часов, он вскакивает со своего стула, берет шляпу, и тщетны старания всех удержать его: с гордой, многозначительной улыбкой он уверяет, что его ждут кипы бумаг, что ему придется просидеть всю ночь для того, чтобы подготовиться к завтрашнему чрезвычайно важному последнему четвертому заседанию Совета; поспешно удаляясь, он оставляет все общество в почтительном, немом изумлении пред безмерной важностью и трудностью его деятельности. А что же это за важный доклад, к которому несчастный труженик должен приготовиться за ночь? Он должен составить список белья, отдававшегося в стирку во всем департаменте за истекшую четверть года, подававшихся кушаний, сшитых заново платьев и тому подобное; соединив все это в целый доклад, он прочтет его в комиссии по вопросу о стирке белья.
Точно так же весь город жалеет, например, беднягу-вагенмейстера, наказанного княжеской коллегией, но в то же время каждый охвачен и подавлен возвышенным пафосом коллегии и восклицает: «Строго, но справедливо!» Дело в том, что вагенмейстер, сообразно с полученной инструкцией, продал коляску, негодную для употребления, и министерская коллегия предписала ему в течение трехдневного срока выяснить, под страхом немедленной отставки, куда он девал другую, непроданную, половину коляски, быть может, еще пригодную к употреблению.
Особым светилом, сиявшим при дворе князя Иренея, была советница Бенцон, вдова лет за тридцать с лишком, но красоты увлекательной и все еще не лишенная грации, – единственная особа, дворянство которой было сомнительно и которую, однако, князь раз и навсегда приблизил ко двору. Светлый, проницательный ум советницы, ее придворная живость, ее светский такт, а главным образом, известное хладнокровие, необходимое для господства над собственным талантом, имели полную, неотразимую власть над всеми, так что именно она была главной двигательной пружиной в кукольном театре этого миниатюрного двора. Дочь ее, Юлия, выросла вместе с принцессой Гедвигой. И даже на умственное развитие этой последней советница повлияла в такой степени, что она была как бы чужой в кругу княжеской фамилии и не имела совершенно ничего общего с своим братом. Принц Игнац был, в противоположность сестре, как бы осужден на вечное детство и почти заслуживал названия тупоумного.
Наряду с госпожой Бенцон, таким же влиянием, таким же полным проникновением в самые деликатные отношения княжеской семьи обладал – хотя совсем в другом смысле – тот странный человек, которого ты, благосклонный читатель, уже видел как ma?tre de plaisir[11 - Устроитель празднеств (фр.).] княжеского двора и как полного иронии чародея.
Крайне достопримечательна история вступления мейстера Абрагама в княжескую фамилию.
Блаженной памяти папаша князя Иренея был человек простой и кроткий. Он увидал, что малейшее проявление жизненных сил должно совсем разрушить слабый организм государственной машины, вместо того чтобы побудить ее к лучшему действию. Руководствуясь этим, он оставил положение дел страны в прежнем порядке, и, если у него не было случая выказать блестящий ум или другие какие-нибудь дары Неба, он ограничился, по крайней мере, тем, что в его княжестве каждый чувствовал себя хорошо, а что касается сношений с другими государствами, так в этом случае его страна напоминала женщину: чем меньше про нее говорят, тем свободнее она от недостатков. Если маленький двор князя отличался чопорностью и церемонностью, если князь совсем не мог свыкнуться с некоторыми вполне лояльными идеями, выработанными новым временем, вина этого заключалась в обер-гофмейстере, гофмаршалах и камергерах, которые всеми силами старались сохранить невозмутимость стоячей воды. Но было одно обстоятельство, с которым не могли бороться никакой гофмейстер, никакой маршал, – именно прирожденная склонность князя ко всему загадочному, странному, необычайному.
По примеру калифа Гарун аль-Рашида он имел иногда обыкновение переодетым обходить город и деревни, чтобы дать удовлетворение или хоть некоторую пищу этой склонности, находившейся в странном противоречии с другими его тенденциями. Он надевал в таких случаях круглую шляпу и серое пальто, так что каждый с первого взгляда видел, что князя теперь не нужно узнавать.
Случилось однажды, что переодетый таким образом князь, пройдя неузнанным всю аллею, ведущую от замка к одной из отдаленнейших местностей, дошел до уединенного домика, в котором жила вдова главного княжеского повара. Как раз перед самым домиком князь увидел двоих незнакомцев, закутанных в плащи и спешивших к выходу. Он прошел в сторону, и историограф княжеской фамилии, у которого я заимствую этот факт, утверждает, что князь был бы неузнан и незамечен даже в том случае, если бы он вместо серого пальто надел самое блестящее форменное платье, украшенное искрящимися орденами, – по той простой причине, что тогда был совершенно темный вечер. Когда оба незнакомца, закутанные в плащи, медленно проходили мимо князя, он вполне явственно услыхал следующий разговор. Один сказал: «Прошу тебя, сиятельный братец, смотри хорошенько, чтобы не быть на этот раз ослом! Вы должны с ним покончить, прежде чем князь успеет узнать от него что-нибудь, потому что иначе проклятый колдун насядет нам на шею и совсем погубит нас своими сатанинскими чарами». Другой ответил: «Мon cher fr?re[12 - Мой дорогой брат (фр.).], не волнуйся так, не горячись, ты знаешь мою sagacite, мою savoir faire[13 - Мою мудрость, мою ловкость (фр.).]. Я завтра разделаюсь с ним по-своему, и пусть тогда он показывает где хочет свои экспонаты… Здесь, во всяком случае, он оставаться не может. Князь, кроме того, порядо…» Голоса замолкли, и князь не мог узнать, чем считает его собственный гофмаршал, так как никто иной, а именно гофмаршал и брат его, обер-егермейстер, были этими лицами, вышедшими из дома и разговаривавшими так странно и загадочно.
Князь узнал их обоих по голосу. Легко представить себе, что князю пришло самое естественное желание отыскать этого опасного колдуна, от знакомства с которым хотели его предохранить. Он постучался в дверь домика, вдова вышла на порог, держа в руках свечу, и, увидав круглую шляпу и серое пальто князя, спросила с холодной вежливостью:
– Что вам угодно, monsieur?[14 - Сударь (фр.).]
Когда князь подходил к кому-нибудь переодетый и неузнаваемый, ему всегда говорили monsieur.
Князь осведомился о чужестранце, который должен был находиться у вдовы; он оказался не кем иным, как чрезвычайно сведущим, ловким, знаменитым фокусником, снабженным целой кучей аттестатов, грамот и привилегий и желающим познакомить местную публику со своими чарами.
– Только что здесь были, – рассказывала вдова, – два придворных господина. Он им показывал какие-то необъяснимые вещи, которые привели их в такое изумление, что они ушли отсюда смущенные, бледные, совершенно вне себя.
Недолго думая, князь велел провести себя к нему. Мейстер Абрагам (а это был именно он) принял его как человека, которого он уже давно ждал, и, как только князь вошел, тотчас же затворил за ним дверь.
Никто не знает, какие фокусы показывал князю Иренею мейстер Абрагам, известно только одно: князь пробыл с ним целую ночь, а на другое утро в замке были приготовлены комнаты, которые занял мейстер Абрагам и в которые князь посредством потаенного хода мог незамеченным проникать из своего кабинета. Известно также еще, что отныне князь не называл уже больше гофмаршала mon cher ami[15 - Мой милый друг (фр.).] и никогда больше не заставлял обер-егермейстера рассказывать волшебную охотничью историю о белом рогатом зайце, которого он (обер-егермейстер) не мог застрелить во время первой своей охотничьей экскурсии в лесу. Это обстоятельство повергло обоих братьев в печаль и отчаяние и в скором времени вынудило их оставить двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам стал приводить в изумление двор, город и сельских жителей не только своими фантасмагориями, но также и тем уважением, которое он все более и более внушал князю.
О фокусах мейстера Абрагама упомянутый историограф княжеской фамилии рассказывает столько невероятных вещей, что нет возможности все их передать, не оскорбляя доверия благосклонного читателя. Самым удивительным фокусом, который, по мнению историографа, достаточно ясно доказывает очевидную и преступную связь мейстера Абрагама с невидимыми темными силами, является акустическая трагедия, позднее обратившая на себя большое внимание и сделавшаяся известной под названием «Невидимой девицы». Фокус этот уже в то время не раз был показываем мейстером Абрагамом с таким богатством фантазии, загадочности и захватывающего интереса, с каким его больше никогда никто не показывал.
Наряду со всем этим поговаривали, что и сам князь, вкупе с мейстером Абрагамом, стал предпринимать различные магические операции относительно их цели между придворными дамами, камергерами и другими лицами, причастными ко двору, возник приятный спор, исполненный самых нелепых, бессмысленных догадок. Все, впрочем, были согласны в одном: мейстер Абрагам научил князя приготовлять золото, о чем можно было судить по дыму, проникавшему иногда из лаборатории, и что он ввел его во всяческие необходимые для подобных целей конференции духов. Далее, все были твердо убеждены, что теперь князь, прежде чем выдавать патент новому бургомистру местечка или назначать прибавку жалованья придворному истопнику, стал всегда советоваться с созвездиями или с демоном Агатоном, который со спиритами обходится запросто.
Когда старый князь скончался и ему наследовал Иреней, мейстер Абрагам покинул страну. Молодой князь, совсем лишенный отцовской склонности к чудесному и загадочному, не удерживал его; однако вскоре нашел, что магическая власть мейстера Абрагама заключается главным образом в его умении заклинать некоего злого духа, который крайне охотно поселяется при всех маленьких дворах, именно адского духа – скуки. Кроме того, уважение, каким пользовался мейстер Абрагам у старого князя, пустило глубокие корни в душе Иренея. Бывали минуты, когда молодому князю казалось, что мейстер Абрагам – какое-то неземное существо, высоко стоящее надо всем, что считается исключительным в человеческом смысле слова. Говорят, что такое совсем особенное ощущение было следствием некоторого критического незабвенного момента в юношеской истории князя. Раз, будучи еще мальчиком, он с назойливым ребяческим любопытством проник в комнату мейстера Абрагама и весьма нелепым образом разломал одну маленькую машину, которую мейстер только что окончил с большими хлопотами и необычайным искусством; мейстер в страшном гневе на неловкость глупого князька дал ему увесистую пощечину и потом тотчас же с некоторой не вполне ласкательной поспешностью вывел его из своей комнаты в коридор. Молодой князь, заливаясь слезами, мог только с трудом промямлить: «Abraham… soufflet…»[16 - «Абрагам… пощечина…» (фр.)] Обескураженный обер-гофмейстер подумал, что это было наказание за дерзкую попытку проникнуть в страшную тайну, которую он мог только подозревать.
Князь Иреней теперь живо чувствовал потребность иметь при себе мейстера Абрагама, как одухотворяющее начало в механизме придворной жизни, но все усилия вернуть его назад были напрасны. И только после роковой прогулки, когда князь Иреней потерял свои владеньица, когда он устроил в Зигхартсвейлере свой химерический двор, мейстер Абрагам снова вернулся и не мог выбрать для возвращения более подходящего времени. Потому что, кроме всего другого…
(М. прод.) …рассказу о достопримечательном событии, которое, выражаясь обычным слогом остроумных биографов, открывает новую эпоху моей жизни.
Читатели! Вы, о юноши, мужчины и женщины, под чьей шерстью бьется чувствительное сердце, чья душа наклонна к добродетели, чей ум познает сладостные узы, соединяющие нас с природой, вы поймете меня и полюбите.
Солнце жгло, целый день я проспал под печкой. Но вот надвинулись сумерки и свежий ветер с шепотом проник через открытое окно в комнату моего воспитателя. Я пробудился от сна, грудь моя расширилась, вся охваченная невыразимым, странным ощущением, и сладким, и мучительным, соединенным с нежнейшими предчувствиями. Под наплывом этих предчувствий я выпрямился и сделал то самое многозначительное движение, которое равнодушный человек в холодности своей обозначает словами «выгнуть спину». Прочь отсюда – на волю влекло меня, к свободной природе, – я удалился на крышу и бродил там в лучах заходящего солнца. Вдруг услышал я звуки – они неслись с чердака, – такие нежные, тихие, родные, обворожительные; какое-то незнакомое чувство с непобедимой силой повлекло меня вниз. Покинув красоты природы, я через узкое слуховое окно прополз на чердак. Как только спрыгнул я вниз, заметил тотчас же большую, прекрасную кошку, покрытую белыми и черными пятнами. Она сидела на задних лапках в позе весьма комфортабельной и испускала соблазнившие меня звуки, и смотрела на меня проницательным, пристальным взглядом. Во мгновение ока я сел против нее и, уступая внутреннему порыву, попытался запеть в унисон с пятнистой красавицей. Должен сознаться, что это удалось мне необычайно. Именно с этого момента (делаю данное замечание для психологов, занятых изучением моей жизни и моих произведений) начинается во мне вера в мой природный музыкальный талант, а вместе с верой появляется естественно и самый талант. Пятнистая певунья посмотрела на меня пристальнее и внимательнее, вдруг замолчала и, сделав гигантский прыжок, подскочила ко мне. Не ожидая ничего хорошего, я выпустил свои когти, но в то же самое мгновение пятнистая дама воскликнула, роняя из глаз серебристые слезы:
– Сын мой, о, сын мой! Приди, поспеши в мои лапы!
И потом, обнимая меня, с теплым чувством прижимая меня к груди своей, продолжала:
– Это ты, ты мой сын, мой добрый сын, которого я родила без особенных мук!..
Я почувствовал себя потрясенным до глубины души, и уже это одно должно было убедить меня, что я действительно вижу перед собой родную мать; тем не менее я все-таки спросил, уверена ли также и она, что это вполне несомненно.
– Еще бы, это сходство! – воскликнула она. – Эти глаза, это выражение лица, эта борода, этот мех – все, все напоминает мне слишком живо неблагодарного изменника, который бросил меня. Ты вылитый портрет твоего отца, милый Мурр (ведь ты именно так зовешься); я, однако, надеюсь, что с красотой отца ты соединил нежные помыслы и кроткий характер матери Мины. У отца твоего был весьма внушительный вид: его важный высокий лоб производил импонирующее впечатление, в зеленых глазах светился живой ум, а на щеках играла приятная улыбка. Эти физические преимущества вместе с его остроумием и известной любезной легкостью, с которой он ловил мышей, покорили мое сердце. Но скоро выказался его жестокий тиранический характер, который он так долго, так искусно скрывал. Я с ужасом говорю это! Едва только ты родился, как твоему отцу пришло нечестивое желание съесть тебя вместе с твоими братьями и сестрами.
– Любезная мамаша, – прервал я рассказ пятнистой дамы, – не осуждайте так всецело это желание. Образованнейший в свете народ приписывает самим богам этот неизъяснимый аппетит к пожиранию собственных детей. Но Юпитер был спасен, а также и я!
– Я тебя не понимаю, сын мой, – возразила Мина. – Но кажется мне, что ты как будто говоришь совершенный вздор или хочешь защищать твоего отца. Не будь неблагодарным! Ты, наверное, был бы задушен и съеден кровожадным тираном, если бы я с отвагой не защищала тебя этими острыми когтями, если бы не спасла тебя от преследований противоестественного варвара, с быстротой стрелы убегая то туда, то сюда: в подвал, на чердак и в конюшни. Он оставил меня, наконец! С тех пор я его никогда не видала! Но все еще бьется любовь к нему в сердце моем! Это был прекраснейший кот! Благодаря его тонким манерам, его важной осанке, многие принимали его за путешествующего графа.
Я уже решила вести спокойную тихую жизнь, ограничив свои интересы домашней сферой материнских обязанностей, но меня должен был поразить еще страшнейший удар. Когда я однажды вернулась с прогулки домой, от тебя и от братьев твоих и сестер и следа не осталось. За день перед этим одна старая женщина открыла меня в моем убежище, и я слышала, как она говорила какие-то загадочные слова о том, что кого-то нужно бросить в воду. Ну, слава богу, ты спасен, сын мой. Прижмись еще раз к груди моей, о возлюбленный!
Пятнистая мамаша ласкала меня с сердечной нежностью и расспрашивала о подробностях моей жизни. Я все рассказал ей, не забыв упомянуть при этом о моем высоком образовании и о том, как я достиг своего развития.
Мина казалась менее тронутой редкостными качествами сына, чем этого можно было ожидать. Она даже вполне недвусмысленно дала мне понять, что я со всем моим необычайным гением и моими глубокими научными познаниями попал на ложный путь, который может привести меня к дурным результатам. А в особенности она предостерегала меня не открывать приобретенных мною знаний мейстеру Абрагаму, потому что он только будет эксплуатировать меня и держать в самом стеснительном рабстве.
– Сама я, – проговорила Мина, – не могу похвастаться образованием, подобным твоему, между тем у меня отнюдь нет недостатка в природных способностях и приятных талантах. В числе этих последних я должна, например, назвать прирожденное мое уменье испускать из своего меха яркие искры, когда меня гладят. И сколько же неприятностей доставил мне этот один талант! Дети и взрослые беспрестанно шаркают по моей спине, для того чтобы – на муку мне – производить такой фейерверк; если же я с неудовольствием отпрыгиваю в сторону или показываю когти, меня называют диким животным, а иногда даже бьют. Подобно этому, как только мейстер Абрагам узнает, что ты можешь писать, он тебя сделает своим переписчиком, и ты будешь по принуждению делать то, что теперь делаешь по доброй воле и для собственного удовольствия.